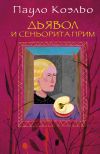Текст книги "Протекционизм и коммунизм"

Автор книги: Фредерик Бастиа
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Весь дух революции, с занимающей нас сейчас точки зрения, можно уместить в нескольких небольших цитатах из высказываний разных лиц и из разных документов. Чего хотел Робеспьер? «Поднять души на высоту республиканских добродетелей античных народов» (3 нивоза года III). Чего хотел Сен-Жюст? «Быть счастливыми как Спарта и Афины» (23 нивоза года III). Кроме того, он хотел, «чтобы все граждане носили под одеждой нож Брута» (тогда же). Чего хотел кровожадный Карье?23 «Чтобы вся молодежь видела сожженную руку Сцеволы, цикуту Сократа, смерть Цицерона и меч Катона». Чего хотел Рабо Сент-Этьен?24 «Чтобы, согласно принципам критян и спартанцев, государство владело человеком с колыбели и даже до его рождения» (16 декабря 1792 г.). Чего хотела секция «пятнадцати-двадцати»?25 «Чтобы была создана церковь, проповедующая свободу, и чтобы был сооружен алтарь с вечным огнем, пламя в котором поддерживали бы юные весталки» (21 ноября 1794 г.). Чего хотел весь Конвент? «Чтобы в наших коммунах жили только Бруты и Публиколы26» (19 марта 1794 г.).
Тем не менее все эти сектанты были чистосердечны, но, значит, и более опасны, ибо чистосердечность и искренность в ошибке и заблуждении есть фанатизм, а фанатизм – это сила, особенно когда он воздействует на массы, уже подготовленные терпеть его деяния. Всеобщий энтузиазм в пользу того или иного типа социального устройства далеко не всегда стерилен, и общественное мнение, просвещенное или заблуждающееся, в конце концов правит миром. Когда какая-либо из таких фундаментальных ошибок – к примеру, прославление античности – проникает через систему образования во все мозги, едва в этих мозгах забрезжится первый проблеск интеллекта, и когда таким образом мышление людей застывает в состоянии конвенционализма, она, эта ошибка, толкает умы к действиям. Тогда революция ударяет в колокол экспериментов, и кто знает, под каким ужасным именем выступит тот, кого столетием ранее называли Фенелоном? Он мог бы изложить свою идею в романе, но он взошел на эшафот; он мог бы оставаться поэтом, но стал мучеником; он мог бы забавлять общество, но он потряс его до основания.
И все же в действительности существует сила, превосходящая конвенционализм, даже самый всеобщий. Когда образование посеяло в обществе свое губительное семя, в нем не исчезла сила консерватизма, которая освобождает его и в долговременной перспективе освободит, через страдания и слезы, от этого гибельного, смертоносного семени.
Так что когда коммунизм в достаточной степени напугал и скомпрометировал общество, последовала неизбежная реакция. Франция стала отступать к деспотизму. В своем пылу она распродала даже правомерные и ценные завоевания революции. Появились консульство и империя. Но, увы, надо ли говорить, что пристрастие к Риму преследовало страну и в этой новой фазе? Античность не ушла, она оставалась, чтобы оправдывать все формы насилия. От Ликурга до Цезаря – множество моделей, из которых можно сделать любой выбор. Так что – и я воспроизвожу тут слова г-на Тьера – «побывав афинянами вместе с Вольтером, мы были спартанцами при Конвенте и солдатами Цезаря при Наполеоне». Разве не приходится признать, что наша любовь к Риму оставила глубокую печать и на этой эпохе? О Боже, эта печать повсюду! Она в архитектуре зданий, в монументах, в литературе, даже в моде одежды в императорской Франции. Она в забавных, смешных названиях наших институций. Ведь не случайно же повсюду выросли, как грибы, консулы, император, сенаторы, трибуны, префекты, сенатские решения, троянские колонны, легионы, Марсовы поля, пританейоны (магистраты), лицеи.
Борьба между революционными и контрреволюционными принципами, по-видимому, завершилась в июльские дни 1830 г. С этого времени интеллектуальные силы страны повернулись к изучению социальных вопросов, что само по себе естественно и полезно. К сожалению, импульс к движению человеческого ума опять задал университет, направляя людей в сторону все тех же отравленных источников античности; потому-то нашему несчастному отечеству вновь пережить свое прошлое и повторить прежние тягостные испытания. Как будто мы обречены вечно крутиться в порочном круге: утопия, экспериментирование, реакция; литературный платонизм, революционный коммунизм, военный деспотизм; Фенелон, Робеспьер, Наполеон! Да и может ли быть иначе? Молодежь, из которой рекрутируются литераторы и журналисты, вместо того чтобы открывать и формулировать естественные законы общества, ограничивается повторением греко-римской аксиомы: социальный порядок есть творение законодателя. Ничего себе исходный пункт, открывающий дорогу к неуемному воображению и вечно порождающий социализм! Ибо, если общество есть изобретение, то кто не захочет стать изобретателем? Кто не захочет быть Миносом, Ликургом, Платоном, Нумой, Фенелоном, Робеспьером, Бабефом, Сен-Симоном, Фурье, Луи Бланом, Прудоном? Кто не пожелает себе славы создателя народа? Кого не прельстит титул отца народов? Кто не жаждет перемешивать семью и собственность, как перемешивают химические компоненты?
Но чтобы дать волю фантазии не только в колонках газеты, надо иметь власть, надо занимать то самое центральное место, куда тянутся все нити государственной власти. Таково обязательное предварительное условие всякого экспериментирования. Поэтому каждая секта, каждая школа прилагает и будет прилагать все свои усилия, чтобы прежде всего изгнать правительство уже находящейся у власти школы или секты, и выходит так, что под влиянием классического образования социальная жизнь не может быть ни чем иным, как нескончаемой серией битв и революций, имеющих предметом вопрос о том, какой утопист будет производить опыты с народом как с косной материей.
Да, я обвиняю бакалаврскую систему в том, что она подготавливает всю французскую молодежь к социалистическим утопиям и социальным экспериментам, притом делает это так, как будто готовит ее к неким удовольствиям. И, видимо, отсюда следует весьма странный феномен, а именно неспособность отвергнуть и отбросить социализм, неспособность, проявляемая теми, кому социализм угрожает непосредственно, и они это знают. Буржуа, пролетарии, капиталисты, системы Сен-Симона, Фурье, Луи Блана, Леру, Прудона – все это всего-навсего лишь доктрины. Они ложны, утверждаете вы. Но почему вы их не отвергаете и не изгоняете? Потому что они и вы пьете из одной чаши, потому что вы слишком тесно общаетесь с древними, потому что ваша привязанность ко всему греческому и римскому прямо-таки притиснула вас к социализму.
Оно вообще в душе сидит у вас27.
Ваше уравнивание достояний, ваш закон о вспомоществовании, ваши призывы сделать образование даровым, ваши поощрительные торговые премии, ваша централизация, ваша слепая вера в государство, ваша литература, ваш театр – все свидетельствует, что вы социалисты. Вы отличаетесь от апостолов лишь степенью, но вы движетесь по тому же склону. Вот почему, когда вы отстраняетесь, вместо того чтобы отвергнуть, – вы не умеете отвергать, и вы не можете отвергнуть, не осудив самих себя, – вы ломаете себе руки, рвете на себе волосы, призываете установить режим гнета и причитаете: «Франция уходит!»
Нет, Франция не уходит. А происходит вот что: пока вы предаетесь бесплодным стенаниям, социалисты отрекаются от самих себя. Его доктора ведут между собой открытую войну. Фаланстеры забыты, триада28 забыта, национальные мастерские забыты, ваше уравнивание состояний законодательным путем будет забыто. Что остается? Даровой кредит. Почему вы не доказываете его абсурдность? Увы, вы сами его придумали. Вы проповедовали его тысячу лет. Когда вам не удалось удушить процент, вы его регламентировали. Вы подчинили его некоему максимуму, давая тем самым понять, что собственность есть творение закона, то есть повторяя и подхватывая идею Платона, Ликурга, Фенелона, Роллена, Робеспьера, а это, не побоюсь утверждать, есть эссенция и квинтэссенция не только социализма, но и коммунизма. Так что не расхваливайте мне обучения, которое ничему вас не обучает из того, что вы должны были бы знать, и которое обессиливает вас и делает немыми перед первой же химерой, родившейся в мозгу сумасшедшего. Вы не в состоянии противопоставить истину заблуждению, так не мешайте, по меньшей мере, тому, чтобы заблуждения сами пожрали друг друга. Остерегайтесь вздергивать на штыки утопистов и тем самым возводить их пропаганду на пьедестал мучеников и преследуемых. Дух и ум трудящихся масс, а быть может, и средних классов, отнюдь не чужды большим социальным вопросам. Они найдут словам «семья», «собственность», «свобода», «справедливость», «общество» другие определения, нежели те, которые внушаются нам вашим образованием. Они возьмут верх не только над тем социализмом, который провозглашает себя таковым, но и над социализмом вовсе не ведающим, что он социализм. Они покончат с вашим всеобщим вмешательством государства, с вашей централизацией, с вашим фальшивым единством, с вашей протекционистской системой, с вашей официальной филантропией, с вашими законами о ростовщичестве, с вашей варварской дипломатией, с вашим монополизированным преподаванием.
Вот почему я и говорю: нет, Франция не уходит. Она выйдет из борьбы более счастливой, просвещенной и организованной, более великой, свободной и нравственной, более религиозной, чем та Франция, которую сотворили вы сами.
В конце концов заметьте одно: когда я восстаю против классического обучения, я не требую запретить его, я требую лишь, чтобы его на не навязывали. Я не говорю государству: заставьте всех придерживаться моего мнения. Я говорю ему: не заставляйте меня подчиняться другому мнению. Разница, как видите, велика, и никаких недоразумений на этот счет быть не может.
Г-н Тьер. Г-н де Рианси29, г-н де Монталамбер, г-н Бартелеми Сент-Илер полагают, что римская атмосфера наилучшим образом формирует сердца и умы молодежи. Пусть так. Пусть они погружают в эту атмосферу своих детей, я им не буду мешать. Но пусть они оставят мне свободу держать как можно дальше моих детей от этого зачумленного воздуха. Господа регламентаторы, то, что представляется вам возвышенным, мне представляется одиозным; то, что удовлетворяет вашу совесть, тревожит совесть мою. Так что действуйте по своему усмотрению, а я буду действовать по усмотрению моему. Я вас ни к чему не принуждаю, почему же принуждаете меня вы?
Вы совершенно убеждены, что с социальной и нравственной точек зрения идеал прекрасного пребывает в прошлом. А я вижу его в будущем. «Осмелимся сказать веку, гордому самим собой, – говорил г-н Тьер, – что античность – это самое прекрасное в мире». Что до меня, то мне повезло, что я не разделяю столь огорчительного мнения. Я говорю огорчительного, потому что оно, в силу некоего фатального закона, обрекает человечество на неуклонную деградацию. Вы перемещаете совершенство к началу времен, я – к концу. Вы расцениваете общество как ретроградное, я расцениваю его как прогрессивное. Вы убеждены, что наши мнения, идеи, обычаи должны быть как можно аккуратнее разлиты по античным формам и именно так переплавлены; я изучал социальный порядок Спарты и Рима и вижу в нем лишь насилие, несправедливость, ложь, вечные войны, рабство, всякие гнусности, фальшивую политику, фальшивую мораль, фальшивую религию. То, чем вы восхищаетесь, я ненавижу и отношусь ко всему этому с омерзением. В конце концов, оставьте ваше суждение при себе, а мое при мне. Мы же не адвокаты, из которых один выступает за классическое образование, другой против, а суд своим решением насилует мою совесть или вашу. Я требую от государства единственно нейтралитета. Я требую свободы для вас, как и для себя. При этом я имею перед вами преимущество, которое заключается в беспристрастности, сдержанности и скромности притязаний.
Перед нами открываются три источника образования: государственный, церковный и, так сказать, свободный.
Я требую только того, чтобы последний вид образования был действительно свободным и мог опробовать новые и благодатные пути. Пусть университет преподает то, что ему дорого, – греческий и латынь; пусть церковь преподает то, чему научилась сама, – греческий и латынь. Пусть он и она будут делать платоников и трибунов, но пусть они не мешают нам формировать, совсем другими методами, людей для нашей страны и нашего века.
Ибо, если нас лишат этой свободы, какой горькой насмешкой будут звучать слова, которые мы слышим каждый день: «Вы свободны!»
На заседании 23 февраля г-н Тьер сказал, вот уже в четвертый раз, следующее:
«Я повторяю и буду повторять то, что уже говорил: свобода, предоставляемая нам законом, который мы сами приняли, – это свобода, соответствующая Конституции.
Попробуйте доказать мне обратное. Докажите мне, что это не свобода. Что касается меня, то я утверждаю, что никакой другой свободы нет и быть не может.
Было время, когда никто не мог преподавать без разрешения правительства. Мы отменили это предварительное разрешение, и преподавать может каждый.
Было время, когда указывали: преподавайте то-то и то-то и не преподавайте того-то и того-то. Сегодня мы говорим: преподавайте все, что желаете преподавать».
Печально слышать такой вызов и быть обреченным на молчание. Если бы слабость моего голоса не помешала мне подняться на трибуну, я ответил бы г-ну Тьеру.
Посмотрим все-таки, к чему сводится, с точки зрения преподавателя, отца семейства и вообще общества, эта самая свобода, которая, как вы утверждаете, бьет через край.
К примеру, сообразуясь с вашим законом, я основываю колледж. Мне надо оплачивать пансион, купить или нанять помещение, кормить учащихся и оплачивать преподавателей. Но рядом с моим колледжем находится лицей. Он не оплачивает помещение и преподавателей. Эти расходы несут налогоплательщики, включая меня. Он, следовательно, может нести меньше расходов на пансион, а мое предприятие оказывается невозможно. Это и есть свобода? И все-таки мне остается одна возможность: сделать мою систему образования настолько выше вашей, настолько затребованной публикой, что она обратится ко мне несмотря на сравнительную дороговизну, на которую вы меня обрекли. Но и тут вы встречаете меня и говорите: преподавайте что вам угодно, но если вы отклонитесь от моих правил, путь к карьере вашим ученикам будет закрыт. Это и есть свобода?
Допустим теперь, что я отец семейства. Я помещаю моих сыновей в свободное учебное заведение. В каком положении я оказываюсь? Как отец я плачу за образование моих детей, и никто мне в этом не помогает; как налогоплательщик и как католик я оплачиваю обучение детей других отцов, так я не могу не платить налога, идущего на лицеи, а в дни поста бросаю пригоршню монет в шапку моего собрата, собирающего деньги на поддержание семинарий. В этом последнем случае я, по крайней мере, свободен и могу не кидать монет. А свободен ли я в том, что касается налога? Нет, нет, вы должны говорить, что проявляете солидарность, в социалистическом смысле слова, но не утверждайте, что вы свободны!
Все это лишь одна, и притом небольшая, часть вопроса. В нем еще заключено нечто гораздо более серьезное. Я предпочитаю свободное образование, потому что ваше официальное образование (которое вы заставляете меня оплачивать, хотя я им не пользуюсь) представляется мне коммунистическим и языческим. Моя совесть не позволяет мне, чтобы мои дети были пропитаны спартанскими и римскими идеями, которые – по моему мнению, по меньшей мере, – суть лишь прославляемые насилие и разбой. Поэтому я соглашаюсь, вынужденно соглашаюсь, сам оплачивать пансион моих детей да еще платить налог на других детей. Но что я получаю взамен? Я обнаруживаю, что ваше образование, основанное на мифах и воинственности, косвенно внедряется в свободный колледж посредством хитрого механизма ваших ученых степеней, и я должен приглушить мою совесть и уступить вашим взглядам, иначе мои дети окажутся париями общества. Вы четыре раза сказали мне, что я свободен. Вы можете сказать мне это сто раз, и я сто раз вам отвечу: нет, я не свободен.
Так оставайтесь же непоследовательным, ибо вы не можете избежать непоследовательности, и я согласен с вами, что при нынешнем настрое общественного мнения вы не сможете закрыть официальные колледжи. Но поставьте хотя бы какой-то предел вашей непоследовательности. Разве вы не сетуете каждодневно на умонастроения молодежи? Разве не печалитесь, что она склонна к социализму; что она далека от религиозных идей; что она страстно любит военные походы, настолько страстно, что на всех наших собраниях, совещаниях, встречах следует опасаться произносить слово «мир» и принимать всяческие меры ораторской предосторожности, когда речь заходит об иностранцах? Столь печальные явления, видимо, имеют свою причину. Так вот, если говорить откровенно, неужели вы не признаете, что свою роль в этом сыграло и играет ваше мифологизированное, платонизированное, военизированное и, так сказать, мятежное образование? Однако я не требую от вас переменить его на другое, это было бы для вас слишком непосильное требование. Но я говорю вам: поскольку вы позволяете родиться, рядом с вашими лицеями и в очень трудных условиях, школам, которые именуются свободными, то позвольте также им двинуться, на их собственный страх и риск, путями христианскими и научными. Игра стоит свеч. Как знать? Быть может, это и будет прогресс. А вы хотите задушить его в зародыше!
Наконец, рассмотрим вопрос с точки зрения общества и сразу же заметим, что было бы странным видеть общество свободным в сфере образования, когда преподаватели и отцы семейств не свободны в этой самой сфере.
В первой же фразе доклада г-на Тьера о среднем образовании, с которым он выступил в 1844 г., содержится страшная истина:
«Народное образование – это, быть может, главнейшая забота цивилизованной страны, и поэтому оно выступает главнейшим предметом всяческих устремлений политических партий».
Думается, что отсюда надо сделать вывод: нация, не желающая стать добычей партий, должна поспешить упразднить государственное образование и провозгласить свободу образования. А если оно будет оставаться под надзором и контролем властей, то партии всегда будут иметь дополнительный мотив овладеть властью, поскольку тем самым они овладевают и образованием, которое является главнейшим предметом их амбиций. Разве не наблюдаем мы ныне неуемную жажду власти и разве не вызывает эта жажда борьбу, революции, беспорядок? И разве мудро поступать, оставляя столь лакомую приманку в виде возможности огромного влияния на людей?
Почему партии стремятся управлять образованием? Потому что они знают и помнят слова Лейбница: «Сделайте меня учителем, и я изменю облик мира». Образование через власть – это образование через партию, через секту, временно одержавшую победу; это образование в угоду какой-то идеи, какой-то из ряда вон выходящей системы. «Мы сделали республику, – говорил Робеспьер, – нам остается сделать республиканцев». И такая попытка была повторена в 1848 г. Бонапарт хотел делать только солдат, Фрейсину30 – только богомольцев и святош, Виллемен31 – только ораторов и краснобаев, г-н Гизо32 – только доктринеров, Анфантен33 – только сен-симонистов, а тот, кто сейчас возмущается столь глубоким падением человечества, если он займет положение, при котором сможет сказать: «Государство – это я», – такой человек, наверное, поддастся искушению сделать всех экономистами. Да разве не бросается в глаза опасность дать в руки дерущимся между собой за власть партиям повод и возможность навязать всем и навязать единообразно свои убеждения – да что я говорю? – свои заблуждения, причем навязать силой? Ибо что может быть заманчивее, чем применение силы, чтобы законодательным путем запретить всякую другую идею, кроме той, которая внедрилась в собственную голову?
Подобная претензия есть, по существу, претензия монархическая, хотя все считают себя республиканцами, потому что она зиждется на допущении, что все управляемые существуют для управителей, что общество принадлежит власти и что власть должна перекроить общество по своему образу и подобию, тогда как согласно нашему государственному праву, купленному дорогой ценой, власть исходит от общества и призвана выражать интересы и чаяния общества.
Что до меня, то я не могу постичь, как это так получается, что республиканцы охотно признают и одобряют существование абсурдного порочного круга: из года в год, посредством всеобщего голосования, национальная идея воплощается в магистратах, но тотчас эти магистраты, будучи избранными, корежат на свой лад национальную идею.
Такая доктрина, по всей логике вещей, ведет к двум утверждениям: национальная идея ложна, правительственная идея безупречна.
А если так, то вы, республиканцы, восстанавливайте себе на здоровье все сразу – автократию, государственное образование, богоданную законность и право, абсолютную власть, безответственную и безупречную, все институции, действующие по одному принципу и питаемые одним источником.
Если есть в мире безупречный человек или безупречная секта, отдадим ему или ей не только образование, но и вообще все властные полномочия, и покончим с этим делом. Будем просвещаться как сможем, но не отречемся от системы.
И вот я повторяю мой вопрос: с социальной точки зрения, реализует ли свободу закон, который мы сейчас обсуждаем?
Существовал когда-то университет. Всякому, кто хотел заниматься преподаванием, требовалось его разрешение. Он внедрял свои идеи и методы, и каждому приходилось их усваивать. Так что он был, если воспользоваться мыслью Лейбница, учителем поколений и, видимо, поэтому ректор университета носил многозначительный титул «великого магистра».
Теперь все это ушло в прошлое. За университетом остались два предназначения: 1) право определять, что именно следует знать, чтобы получить ту или иную ученую степень; 2) право закрывать множество путей для карьеры тем, кто не подчиняется первому праву.
Да это пустяк! – говорят многие. А я говорю: такой пустяк есть все.
Это заставляет меня хотя бы кратко высказаться об одном слове, которое часто произносится в нынешних дебатах. Слово это – «единство». Немало людей усматривают в бакалаврской системе способ придать всем интеллектам определенное направление, пусть не совсем разумное и полезное, но по крайней мере единообразное и уже этим хорошее.
Сторонников и почитателей единства очень много, да оно и понятно. В силу некоего провиденциального указания все мы верим в правоту нашего собственного суждения и полагаем, что нет в мире другого истинного и справедливого суждения, кроме нашего. Поэтому мы полагаем, что законодатель поступит наилучшим образом, если навяжет его всем, а для большей надежности мы все сами хотим стать законодателями. Однако законодатели приходят и уходят, и что же получается? А получается то, что при каждой перемене их состава одно единство заменяется другим. Государственное образование, обеспечивающее его единообразие, рассматривается и определяется отдельно для каждого периода. И если выстроить эти периоды в один ряд – например, Конвент, Директорию, империю, реставрацию, Июльскую монархию, республику, – то мы увидим необыкновенное разнообразие и, хуже того, увидим самое подрывное из всех разнообразий, а именно то, которое совершает перемены в интеллектуальной сфере прямо на глазах у всех, как в театре, где по своему произволу орудуют машинисты сцены. Неужели мы так и будем оставаться наблюдателями падения национального интеллекта, общественного сознания до самого дна, до недостойной и позорной низости?
Есть два сорта единства. Первый – это исходный пункт. Единство устанавливается силой, вернее теми, кто обладает силой в тот или иной момент. Другой сорт – это результат, большое, так сказать, потребление способностей человека к самосовершенствованию. Такое единство проистекает из естественного тяготения интеллектов к правде, к истине.
Первый сорт, или вид, единства имеет своим принципом презрение к роду человеческому, а инструментом – деспотизм. Робеспьер был приверженцем единства, унитаристом, когда говорит: «Я сделал республику, теперь я буду делать республиканцев». Наполеон был унитаристом, когда говорил: «Я люблю войну, и я сделаю всех французов воинами». Фрейсину был унитаристом, когда говорил: «Я верую, и с помощью образования я заставлю разделять мою веру всех». Прокруст был унитаристом, когда говорил: «Вот ложе, и я укорочу или удлиню всякого, кто не будет соответствовать его размерам». Бакалаврская система унитарна, когда говорит: «К социальной жизни не будет доступа никому, кто не выполнит мою программу». И пусть не ссылаются на то, что Высший совет сможет каждый год менять эту программу, ибо невозможно придумать что-нибудь более серьезное, чем уже сказанное. А как же? Ведь вся нация уподоблена глине, и горшечник может разбить горшок вдребезги, если ему покажется, что изделие у него не получилось.
В своем докладе в 1844 г. г-н Тьер прямо-таки восторгался такого рода единством и очень сожалел, что оно мало соответствует гению современных народов.
«Страна, где не господствует свобода образования, – говорил он, – это такая страна, где государство, вдохновленное собственной абсолютной волей, желающее вливать молодежь, как металл, в одну и ту же форму, чеканить ее как монету со своим собственным, государства, изображением, не терпит никакого разнообразия в системе образования и заставляет детей многие годы жить под одной крышей, кормит их одной и той же пищей, обучает их одним и тем же предметам, заставляет делать одни и те же упражнения, сгибает и ломает их…» и т. д.
«Остережемся, однако, – добавляет он, – осуждать это намерение государства обеспечить единство нации, остережемся называть его проявлением тирании. Напротив, почти можно сказать, что такая сильная воля государства привести всех граждан к общему типу образования пропорциональна патриотизму в стране. В античных республиках, где отечество обожали и верно служили ему, эта воля выражалась в самых строгих требованиях к нравам и умонастроениям граждан… И мы, которые в прошедшем веке являли собой все грани человеческого общества, мы, побывав афинянами вместе с Вольтером, спартанцами вместе с Конвентом, солдатами Цезаря при Наполеоне, хотя мы и подумывали об установлении абсолютной власти государства над образованием, но мы думали так при Национальном конвенте, то есть в момент высочайшего взлета патриотизма».
Воздадим должное г-н Тьеру. Он не предлагал следовать этим примерам. «Не нужно, – говорил он, – ни подражать, ни бичевать. Это был исступленный восторг, но восторг патриотизма».
И все-таки г-н Тьер остается верен своему суждению о древности: «Античность – вот самое прекрасное в мире». В его словах проглядывает тайное предрасположение к абсолютному деспотизму государства, инстинктивное восхищение институциями Крита и Лакедемона, которые давали законодателю власть бросать всю молодежь в плавильный котел, чеканить из нее монету с изображением законодателя и т. д., и т. п.
Снова и снова не могу не проследить здесь – ибо это входит в мою тему – следы классического конвенционализма, который побуждает нас восторгаться античностью и считать добродетелью то, что было результатом самой жестокой и самой безнравственной необходимости. Восхваляемые нами древние – и я не устану повторять это – жили разбоем и грабежом и не прикасались к орудиям труда. Весь род человеческий был их врагом. Они обрекли себя на вечную войну, и перед ними стояла вечная альтернатива: всегда побеждать или погибнуть. Поэтому у них не было и не могло быть иного ремесла, кроме как быть солдатом. Их сообщество вынуждено было единообразно развивать у всех граждан воинские качества, и граждане подчинялись именно такому единству, потому что оно было гарантией их собственного существования34.
Но что общего между этими варварскими временами и временами нынешними?
По какому конкретному и определенному объекту могут сегодня дружно ударить все граждане, вылитые как одна монета с одним изображением? Неужели все они предназначают себя для разных, но всегда высоких карьер? На чем они основываются бросаясь в общий плавильный котел, и кому принадлежит этот котел? Вопрос чрезвычайно сложен, и над ним надо много размышлять. Кому принадлежит котел? Если он один (не бакалаврство ли?), то каждый хочет не быть расплавленным, а быть плавильщиком – г-н Тьер, г-н Паризи35, г-н Бартелеми Сент-Илер, я, красные, белые, синие, черные. Приходится, значит, биться друг с другом, прежде чем решить этот предварительный вопрос, который все время появляется вновь и вновь. А не проще ли разбить вдребезги этот чертов котел и спокойно провозгласить свободу?
Это тем более проще и лучше, что свобода есть та почва, на которой произрастает подлинное единство, окруженное животворящим воздухом. Конкуренция способствует появлению добротных методов всяческих действий, универсализирует их и устраняет методы негодные. Ведь было бы вполне правомерно признать, что дух человеческий самым естественным образом больше тяготеет к истине, чем к заблуждению, больше склоняется к добру, чем к злу, больше ценит полезное, чем губительное. Если бы дело обстояло иначе, если бы истине было естественным образом уготовано падение, а лжи взлет, то все наши усилия были бы тщетны, и человечество фатально скатывалось бы, как полагал Руссо, к неминуемой и прогрессирующей деградации. Тогда надо было бы повторить вслед за г-ном Тьером: «Античность – это самое прекрасное в мире», – и это выражало бы не только заблуждение, но и проклятие вместе с богохульством. Интересы людей, если их верно понимать, взаимно гармоничны, и понять это помогает свет, брызжущий все ярче и ярче. Поэтому индивидуальные и коллективные усилия, опыт, даже движение ощупью, даже огорчения и разочарования – одним словом, конкуренция, свобода – побуждают людей тянуться к такому единству, которое есть выражение законов их природы и реализация всеобщего благосостояния и благополучия.
Как же так получилось, что либеральная партия впала в столь странное противоречие, не признавая свободу, достоинство, способность людей к самосовершенствованию и предпочитая всему этому противоестественное и фальшивое единство, которое ведет к застою, деградации и навязывается людям всеми деспотическими режимами ради господства самых разнообразных, но всегда тоже деспотических систем?
Причин тому несколько. Прежде всего, эта партия несет на себе, как все и вся, римскую печать классического образования. Разве вожаками ее не были бакалавры? Далее, она надеется заполучить, через все парламентские перипетии, драгоценный инструмент, все тот же интеллектуальный котел, вожделенный предмет, согласно г-ну Тьеру, все вожделений и амбиций. Наконец, вынужденная оборона против агрессии Европы в 92-м году немало способствовала во Франции идее могучего единения и единства.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.