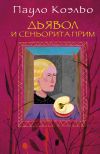Текст книги "Протекционизм и коммунизм"

Автор книги: Фредерик Бастиа
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Высшее образование и социализм
Граждане представители,
Я представил Собранию предложение об упразднении университетских степеней1. Здоровье не позволяет мне обосновать и развить его с трибуны. Позвольте мне прибегнуть к перу2.
Вопрос чрезвычайно серьезен. Какие бы недостатки ни имел закон, разработанный вашей комиссией, я полагаю, что он означал бы бесспорный успех по сравнению с нынешним состоянием народного образования, если были бы приняты предлагаемые мной поправки.
Университетские степени имеют троякое неудобство: они униформизируют образование (униформизация не есть единство) и обездвиживают его, придав ему тупиковое и губительное направление.
Если и есть что-либо на свете прогрессивное по своей природе, так это образование. Ведь оно есть не что иное как передача от поколения к поколению знаний, приобретенных обществом, то есть сокровище, которое с каждым днем становится чище и богаче.
Как же получилось, что образование во Франции остается униформизированным и застойным, восходя к сумеркам Средневековья? А получилось так потому, что оно было монополизировано и оказалось, из-за университетских степеней, внутри замкнутого круга.
Было время, когда для того, чтобы получить хоть какие-то знания, нужно было выучить латынь и греческий в той же мере, в какой баскам и нижним бретонцам3 нужно было выучить французский. Живые языки находились в небрежении, книгопечатание еще не было изобретено, человеческий ум не занимался проникновением в тайны природы. Быть образованным означало знать то, о чем мыслили Эпикур и Аристотель. Люди высокого положения кичились тем, что не умеют читать. Единственным классом, обладателем и носителем образования, были писцы и письмоводители. Каким могло быть тогда образование? Ясно, что оно ограничивалось знанием мертвых языков, главным образом латыни. Книги существовали только на латинском языке, писали только по-латыни; латынь была языком религии; писари могли преподавать лишь то, что знали сами, – все ту же латынь.
Так что в целом в Средние века образование ограничивалось изучением мертвых языков, которые считались языками людей ученых.
Разве естественно, разве нормально, чтобы дело обстояло так же в девятнадцатом веке? Разве латынь есть необходимый инструмент получения знаний? Разве в писаниях, оставленных нам римлянами, можно получить исчерпывающие познания в области религии, физики, химии, астрономии, физиологии, истории, права, морали, промышленной технологии, общественных наук?
Владеть каким-либо языком значит уметь читать, обладать одним из инструментов приобретения знаний. Но не удивительно ли, что мы проводим всю нашу молодость в усилиях по овладению инструментом, не пригодным ни для чего – во всяком случае для очень малого, – как будто нам спешно надо постичь то, что мы все равно скоро забудем? Увы, никчемные знания забываются быстро.
Что бы мы сказали, если бы в Сен-Сире4, где молодежь усваивает военные науки, ее обучали бы лишь метанию камней из пращи?
Закон нашей страны предусматривает, что путь к более или менее достойной карьере закрыт для тех, кто не получил степень бакалавра5. А для того чтобы стать бакалавром, согласно все тому же закону, надо с головой погрузиться в латынь, так что ни для чего другого в этой голове не остается места. И что же из этого выходит, по общему, кстати, признанию? А то, что молодые люди четко высчитали ту минимальную меру, которая необходима для получения этой степени. Вы стонете и причитаете. Так неужели вы не понимаете, что сами выражаете вопль общественного сознания, которое не хочет, чтобы ему навязывали бесполезные усилия?
Сотворить инструмент, о котором заранее известно, что он не издаст ни единого звука, какая это ненормальность, какая странность! Почему же она увековечилась и дошла до наших дней? Причину можно выразить в одном слове: монополия. Да, монополия имеет способность парализовать все, к чему прикасается.
Поэтому я хотел бы, чтобы Законодательное собрание дало жизнь свободе, то есть обеспечило прогресс в системе образования. Сейчас решили, что так не будет. У нас не будет полной свободы. Позвольте же мне попытаться спасти хотя бы ее обломок.
Свободу можно рассматривать с точки зрения людей и по отношению к вещам, утверждают законники, ибо упразднить конкуренцию в способах использования вещей означает не меньшее посягательство на свободу, чем упразднить конкуренцию между людьми.
Некоторые говорят: «Путь к образованию открыт, и каждый волен по нему пойти». Это великая иллюзия.
Государство, а точнее сказать партия, фракция, секта, отдельный человек, оказавшийся на какое-то время и вполне законно у власти, может придать образованию угодное ему направление и, значит, формировать по своей прихоти все умы, пользуясь для этого лишь механизмом ученых степеней.
Дайте кому-нибудь право раздавать степени, и вы будете оставаться свободными в сфере образования, но само образование будет находиться в подчинении этого кого-нибудь.
Допустим, я, отец семейства, и преподаватель, с которым я согласую вопрос об образовании моего сына, мы оба полагаем, что подлинное образование заключается в том, чтобы дать знания о природе вещей и о том, как эти вещи действуют как в физическом, так и в нравственном отношениях. Мы можем думать, что наилучшим образом обучен и подготовлен тот, кто умеет составить себе верное представление о всяческих явлениях и понимать связь причин со следствиями. Однако государство придерживается иного мнения. Оно считает, что быть ученым значит читать наизусть вирши Плавта и цитировать, кстати и некстати, Фалеса и Пифагора.
Как поступает государство? Оно говорит нам: обучайте вашего ребенка чему угодно, но когда ему исполнится двадцать лет, я спрошу его, какие мысли были в головах Пифагора и Фалеса, велю ему продекламировать стихи Плавта, и если он окажется слаб во всех этих областях, которым не посвятил всю свою молодость, он не будет ни медиком, ни адвокатом, ни судьей, ни специалистом по арбитражу, ни дипломатом, ни профессором.
И вот я оказываюсь вынужденным подчиниться, потому что не решусь закрыть перед моим сыном столько прекрасных карьер. Напрасно будете вы мне говорить: что я свободен; я утверждаю, что я не свободен, ибо вы заставляете меня сделать из моего сына педанта – быть может, ужасного маленького краснобая, но во всяком случае, так сказать, неугомонного бездельника.
Ах, если бы знания, требуемые для получения степени бакалавра, хоть в какой-то мере отвечали нуждам и интересам нашего времени! Если бы даже они были просто бесполезными! Но они вредны. Они портят умы и создают проблему, которую на свой лад решают люди, получившие монополию на образование. Попробую обстоятельно и убедительно доказать это.
С самого начала споров по этому вопросу университет и церковь обмениваются взаимными обвинениями словно пулями. Вы развращаете молодежь вашим философским рационализмом, говорит церковь. Вы огрубляете ее вашим религиозным догматизмом, отвечает университет.
Тут на сцену выходят примирители и говорят: религия и философия – сестры; давайте соединим свободный экзамен и авторитет; вы, университет и церковь, вы поочередно бывали монополистами; так разделите монополию между собой, и покончим с этим делом.
Мы слышали, как его преподобие лангрский епископ обвинял университет: «Это вы дали нам социалистическое поколение 1848 г.»
На что г-н Кремье не преминул ответить: «Это вы воспитали революционное поколение 1793 г.»
Если в этих двух выпадах содержится правда, то какой вывод приходится делать? А такой, что оба вида образования были пагубными, причем не ввиду различия между ними, а ввиду сходства. Да, я убежден в том, что в этих двух видах образования есть один общий пункт, а именно чрезмерность классического обучения, поэтому оба вида и извратили способность суждения людей и нравственный облик целой страны. Оба вида различаются лишь тем, что в одном преобладает религиозный элемент, в другом – элемент философский. Тем не менее не эти элементы причинили нам зло, как полагают вышеназванные оппоненты. Напротив, они несколько смягчили зло, потому что они не такие уж варварские, как то, что нам постоянно предлагается, а предлагается нам сплошной латинизм.
Позволю себе привести некую иллюстрацию к сказанному, несколько искусственную, но проясняющую мою мысль.
Предположим, что живут на земном шаре наши антиподы, народ, ненавидящий и презирающий труд и обеспечивающий свое существование, грабя всех своих соседей и используя труд рабов. Политика, мораль, религия, общественное мнение этого народа соответствуют жесткому, даже зверскому принципу, который, однако, сберегает и как-то развивает данный народ. И вот, поскольку Франция дала церкви монополию на образование, последняя не находит ничего лучшего, как послать всю французскую молодежь к этому народу, пожить его жизнью, вдохновиться его чувствами, воспринять его энтузиазм, вдохнуть полной грудью его идеи. Она лишь снабдила каждого отъезжающего учащегося книжечкой, называемой «Евангелие». Воспитанные такие способом поколения возвращаются на родину, и вспыхивает революция. Предоставляю вам самим подумать, какую роль играют в ней эти поколения.
Видя подобную ситуацию, государство вырывает из рук церкви монополию на образование и вручает ее университету. Тот, верный традициям, тоже посылает молодежь к антиподам, к народу-грабителю, народу-рабовладельцу, снабдив ее на сей раз книжечкой с названием «Философия». Едва пять или шесть поколений, получив соответствующее образование, вернулись домой, как разразилась вторая революция. Пройдя ту же школу, что и их предшественники, они повели себя точно таким же образом.
И вот пошла война между монополистами. Это ваша книжка сотворила зло, говорит церковь. Нет, ваша, отвечает университет. Нет, господа, ваши книжки тут не при чем. Зло сотворила странная идея, задуманная и осуществленная обеими сторонами, идея посылать французскую молодежь, предназначенную трудиться и жить в мире и свободе, к бандитскому и рабовладельческому народу, чтобы, общаясь с ним, насквозь пропитаться его чувствами и мнениями.
Я утверждаю, что подрывные доктрины, именуемые социализмом или коммунизмом, – вот плоды классического образования независимо от того, руководит ли им церковь или университет. Добавлю к этому, что сохраняющаяся степень бакалавра насильственно введет классическое образование даже в так называемые свободные школы, о создании которых, как говорят, скоро должен быть принят закон. Вот почему я требую упразднения степеней.
Латынь очень хвалят как способ развить интеллект, но это сугубая условность. Древние греки не знали латыни, но были достаточно развиты интеллектуально. Мы видим, что и французские женщины, не знающие латыни, не лишены разума и здравого смысла. Странно полагать, что человеческий ум может развиваться, лишь впадая в заблуждение. Неужели непонятно, что весьма проблематичная ценность латинского языка приобретается слишком дорогой ценой, ибо в самую душу Франции вместе с языком римлян проникают их идеи, чувства, мысли и, карикатурно преобразуясь, их нравы и обычаи.
С тех пор как Господь вынес людям свой вердикт: «Будете вкушать ваш хлеб, добывая в поте лица своего», – с этих пор поддержание собственного существования стало для них таким великим и всепоглощающим делом, что крайне разнообразились их способы действий по жизнеобеспечению, их обычаи, привычки, суждения, мораль, социальное устройство.
Народ, живущий охотой, не может быть похож на народ, живущий рыбной ловлей; скотоводы не могут быть похожи на мореплавателей.
Но все эти различия – ничто по сравнению с коренной разницей между двумя народами, из которых один живет трудом, а другой – кражей.
Между охотниками, рыбаками, скотоводами, земледельцами, торговцами, фабрикантами имеется то общее, что все они удовлетворяют свои нужды, воздействуя на те или иные вещи, добывая, обрабатывая их и т. п. Единственное, что они хотят подчинить себе, – это природа.
Но люди, добывающие себе средства существования грабежом, имеют объектом своей деятельности других людей. Они жадно стремятся господствовать над себе подобными.
В любом случае для существования людей необходимо их воздействие на природу, именуемое трудом.
Обычно плодами такого воздействия пользуется сам народ, осуществляющий его. Но бывает и так, что плоды эти вырываются из рук народа другим народом, господствующим над народом-тружеником.
Я не буду здесь развивать дальше эту мысль, но поразмышляйте над ней и вы убедитесь, что между двумя агломерациями людей, в столь разных условиях, разница должна быть во всем – в нравах, обычаях, суждениях, организации, морали, религии. Различия и противоположности доходят до такой степени, что одинаковые слова, выражающие фундаментальные отношения, такие как семья, собственность, свобода, добродетель, общество, правление и правительство, республика, народ, имеют у противоположных друг другу народов совсем разный смысл и содержание.
Народ воинственный скорее всего полагает, что наличие семьи может ослабить храбрость солдата (да и мы так полагаем, поскольку запрещаем нашим солдатам заводить семью). Однако численность населения не должна убывать. Как решить проблему: да ее уже решили Платон теоретически, а Ликург практически: проблема решается кровосмесительством. А ведь Платон, Ликург – вот имена, которые нас научили произносить с чувством трепетного идолопоклонства.
Что касается собственности, то я убежден, что во всей античности не найдется ее приемлемого определения. Мы, в наше время, говорим: человек есть собственник самого себя, а следовательно, и своих способностей, и продукта применения своих способностей. Но могли ли римляне так думать: Владельцы рабов, могли ли они сказать, что человек принадлежит самому себе? Презирая труд, могли ли они утверждать, что человек – хозяин продукта своих способностей? Это означало бы для них возвести в систему коллективное самоубийство.
На чем же древние основывали понятие собственности? На законе, проникнутом самой зловещей идеей в мире, потому что идея эта оправдывает употребление и злоупотребление всем тем, что закону заблагорассудится объявить собственностью, будь то плод человеческого труда или даже сам человек.
В те варварские времена не лучше обстояло дело и со свободой. Что такое Свобода с большой буквы? Это совокупность самых разных свобод. Быть свободным, под свою ответственность, думать и действовать, говорить и писать, трудиться и торговать, преподавать и обучаться – вот они, эти свободы. Может ли так понимать свободу настроенный на нескончаемую войну? Нет, конечно. Римляне проституировали это понятие, называя свободой некую отвагу в раздорах и междоусобицах по поводу дележа военной добычи. Главари, лидеры желали забрать все, народ требовал своей доли. Отсюда – бурные собрания в Форуме, шествия на Авентинском холме, выступления трибунов, популярность заговорщиков. Отсюда пословица «Лучше умереть свободным…», перешедшая и в наш язык. Еще учась в колледже, я начертал на всех моих учебниках:
О, свобода! Как прекрасны
Твои бури для великих сердец!6
Ничего себе напутствие, ничего себе семя, брошенное в душу французской молодежи!
А что можно сказать о римской морали? Я не буду говорить здесь об отношениях отцы и сына, супругов, патрона и клиента, господина и слуги, об отношении человека к Богу, хотя и тут одно только рабство натворило множество гнусностей. Я буду говорить о том, что называют хорошей стороной республики, – о патриотизме. Что такое патриотизм? Ненависть к иностранцу. Разрушить любую цивилизацию, задушить всякий прогресс, прогуляться по миру с обнаженным мечом, приковать цепями женщин, детей, стариков к триумфальной колеснице – вот слава, вот доблесть. Этим жестокостям и зверствам посвящены мраморные статуи и песни поэтов. Как часто бились наши юные сердца от восхищения подобными зрелищами и, увы, от стремления подражать увиденному! А ведь именно в таком духе готовят нас к христианской и цивилизованной жизни наши профессора, наши почтенные священники, преисполненные, так сказать, лучезарности и добросердечности. Великой силой становится сугубая условность.
Урок прошлого не прошел даром. От Рима мы восприняли сентенцию, истинную для воровства и ложную для труда: «Один народ теряет то, что выигрывает другой». Эта сентенция до сих пор правит миром.
Чтобы составить себе представление о римской морали, вообразим, что прямо в Париже существует ассоциация людей, ненавидящих труд, полных решимости добыть себе всякие радости жизни хитростью и силой и, следовательно, находящихся в войне с обществом. Несомненно, что очень скоро в этой ассоциации появится некая мораль с ее доблестями и добродетелями. Смелость, упорство, скрытность, осторожность, дисциплина, терпение при неудаче, держание языка за зубами, слава и почести, преданность своему сообществу – таковы добродетели этих бандитов, развивать которые заставляет их необходимость да и всеобщее мнение. Такими были качества и нравы и морских пиратов, и древних римлян. Относительно последних могут сказать, что величие их дел и их выдающиеся успехи как бы покрывают вуалью славы даже их преступления и даже превращают преступления в добродетели. Вот этом-то и вся губительность школы, проникнутой подобным духом. Не обнаженная и отвратительная порочность, а порочность в блеске великолепия – вот что обольщает души.
Наконец, об обществе. Древний мир оставил миру новому две ложные его трактовки, которые потрясают и долго будут еще потрясать общество.
Первая: общество есть внеприродное состояние, порожденное договором между людьми. Эта некогда была не столь ошибочна, как сегодня. Рим, Спарта представляли собой две ассоциации, преследовавшие общую и вполне определенную цель – грабеж; это были скорее армии, а не общества.
Вторая: закон создает права, и, следовательно, отношения между законодателем и человечеством такие же, как между горшечником и глиной. Минос, Ликург, Солон, Нума сфабриковали критское, лакедемонское, афинское, римское общества. Платон был фабрикантом воображаемых республик, призванных служить образцами для будущих учредителей народов и отцов наций.
Заметьте, что обе эти трактовки имеют особый характер и несут на себе печать социализма, если понимать этот термин в отрицательном для нас смысле и как общее название всех социальных утопий.
Тот, кто не ведает, что социальное тело есть совокупность естественных законов и в этом подобно человеческому телу, кто мечтает создать искусственное общество и начинает манипулировать по своей прихоти семьей, собственностью, правом, человечеством, тот и есть социалист. Он не занимается физиологией, он занимается лепкой скульптур; он не наблюдает, он изобретает; он не верит в Бога, он верит в самого себя; он не ученый, он тиран; он не служит людям, он обладает ими; он не изучает природу человека, он меняет ее, следуя совету Руссо[1]1
«Тот, кто решается создать народ, должен чувствовать себя в силах переменить, так сказать, человеческую природу… изменить физическую и нравственную структуру человека…» и т. д. («Общественный договор», глава VII).
[Закрыть]. Его вдохновляет античность, и он исходит из действий и взглядов Ликурга и Платона. Если сказать коротко и точно, он бакалавр.
Вы преувеличиваете, скажут мне, ведь невозможно, чтобы наша учащаяся молодежь черпала из прекрасной античности столь огорчительные мнения и чувства.
Она черпает то, что там есть. Вспомните, с каким умонастроением вы сами вышли из колледжа в мир. Разве вы не горели желанием подражать опустошителям земли и ораторам Форума? Что до меня, то когда я вижу, как нынешнее общество бросает молодых людей, бросает десятками тысяч, под жернова мельницы Брута и Гракхов, а потом бросает их, не способных к любому честному труду, работать в печати или просто вышвыривает на улицу, я удивляюсь, почему же оно, общество, сопротивляется тому, что само натворило. Классическое образование не только неосторожно погружает нас в римскую жизнь. Оно погружает нас туда не просто, а приучая нас восторгаться ею, считать ее идеалом человечества, слишком высоким идеалом, чтобы до него могли дотянуться современные души, но мы, дескать, должны подражать римлянам, хотя никогда не будем в силах уравняться с ними7.
Мне могут возразить, что социализм привлек к себе классы, никогда и не помышлявшие о всякой там степени бакалавра.
Я отвечу словами г-на Тьера:
«Среднее образование дает детям из зажиточных классов знание древних языков… Обучаясь греческому и латыни, дети усваивают не только слова и их значение. Они усваивают благородные и возвышенные вещи (грабеж, войну и рабство), и история человечества предстает им в простых, больших, нестираемых из памяти картинках… Среднее образование формирует так называемые просвещенные классы нации. И хотя эти просвещенные классы не охватывают всю нацию, они ее характеризуют. Их пороки, качества, склонности – как плохие, так и хорошие – становятся присущими всей нации; они, эти классы, формируют весь народ, заражая его своими мыслями и чувствами. (Возгласы «Правильно, так!»)[2]2
Доклад г-на Тьера о законе о среднем образовании, 1844 г.
[Закрыть]Нельзя сказать правдивее, нельзя объяснить лучше, какие губительные, какие уродливые отклонения влекут за собой наши революции!
Но г-н Тьер добавляет: «Античность – осмелимся сказать это прямо в глаза веку, довольному и гордому самим собой, – античность – это самое прекрасное, что есть на свете. Так оставим, господа, оставим наше детство в античности как в спокойном, мирном и неиспорченном прибежище, которое предназначено сберечь детство свежим и чистым».
Спокойствие Рима, мирный Рим, чистота Рима! О, если уж многоопытный и трезвомыслящий г-н Тьер не устоял перед его странным обаянием, то как защитить от него нашу пылкую молодежь?8
На днях Национальное собрание слышало диалог, достойный пера Мольера:
Г-н Тьер, обращаясь с высоты трибуны и не смеясь, к г-ну Бартелеми Сент-Илеру9: Вы неправы не в отношении искусства, а в отношении морали, когда предпочитаете, чтобы французы, то есть латинская нация, изучали греческие, а не латинские произведения.
Г-н Бартелеми Сент-Илер, тоже без смеха: А Платон!
Г-н Тьер, по-прежнему не смеясь: Да, хорошо делали и делают, что заботятся об изучении греческого и латыни. Я же просто предпочитаю латынь, исходя из нравственных соображений. Но вот ведь пожелали, чтобы наши несчастные молодые люди постигали, сверх того, немецкий и английский языки, точные науки, физику, историю и т. д.
Что же получается? Знать то, что есть в действительности, – это зло. Пронизываться и пропитываться римскими нравами – это нравственно!
Г-н Тьер – не первый и не единственный, кто впал в эту иллюзию (я чуть не сказал в мистификацию). Позволю себе кратко рассказать, какую глубокую печать (да еще какую печать с содержательной точки зрения!) наложило классическое образование на литературу, мораль и политику нашей страны.
Дать полную картину ситуации у меня нет ни досуга, ни претензии, да и всякий пишущий разве не предстанет перед судом читателя? Ограничусь эскизом.
Я не буду восходить к Монтеню10. Каждый знает, что он был слабым спартанцем, просто по какой-то инерции и еще меньше – по своим вкусам.
Что касается Корнеля, которым я искренне восхищаюсь, то он все же оказал плохую услугу духу своего века, когда облек в красивые одежды своих стихов чувства жестокие, оскорбительные, дикие, антисоциальные, как, например:
Народу в жертву принести любимое мое
И в бой вступить против другого «я» —
Такая доблесть только нам присуща…
Рим руку протянул мне, я свободен
И с легкостью чистосердечной
Женюсь на собственной сестре, прикончив
брата11.
Признаюсь, мне ближе чувство Куриаса12, которое я распространяю на всю историю Рима, хотя Корнель имеет в виду единичный факт, когда его герой говорит:
Благодарю богов, что я не римлянин,
И в сердце у меня есть человеческое нечто.
Фенелон. Сегодня коммунизм вселяет в нас отвращение, потому что он пугает нам. Но разве слишком частое обращение к древним не сделало коммунистом Фенелона, этого человека, которого современная Европа считает великолепным выразителем нравственного совершенства? Прочитайте его «Телемаха» – книгу, которую мы торопимся дать в руки детям. Вы увидите в ней Фенелона как воплощение самой мудрости, Фенелона, научающего уму-разуму законодателей. Так по какому же плану строит он свое образцовое общество? С одной стороны, законодатель мыслит, изобретает, действует; с другой стороны, бесстрастное и инертное общество позволяет делать с ним что угодно. Так что моральный стимул и принцип деятельности вырван из рук всех людей и передан в руки одного-единственного человека. Фенелон, этот предшественник самых отважных из наших нынешних организаторов, сам решает вопросы питания, жилья, одежды, игр, занятий всех салентинцев13. Он указывает им, что им дозволяется пить и есть, как строить свои дома, сколько в них должно быть комнат, какой мебелью они должны быть обставлены.
Он говорит… Впрочем, предоставляю слово ему самому:
«Ментор учредил суды, перед которыми купцы отчитывались о своих сделках, прибылях, расходах, вообще обо всем… В остальном свобода торговли была полной… Он только запретил ввоз всех тех иностранных товаров, которые могли привести к роскошной и изнеженной жизни… Он запретил огромному числу торговцев продавать модные ткани и т. д… Он регламентировал одежду, еду, мебель, размеры и обустройство домов для людей, самых разных по своему положению и в зависимости от их положения.
Регулируйте положение людей с самого их рождения, говорил он королю… Люди первого ранга: самые приближенные к вам, будут одеты в белое, второго ранга – в синее, третьего – в зеленое, четвертого – в желтое, пятого – в красное или розовое, шестого – в светло-серое, седьмого и последнего ранга будут носить желтое, смешанное с белым. Такова одежда семи категорий свободных людей. Все рабы будут одеты в серо-коричневое. Никогда не потерпят[3]3
Перетряхиватели общества иногда стыдятся говорить: я сделаю, я распоряжусь. Они охотно пользуются безличными оборотами, сохраняющими, однако, то же самое значение: будет сделано, не потерпят.
[Закрыть] никаких перемен ни в качестве тканей, ни в покрое одежды. Таким же образом он урегулировал питание граждан и рабов.Затем он запретил нежную и женственную музыку.
Он представил образчики простой и миловидной архитектуры. Он пожелал, чтобы каждый более или менее значительный, по размерам и по обитателям, дом имел гостиную и колоннаду, а также небольшие комнаты для всех свободных людей.
Впрочем, умеренность и щепетильность не помешали ему разрешить возводить большие здания для конных скачек и обкатки карет, для состязаний борцов и боев ремнями со свинцовыми шипами.
Ментор разрешил заниматься живописью и ваянием, но распорядился, чтобы в Саленте не было слишком много представителей этих видов искусства».
Разве не видно, что такое воображение подпитано чтением Платона и примером Ликурга? Идет забава, идут опыты на людях, как будто экспериментируют с презренным и никому не нужным материалом. И пусть никто не оправдывает эти химеры, утверждая, будто они – плод чрезвычайной доброты. Подобным же образом ведут себя все организаторы и дезорганизаторы общества.
Роллен14. Другим человеком, почти равным Фенелону что касается ума и сердца, но больше занимавшимся воспитанием и образованием, был Роллен. Ну, так вот. До какой же степени интеллектуального и нравственного падения довело этого добряка Роллена слишком долгое общение с античностью! Невозможно читать его книги, не испытывая чувства огорчения и жалости. Никак не угадаешь, христианин ли он или язычник, настолько он разделен в своих пристрастиях между Богом и богами. Библейские чудеса и легенды героических времен внушают ему доверие в совершенно равной мере. На его лице с обычно благодушным выражением как будто всегда блуждают тени боевых страстей. Он не устает говорить о копьях, мечах и катапультах. Для него, как и для Боссюэ, один из самых интересных социальных вопросов – это вопрос о том, что лучше и сильнее: македонская фаланга или римский легион. Он восхваляет римлян за то, что те занимаются лишь науками, имеющими своим предметом господство: красноречием, политикой, войной, точнее наукой и искусством этих вещей. В его глазах все прочие здания суть источники коррупции и способны лишь склонять людей к состоянию мира. Поэтому он тщательно выметает их из своих колледжей – под аплодисменты г-на Тьера. Он воскуряет фимиам Марсу и Беллоне, и лишь отдаленный аромат доносится до Христа. Он стал жалкой игрушкой условности, насаждаемой классическим образованием, и заранее готов восхищаться римлянами решительно во всех их деяниях, превращая величайшие преступления в величайшую доблесть. Александр, сокрушавшийся по поводу того, что убил своего лучшего друга, Сципион, тоже опечаленный, что не отнял жену у мужа, – вот, по его убеждению, примеры неподражаемого героизма. Наконец, если он сделал каждого из нас живым противоречием, то сам он – наиболее совершенная его модель.
Вполне справедливо полагают, что Роллен был приверженцем коммунизма и лакедемонских институций. Будем, однако, справедливы к нему: его приверженность не абсолютна, он не целиком одобряет этого законодателя и критикует его за то, что при нем были распространены такие вещи:
безделье;
кровосмесительство;
убийство детей;
массовые убийства рабов.
Сделав оговорки по этим четырем пунктам, наш добряк, возвращаясь к классической условности, видит в Ликурге не человека, а бога и считает его политику безупречной.
Вмешательство законодателя во все стороны жизни представляется Роллену настолько необходимым, что он вполне серьезно поздравляет греков с тем, что один не грек специально пришел к ним, чтобы научить питаться по-настоящему, а до этого, утверждает Роллен, греки питались исключительно травой, как жвачные животные.
Между прочим, он пишет:
«Бог должен был даровать римлянам мировое господство за их великие доблести и добродетели, но эти их качества оказались лишь простой видимостью. Господь был бы несправедлив, если бы дал этим качествам оценку, влекущую столь высокое вознаграждение».
Мы ясно видим здесь, как, в лице самого Роллена, оспаривают друг у друга бедную человеческую душу упомянутая мной условность и христианство. Сам дух этой фразы есть двух всех творений основателя системы образования во Франции. Противоречить самому себе, заставить Бога противоречить себе и научить нас противоречить себе – в этом весь Роллен, в этом все бакалаврство.
Хотя кровосмесительство и детоубийство смущают Роллена, но он в восторге от всех остальных институций Ликурга и даже оправдывает кражу. То, как он это делает, настолько любопытно и настолько связано с темой этого моего письма, что я должен об этом рассказать.
Роллен начинает с утверждения принципа, что закон создает собственность, – принципа зловещего и общего для всех «организаторов» общества. Мы найдем его в трудах и устах Руссо, Мабли, Мирабо15, Робеспьера и Бабефа, о которых далее поговорим. А поскольку закон – это и есть самый смысл существования собственности, то разве не может он быть также смыслом существования кражи? Что и как тут можно возразить?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.