Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
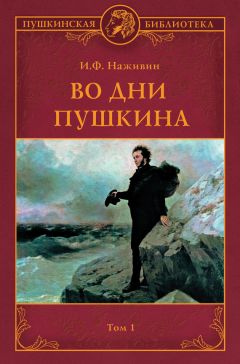
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXII. Уход
По дороге в Таганрог недомогание царя усилилось, но он крепился и скрывал это: он терпеть не мог возни с врачами и лекарствами. В Орехове, перемогаясь, ему пришлось самому разбирать дело гражданского губернатора и архиепископа Феофана, которые не только поссорились, но даже подрались. Его постоянный врач, баронет Яков Васильевич Виллье – добрейший человек, у которого был один только недостаток: он чрезвычайно крепко веровал в свои знания и в действительность своих снадобий – начал тревожиться, но Александр не обращал ни на что внимания и торопился в назначенный срок, 5 ноября, попасть в Таганрог, где его уже ждала Елизавета Алексеевна.
Александр много думал о жене. Еще перед отъездом из Таганрога в Крым он сам подготовил все для приезда больной. Он не оставил в скромном доме генерала Арнольди, который он занял, неосмотренным ни единого уголка, сам расставлял мебель, сам развешивал картины, сам разбивал в запущенном саду дорожки. Дом был каменный, одноэтажный, с помещением для прислуги в подвальном этаже. Из окон, через сад, открывался вид на море. Половина государыни состояла из восьми комнат, из которых две предназначались для ее фрейлин, а для Александра было всего две комнаты. Посреди дома был большой покой, служивший одновременно приемной и столовой. Обстановка была самая простая. Александр в личной жизни очень любил простоту, но для больной жены он старался устроить все поуютнее…
И, когда Елизавета Алексеевна приехала, он окружил ее самым нежным вниманием. Она чувствовала это устремление его души к ней, сама к нему тянулась, но, все стыдясь этого, оба скрывали свои чувства, не договаривали до конца и по-прежнему мучительно ощущали какую-то стеклянную стену…
Когда он вернулся из Крыма совсем больной, она встревожилась. Положение его ухудшалось: его трепала лихорадка, чрезвычайная слабость и апатия точно сковывали его, и иногда бывали даже обмороки. Виллье никак не мог решить, что это собственно: hemitritaeus semitertiana[35]35
Полуторадневная лихорадка (лат.).
[Закрыть] или же febris gastriae biliosa[36]36
Желудочно-желчная лихорадка (лат.).
[Закрыть], но тем не менее уговаривал больного принять слабительное, позволить сделать себе кровопускание, глотать лекарства и иногда выводил его этим из себя. Виллье плакал, и Александр, тронутый, подзывал его к себе и просил не обижаться:
– Если я так действую, то на это у меня есть свои причины… – сказал он раз, и глаза его приняли новое, строгое выражение. Виллье ничего не мог сделать и в своем дневнике изливал свою скорбь: «Нет человеческой власти, которая могла бы сделать этого человека благоразумным! – писал он. – Я несчастный…» И он отметил: «Что-то такое занимает его душу более, чем выздоровление…»
В этом баронет не ошибался: в Александре более чем когда-либо напряженно шла свойственная ему духовная работа. Смерть так просто разрешила бы все его затруднения – не надо думать ни куда уйти, ни как уйти, все сделается само собой… Сперва ему казалось, что самый акт ухода от власти будет делом Богу угодным, чем-то вроде жертвы, но постепенно, лежа в своей походной кровати, он понял, что никакой жертвы в том, что он сбросит отвратительное иго, нет, и что раз душой он от всего уже ушел, то остальное не так и важно. Если Господу угодно будет оставить ему жизнь, он послушает голоса своей совести, уйдет, а угодно будет Ему разрубить всю путаницу земных путей его смертью, тем лучше, ибо проще… И он упорно отказывался от лекарств…
Но праздные шумы и тревоги жизни по-прежнему надоедали чрезвычайно: старый Аракчеев – он бросил все дела и заперся в Грузине – гнал через всю Россию одного гонца за другим, раздувая дело об убийстве своей любовницы до размеров гигантского государственного события, со всех сторон шли секретные донесения о тайных обществах и заговорах, о волнениях в военных поселениях… И спасался он от этого только у Елизаветы Алексеевны, с которой он рассматривал иллюстрированные журналы или ракушки, которые она, гуляя, собирала по берегу моря. А когда и это утомляло его, он шутил:
– Ну а теперь я пойду полежу: после обеда все порядочные люди отдыхают… Да, кстати: а почему вы не носите траура по короле баварском?
– Я сняла его по случаю вашего приезда, – ласково отвечала она. – Но если вы желаете, то я завтра же снова одену его…
Щадя ее и точно чего-то стыдясь, он ни единым словом не открыл ей того, что в нем свершалось. Он ясно чувствовал, что и она чрезвычайно тяготится, и давно, своим положением и очень охотно последует за ним, куда угодно, но, чтобы не волновать ее прежде времени, он молчал. Он знал, что полковник Брянцев уже в Таганроге, – он видел раз из окна, как тот прошел мимо, – но он не вызывал его, чтобы не возбудить толков и подозрений: поправится немного и навестит его сам…
Между тем болезнь делала свое дело. Все вокруг были в тревоге… И, наконец, Елизавета Алексеевна настояла, чтобы он приобщился. Когда священник пришел, Александр, чуть приподнявшись на левом локте, попросил его благословения и поцеловал ему руку.
– Я хочу приобщиться святой Тайне… – сказал он. – Но прошу вас исповедовать меня не как императора, но как простого мирянина…
Исповедь кончилась, Александр приобщился и принял поздравления от близких. И вдруг взволнованный священник, весь в слезах, с крестом в руках опустился на колени:
– Ваше императорское величество: не отказывайтесь от помощи врачей… – дрожащим голосом едва выговорил он. – Подумайте о России!.. Вы христианин, ваше величество: не откажите всем нам, любящим вас, в мольбе нашей…
Александр, тронутый, приподнялся, приложился к кресту, поцеловал священника, а потом поцеловал руку жены.
– Благодарю всех вас… – проговорил он. – Никогда еще я не испытывал такого облегчения… И раз это доставляет вам удовольствие, – с слабой улыбкой обратился он к врачам, – то я к вашим услугам, господа…
Врачи сейчас же поставили ему за уши пиявки, приложили горчичники к рукам и бедрам, заставили глотать что-то, но – болезнь усиливалась. Он совсем уже не вставал. Обмороки следовали один за другим. Елизавета Алексеевна, сама больная, много времени проводила у его кровати, и иногда он должен был настаивать, чтобы она вышла подышать. Но он угасал. Он часто был в забытье, в жару, но когда открывал глаза и видел рядом на стуле Елизавету Алексеевну, он брал ее руки, целовал их, прикладывал к сердцу и опять впадал в забытье. В душе его шла тяжелая смута: то он, как и все живое, испытывал ужас при мысли о близком уничтожении и жадно хватался за жизнь, то в нем вспыхивала надежда на то, что он еще поживет так, как хочется, то хватался он за религию и с испугом видел, как слаба та помощь, которую она ему в эти тяжелые минуты может предложить, и снова его охватывал холодный ужас одиночества перед лицом черной бездны…
А в церквах Таганрога шли беспрерывные молебствия о здравии государя императора, и вся улица перед его домом была покрыта народом, который в глубоком и торжественном молчании ждал вестей о положении больного. И среди толпы подолгу стоял прибывший из Крыма по следам царя полковник Брянцев. Он был умилен величием свершавшегося – только он один ведал глубину той трагедии, которая заканчивалась в этом скромном домике, – и часто на глазах его выступали слезы… Утро 19-го было серо и угрюмо – точно вся земля томилась последним актом тяжелой драмы. Александр был совсем уже без сознания и только изредка, глядя то на императрицу, то на распятие, как будто приходил в себя. И глаза его, и красивое лицо все более и более прояснялись, освобождались от выражения страдания, и наконец, – было 10 часов 50 минут утра – дыхание его оборвалось, и среди глухих рыданий присутствующих по лицу разлился ясный, глубокий и трогательный покой. Мечта жизни его, наконец, осуществилась: обреченный сбросил, наконец, иго людей и – ушел…
XXIII. Le снос des opinions[37]37
Столкновение мнений (фр.).
[Закрыть]
Никогда не было еще на земле времени, когда человечество или даже какой-нибудь отдельный народ сказал бы: «Ну, вот теперь мы устроились совсем хорошо – остановись, мгновение!..» Вечное недовольство – это самый характерный признак человека, резко отличающий его от других животных. Несмотря на свой тысячелетний и чрезвычайно разносторонний опыт, доказавший ему, казалось бы, совершенно неоспоримо тщетность его усилий устроить свой жалкий жребий получше, он все снова и снова топорщится и, подобно смелому Тюрго, с пафосом необыкновенным все снова и снова начинает делать juste le contraire de се qu’on fit jusqu’à présent…[38]38
Совсем противоположное тому, что делали до сих пор (фр.).
[Закрыть]
В начале XIX века особенно недовольны своим положением оказались прусаки. Поэтому несколькими патриотами был организован в Кенигсберге Союз Добродетели. От современных ему обществ, итальянских карбонариев или греческих гетерий, – итальянцы и греки тоже были недовольны – немцы отличались тем, что они стремились путем мирной подготовки достигнуть свободы. Так как цели Тугенбунда были вполне нормальны, то он был взят под свое высокое покровительство тем самым Фрицем, который никак не хотел участвовать в сражении, не надев соответствующих штанов. Другие, искавшие «независимости, прав и свободы», шли дальше и вместе с молодым Шиллером провозглашали «освобождение от цепей, налагаемых тиранами». Поэтому «Разбойники» были к постановке в России воспрещены. Но всего воспретить было нельзя, и молодежь бросилась после французских на немецкие книги: на Канта, Шеллинга, Фихте, Окена, Герреса и проч.
Так как русские своим положением были тоже недовольны, – все дело им портил Александр – то Тугенбунд, вполне естественно, привлек к себе их внимание. Это было в то время, когда они, гоня перед собой Наполеона, впервые близко увидели щеголеватую жизнь Европы. Многие из них до того пленились этой жизнью, что совсем остались заграницей. Солдаты-конногвардейцы в Париже дезертировали даже с лошадьми и со всей амуницией, переженились вскоре на разных «Жульетках» и стали французскими ситуайенами. А остальные потянулись домой, унося с собой с благословенного Запада одни некоторый запас новых «идей» – товар чрезвычайно опасный, – а другие, огромное большинство, ту болезнь, которая в народе давно уже получила название «французской».
В числе первых едва ли не ярче всех выделялся Михаил Федорович Орлов, красавец кавалергард, блестяще образованный, умный и с прекраснейшим сердцем. Он был сыном одного из «екатерининских орлов», которых воспел в свое время царелюбец Державин:
…из стаи той высокой,
Котора в воздухе плыла
Впреди Минервы светлоокой,
Когда она с Олимпа шла…
Под Аустерлицем он проявил блистательную храбрость, хорошо сделал свое дело под Фридландом и – быстро пошел в гору. В 1810 году он быль назначен адъютантом к постоянному спутнику Александра, начальнику его штаба, князю П.М. Волконскому. Это он 18 марта 1814 года по поручению Александра заключил договор о сдаче Парижа союзным войскам. Французы очень понравились молодому воину – он упрекал их только в одном: в склонности к утопиям.
Пред блестящим кавалергардом открывалась ослепительная карьера, но он был весь во власти охватившей его идеи спасти Россию, то есть поставить ее на один уровень с теми странами, которыми он прошел со своими великанами-кавалергардами. Он решил основать нечто подобное Тугенбунду в России, в полной уверенности, что Александр возьмет это общество русских Рыцарей под свое высокое покровительство: ведь все это было внушено ему «чистым желанием добра»! Он быстро почувствовал под ногами твердую почву: идеи эти бродили тогда уже во многих головах в России. Не говоря уже о том, что масоны, разбросанные повсюду, в достаточной степени старались дать в жизни торжество добродетели, шла подобная работа и помимо их: еще в 1816 году небольшой кружок гвардейцев – братья Муравьевы, Муравьевы-Апостолы, князь С.П. Трубецкой, князь А.И. Долгоруков, И.Д. Якушкин, П.И. Пестель, М.С. Лунин, Ф.Н. Глинка – уже образовал тайное общество «Союза Спасенья», или «Союз истинных и верных сынов отечества». Его члены обязывались содействовать благим начинаниям правительства и частных лиц, обличать злоупотребления, распространять просвещение и улучшать общественные нравы путем личного примера и проповеди гуманных идей.
И так, «подвизаясь на пользу общую всеми силами» и «препятствуя всякому злу», члены общества начали хлопотать об освобождении крестьян, о равенстве граждан перед законом, о публичности государственных действий, о публичности суда, об уничтожении винной монополии, об уничтожении военных поселений, об улучшении положения солдат, об улучшении положения православного духовенства, об уменьшении армии в мирное время, об отстранении иноземцев от влияния в государстве и т. п., а в конце концов, введении в России представительного образа правления.
Орлов работал не покладая рук. И, по мере развития дела, Союз Спасения все более и более приобретал политическую окраску. В 1818 году устав его, близкий к уставу Тугенбунда, был переработан и организация была названа Союзом Благоденствия. Один за другим входили в Союз многие хорошие люди, как И.И. Пущин, например. Поднимался, и не раз, вопрос о привлечении к делу чрезвычайно популярного в стране Пушкина, но кандидатура его неизбежно встречала отпор, иногда чрезвычайно резкий: лицам, преданным разврату и пьянству, не место в святом деле, а кроме того он фанфаронит все своим шестисотлетним дворянством и для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца…
Дальше история Союза пошла так, как и должно: истории всех таких предприятий можно изобразить в нескольких словах. Сперва объединяются несколько идеалистов, которых тяготят неуют, некрасивость и неправда жизни и которым хочется сделать хоть немножко добра. Некоторым, конечно, хочется и выдвинуться, и поблистать в роли благодетелей человечества – свойство слишком человеческое, чтобы нужно было оправдывать его. Правительство сразу навастривает уши: делать добро это прежде всего право людей правительства, хотя, правда, осуществлять его они не очень торопятся. Тогда, как следствие, у идеалистов пробуждается мысль политическая: с этими чертями, то есть людьми правительства, каши не сваришь – сперва нужно обуздать их, ввести в оглобли, а то и совсем убрать. И вот они стали читать Бекария, Вольтера, Гельвеция, Сея, А. Смита, а в особенности комментарии на «Дух Законов» Монтескье, написанные графом Дестю де Траси, – эта книга казалась им каким-то божественным откровением – и вообще, как говорил полковник П.И. Пестель, «долг каждого – это стремиться к пользе, а для того надо ускорить нравственное образование ума и чувствований, чтобы уметь приложить их со временем на общеполезное…» Правительство, замечая усиление напора, начинает усиливать отпор и – преследовать. Тогда раскаляются и реформаторы: милого, кроткого князя Ф. Шаховского его приятели уже тогда называли «тигром»!..
Под ударами правительства тайное общество «Союза Благоденствия» начало расти. А одновременно, как всюду и всегда, в нем начался и другой неизбежный процесс: несмотря на все предосторожности, в число его членов стали попадать лица, которые внушали идеалистам опасения и тревогу. Поэтому в начале 1821 года в Москве был устроен съезд членов Союза Благоденствия, на котором было решено его закрытие. Это было только средством для того, чтобы удалить из своей среды ненадежных. А затем было основано новое общество, которое сразу разделилось на два: Северное, во главе которого стали князь С.П. Трубецкой и Никита Муравьев и которое имело определенно монархический характер, и Южное, силы которого были сосредоточены на юге, в районе Второй армии, во главе которого оказался полковник П.И. Пестель и которое имело определенно республиканский уклон с некоторым даже социалистическим привкусом. А во главе всего дела просили стать М.Ф. Орлова, который, однако, приходил во все большее и большее смущение, ибо процесс просачивания в среду общества не только сомнительных, но иногда даже и прямо дрянных людей не прекратился, но, наоборот, усилился. Они то сочиняли будущие манифесты к народу, то раздавали своим приятелям хорошие места в будущей России, болтали о роспуске армии и какой-то всеобщей вольности. Уже начиналась игра чужими головами, и, возбуждая один другого, они доводили себя постепенно до полного «политического сумасшествия».
Конституции писались всеми. Самая разработанная была конституция Пестеля, «Русская Правда, или Заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для совершенствования государственного устройства России и содержащая верный наказ, как для народа, так и для временного верховного правления». Из десяти глав ее были написаны, однако, только пять. Когда сходились, то сейчас же начинался раздор: один опровергал сочинение другого, так что «сие более походило на прения авторских самолюбий, нежели на совещание тайного общества». Таким образом, общего плана у тайного общества не было совсем: все было в приятном тумане. Может быть, поэтому-то и росли так быстро его силы. Южное Общество, например, захватило всю главную квартиру Второй армии, в нем было много офицеров генерального штаба, семь адъютантов главнокомандующего, князя Витгенштейна, два сына его, все полковые командиры, почти все бригадные, которые часто подолгу добивались чести попасть в члены его. В некоторых кавалерийских полках, как, например, в Ахтырском гусарском, все офицеры поголовно были членами тайного общества. И оно иногда проявляло свою силу ощутительно: когда в 1823 году Александр колебался ехать во вторую армию, Кочубей прямо спросил кого-то из заговорщиков, есть ли причины опасаться покушения. Тот честным словом заверил его, что ничего не будет. Царь поехал, и «республиканская» армия приняла его отлично. Влияние Кочубея поэтому еще более возросло…
Но начиналось уже соперничество между главарями. В особенности боялись все способного и упрямого Пестеля, опасаясь встретить в нем не Вашингтона, а Бонапарта. Это было вполне возможно. Он действительно принадлежал к типу Наполеона или Сперанского: он знает все и все может устроить. Пестель не придавал никакого значения народной массе: «Масса будет тем, – справедливо говорил он, – чем захотят индивидуумы, которые все…» Так же думали Наполеон и Гегель. Но Пестель не умел привлекать к себе сердца, а наоборот, всех своею сухостью и педантичностью отталкивал. Его не любили и всевозможными интригами старались ослабить его влияние.
Видя, что общество пошло не туда, куда он хотел, Михаил Орлов вышел из него и отдался службе. Командуя на юге дивизией, он вывел в своих полках палки, на свои средства завел для солдат ланкастерские школы и всячески старался улучшить тяжелую долю солдата. Когда двое рядовых явились к нему с жалобой на своего майора, который истязал своих солдат, Орлов немедленно предал майора суду. Но тут попался в преступных деяниях его адъютант, майор В.Ф. Раевский: при занятиях с солдатами грамотой Раевский употреблял прописи, в которых были слова: «свобода, равенство, конституция, Квирога, Вашингтон, Мирабо», а на лекциях разъяснял им, кто такие были эти Квирога и Мирабо, осмеливался утверждать, что конституционное правление лучше всякого другого, а в особенности «нашего монархического, которое управляется деспотизмом». Он говорил, что между солдатами и офицерами должно быть равенство, называл восставших семеновцев «молодцами», решительно заявлял, что «палки противны законам природы», и даже нюхал вместе с солдатами из одной тавлинки табак… За это вредного майора заключили в крепость, а Орлов был отчислен «состоять по армии»: доносчики утверждали, что и он разрешал солдатам толковать о «каком-то просвещении»…
В обществе неизбежный, роковой процесс тем временем продолжался: люди серьезные все более и более оттирались на задний план, а на переднем плане все ярче и ярче выступали игрунки, которым льстило пошалить в роли спасителей отечества. Невольно уступая шалунам, общество должно было ввести среди членов иерархию, появились, как у масонов, свои обряды приема, страшные клятвы о хранении тайн общества и в устав введено было наказание для отступников: яд и кинжал… Но – и это очень тревожило людей серьезных – за целых восемь лет существования общества между членами его на дело общества было собрано что-то около десяти тысяч рублей, хотя среди членов его было много очень богатых людей…
Левое крыло брало верх все более и более, фантазия разыгрывалась неудержимо. Все они видели, как при проезде государя народ бросался от восторга под колеса его коляски, и они точно не понимали этого. Заметивший это известный поэт Языков говорил им:
Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепями, склонивши выю,
Она молилась за царя, –
но они не слышали и Языкова. Все они великолепно говорили на иностранных языках, но, воспитанные иностранцами-гувернерами, многие из них плохо владели русским языком, а писали безграмотно все, но это не останавливало их. И, накаляясь на огне мечты все более, они, в конце концов, пришли к решению: сперва убить всю царскую семью, – они по пальцам считали, сколько голов это будет, – затем заставить сенат и синод объявить себя временным правительством с неограниченной властью и предоставить важнейшие места в государстве членам Союза. Не останавливало их и то, что на всю огромную Россию с ее тогда миллионным населением их всех, фантазеров святых, карьеристов, фигляров и пройдох было самое большее пять тысяч…
И, как всегда это бывает, сперва спокойное и серьезное течение жизни общества начинает окрашиваться во все более яркие и драматические цвета. На юге уже прямо пылают. Совсем мальчик Бестужев-Рюмин, весь порыв, пьянея от своих собственных слов, произносит на собрании южан громовую речь:
– …Век военной славы кончился с Наполеоном, – уверенно гремел он. – Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование которого зависит от любви нашей к свободе? Взгляните на народ, как он угнетен!.. Торговля упала, промышленности почти нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки… – Он не совсем ясно различал разницу между податями и недоимками и потому сказал так, вместо того, чтобы сказать: нечем платить не только недоимки, но даже и подати. – Войско все ропщет. При сем обстоятельстве не трудно было прийти нашему обществу в состояние грозное и могущественное: почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют. Многие из тех, коих правительство считает вернейшими оплотами самовластия, сего источника всех зол, уже давно нам ревностно содействуют. Самая осторожность ныне заставляет вступить в общество, – значительно подчеркнул он, чрезвычайно довольный этим дипломатическим ходом, который он сам придумал, – ибо все люди, благородно мыслящие, ненавистны правительству: они подозреваемы и находятся в беспрестанной опасности. Общество по своей многочисленности и могуществу – вернейшее для них убежище… Скоро оно восприемлет свои действия, освободит Россию, и может быть, и целую Европу. Порывы всех народов удерживает русская армия. Коль скоро провозгласит она свободу, все народы восторжествуют, великое дело совершится, и нас провозгласят героями века!..
Все вокруг восторженно заревело. Бестужев, взяв образ, висевший у него на груди, с жаром поцеловал его и поклялся умереть за свободу. Икона переходила среди восторженных кликов из рук в руки, и все жарко клялись «отомстить тому, кто есть причина тиранства, слез и притеснений для соотечественников».
– Да здравствует конституция!.. – гремели восторженные клики. – Да здравствует республика!.. Да здравствует народ!.. Да погибнет дворянство вместе с царским саном!.. – И все начали обниматься…
– Но, господа… что я говорю: братья!.. – кричал, пламенея, Бестужев. – Но не следует думать, что только славная смерть у нас впереди – нет, в случае победы над ненавистным самовластием нас ждут и небывалые почести и достоинства…
Все взорвалось в общем вопле негодования:
– Как почести?! Какие достоинства! – исступленно лезли на него заговорщики. – Сражаться до последней капли крови – вот единственная наша награда!..
Небольшое Общество Соединенных Славян, тоже на юге, носилось с грандиозной идеей великой демократической Славии, от берегов Адриатики до Тихого океана, с четырьмя славянскими портами на свободных морях…
И огневые войны с юга шли незримо на север, и там люди начинали пьянеть все больше и больше…
В Петербург приехал с Кавказа раненный в боях с горцами Якубович, человек с очень решительным лицом, огромными висячими усами и наглыми глазами. Раз зашел он к уже известному своими стихами – они были весьма посредственны, но очень революционны и поэтому делали шум – поэту К.Ф. Рылееву. Там были князь Оболенский и А. Бестужев. Потом подошел поэт, князь Одоевский, с тишайшей и мягкой душой. Зашел разговор на любимую тему: о революции.
– Господа, я не люблю никаких тайных обществ, – своим решительным басом сказал Якубович. – По-моему, один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов. Я знаю, с кем я говорю, и потому буду откровенен. Я жестоко оскорблен царем… Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у сердца…
И он вытащил из кармана полуистлевший приказ царя о переводе его – за участие в дуэли – из гвардии на Кавказ. И, эффектным жестом сорвав с раненой головы повязку, так, что показалась кровь, он с нарастающим жаром продолжал:
– Эту рану можно было бы залечить и на Кавказе, но я обрадовался случаю хотя бы с гнилым черепом добраться до моего оскорбителя… Теперь ему не ускользнуть от меня… Тогда пользуйтесь случаем, созывайте ваш великий собор и дурачьтесь сколько хотите…
Сверкающие глаза, кровавая рана, решительный тон потрясли всех и – напугали: разговаривать о мести тирану – одно, а немедленно выступать в роли режицидов – другое.
– Нет, милый друг, этого делать не следует… – заговорил Рылеев. – Такой поступок может обесславить вас. С вашими дарованиями и вашим именем вы легко можете другим способом быть полезным для отечества…
– Нет!.. – решительно остановил его Якубович. – Нет!.. Я знаю только две страсти: благодарность и мщение. Ими только и движется мир. А остальные все не страсти, а страстишки… Я слов своих на ветер не пускаю и свое намерение приведу в исполнение или во время маневров, или на петергофском празднике… Я не хочу принадлежать ни к какому обществу: под чужую дудку я плясать не желаю… Я сделаю свое, а вы можете воспользоваться этим. Ежели удастся мне увлечь после этого солдат, я разовью знамя свободы, а не то истреблюсь: наскучила мне жизнь…
За Якубовичем давно уже установилась слава человека решительного. За участие в дуэли в качестве секунданта он был выслан на Кавказ и там стрелялся с А.С. Грибоедовым, которого ранил в руку с целью, как говорили, лишить его, страстного музыканта, возможности играть на фортепиано. В боях с горцами он с мрачной отвагой был всегда впереди, стараясь всем для чего-то показать свое презрение к жизни… И теперь, напугав своих приятелей, он решительно ушел.
Перепуганный Рылеев тут же решил донести обо всем правительству. Его приятели едва уговорили его не срамить себя. И решили все вместе ехать к Якубовичу и уговорить его подождать с своим жестоким намерением. Якубович согласился, наконец, ждать год, ровно год – не более и не менее…
Вследствие всех этих драматических эффектов многие члены уехали в свои усадьбы, от греха подальше, а умненький и осторожный Н.И. Тургенев махнул даже за границу…









































