Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
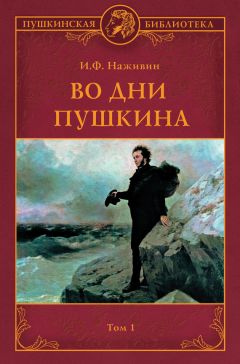
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Полковник давно уже знал эту веру народную, которую не могли в мужике убить ни рассуждения, ни даже опыт. И потому он молчал.
– И вот, милый человек, – продолжал уютный старичок, – и отправились мы с Семеном вроде как по плотницкой части. Семен-ат офеней раньше ходил, парень дошлый, вот я его и приспособил к обчему делу… А оброк вносить за нас, покеда мы ходим, мир взялся. А до дела дознаться надобно, потому дома-то так пришло, что ни б… ни п… – пустил он ядреное владимирское словечко. – А как ты, старичок, про Беловодию ту не слыхал часом чего?
Полковник посмотрел на Семена: если старичок, сразу было видно, верил в Беловодию накрепко, то в веселых глазах офени этой веры как будто совсем и не было: прожженный был парень. Поймав вопросительный взгляд полковника, он весело подмигнул ему.
– Уж офеня Хромов маху не даст… – проговорил он. – Так ли я баю? Семен Хромов дело свое тонко знает…
– Братец, да как же это так можно? – послышался вдруг с опушки леса старческий голос. – Уж мы искали вас, искали… Вы Бог знает что делаете!..
Пред полковником стоял братец в сопровождении двух белоголовых парнишек в лапотках. Бритое лицо его выражало досаду.
– Куда вы это пропали? – продолжал он взволнованно. – Нет, вы должны брать с собой кого-нибудь из ребят в провожатые, чтобы я не беспокоился. Мало ли что может случиться?.. Или из дворни кого-нибудь…
Рыжий офеня укоризненно посмотрел на своего доверчивого спутника. Тот тоже заметно смешался. Сняв шапки, оба они поклонились и хотели было уйти, но полковник остановил их.
– Погодите… Братец, у меня с собой денег нет, – сказал он брату, – а моим попутчикам пособить надо…
Старый масон, ни о чем не расспрашивая, расстегнулся, чтобы достать деньги, как вдруг от Владимира послышался грохот несущейся брички на железном ходу и захлебывающийся звон колокольчика. Все посторонились на опушку леса… Еще несколько мгновений, и, разбрасывая грязь во все стороны, тройка поравнялась с ними. В тележке мотался и подпрыгивал какой-то блудный, измученный человек с кандалами на руках и на ногах, а рядом сидел усатый, грозного вида фельдъегерь…
– Кто-нибудь из участников четырнадцатого… – тихо сказал по-французски масон брату.
И все испуганными глазами молча провожали быстро уносящийся в синюю даль возок… Полковник вздохнул тяжело.
– Тоже, должно быть, Беловодию искать поехал… – уныло сказал он.
Масон дал прохожим ассигнацию, те низко поклонились ему и, не надевая шапок, торопливо, с некоторым испугом, – зря проболтались!.. – пошли по широкой дороге вдаль.
Старики повернули к дому… Оба молчали. Притихли и ребята. И уже когда подошли они к старинной церковке, полковник вдруг остановился…
– Все великие мудрецы учили: ищи всего в себе, – проговорил он. – И наш народ умно говорит: не ищи в селе, а ищи в себе. А я вот, признаюсь вам, братец, никак по слабости духа принять этого не могу. А это? – кивнул он в сторону унесшейся брички.
– Масоны учат несколько иначе, братец, как вам известно… – отвечал старик. – Не все в себе, а начинай с себя… Сперва устрой свой внутренний мир, чтобы был в нем порядок, строй, чистота, а затем уже бери в руки молоток и строй храм всеобщего благополучия… Пойдемте, однако, братец: я боюсь, что вы ноги промочили…
Они, потупившись, зашагали дальше. В старых огненных рябинах на околице трещали жирные дрозды. Галки и вороны неустанно кружились вкруг синеньких главок церкви. Синие тучи валились на восток. Где-то неподалеку на звонком гумне весело забили уже цепы…
– Да… – вздохнул вдруг полковник. – Мы вот жалеем их от всего сердца, но что сделали бы они, если бы им удалось вырвать власть у Николая? Ответ на сие дает нам французская революция. Они тоже стали бы мучить людей, проливать кровь, и эта же самая тройка понесла бы в Сибирь кого-нибудь другого… О Марате, сем великом душегубце, сказывают, что, запершись у себя, он роскошествовал чрезвычайно и даже душился, а когда выходил, то надевал на себя оборванную и запачканную блузу работника. Великая ложь во всем… Слово свобода для большей части ее мнимых поклонников есть лом, которым они пробивают преграды к быстрому возвышению и который потом, достигнув желаемого, они бросают прочь… И потому, может быть, все же правда, что все в себе и что нам надо побороть искушение перестраивать вселенную и заняться самим собой…
– Я думаю, что ежели заняться собой как следует, то заниматься другими просто времени не будет… – отвечал задумчиво масон.
И опять старики замолчали. Крестьяне ласково раскланивались с ними. И старый масон, уже подходя к своему по-осеннему росистому и пахучему саду, вдруг тихонько, добродушно засмеялся:
– Нет, это я случай один вспомнил из моего путешествия к вам в Париж, братец… – сказал он. – Возвращаясь, проезжал я, помню, через Эльберфельд. И обратил я внимание на большое здание, которое там воздвигали. Мне показалось, что это театр, и я похвалил его трактирщику. А останавливался я там, помню, в «Золотом Драконе». «Это не театр», – говорить сей почтенный человек и вдруг делает мне масонский знак наш. Я с превеликим удовольствием ответил ему масонским же знаком и он поведал мне, что это строится масонская главная ложа… И, обратившись к моему спутнику, – со мной ехал один из офицеров оккупационного корпуса Воронцова, который стоял тогда во французской Фландрии, – я сказал ему: «Этот трактирщик брат мне. Посмотрите, он ничего не возьмет с нас за обед…» Но когда подал он счет, я ахнул: цены были двойные!..
И снова он добродушно рассмеялся. Полковник любовно посмотрел на него. Он ужасно любил, когда на братца находил дух этого тихого гиларитета: это напоминало ему далекие, светлые дни их детства среди этих лесов… А старый масон смотрел на все ласковыми глазками своими и тихонько, только для себя, напевал свою любимую масонскую песенку:
Здесь вольность и равенство
Воздвигли вечный трон,
На них у нас основан
Полезный наш закон…
И вдруг на опушке сада, их дворовые снимали мокрую, душистую антоновку, он споткнулся и стал руками ловить что-то незримое в воздухе. Полковник испуганно подхватил его, но сдержать не мог: братец вдруг страшно отяжелел. Полковник бережно положил его на мокрую, привядшую траву и, обернувшись, только хотел было позвать дворовых, собиравших яблоки, как сразу осекся: по старому, доброму лицу масона уже разливалось выражение изумительного, потрясающего, неземного покоя: он был мертв…
XXXVII. Ловкий ход
Только в Пскове Пушкин узнал от г. фон Адеркас, губернатора, что ему решительно ничего не грозит: начальник штаба его величества, барон И.И. Дибич, вызывал его по его же всеподданнейшему прошению.
– Но… для чего же фельдъегерь и весь этот… треск, ваше превосходительство?.. – раздувая ноздри, спросил Пушкин.
Тот бросил на него боковой взгляд и покачал головой…
Выйдя от губернатора, Пушкин сейчас же написал в Тригорское письмецо, чтобы успокоить своих друзей и няню и – немножко погордиться. «Я предполагаю, что мой неожиданный отъезд с фельдъегерем поразил вас так же, как и меня. Вот факт: у нас ничего не делается без фельдъегеря. Мне дают его для вящей безопасности. После любезнейшего письма барона Дибича зависит только от меня очень этим возгордиться. Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8 числа текущего месяца: как только буду свободен, со всею поспешностью возвращусь в Тригорское, к которому отныне мое сердце привязано навсегда…» Последние строчки предназначались отчасти для Анны, отчасти для Алины, отчасти для Зиночки – пусть все они там будут довольны!..
И он весело полетел с фельдъегерем в Москву. Теперь он со свойственным ему жаром вдавался уже в другую крайность: царь признает неправоту своего предшественника к знаменитому поэту и, чтобы загладить его ошибку, пожалует Пушкину графское достоинство, необозримые поместья и сделает его своим ближайшим советником… И в воображении он ярко разыгрывал целые сцены, как это замечательное событие произойдет. Иногда в голове его мелькала мысль гордо от всего отказаться: пока мои друзья в цепях, я не могу принять ничего… – но и в гордом отказе от почестей, и в самых почестях было много пленительного…
Уже под самой Москвой его прохватил осенний дождь, и он схватил крепкий насморк. От грязи станционной на лбу у него проступила какая-то сыпь. Усталый чрезвычайно, с покрасневшим от насморка носом, он прилетел в праздничную Москву: там шли коронационные торжества. Он захотел заехать в знакомую ему гостиницу Часовникова на Тверской, чтобы хоть немного привести себя в порядок, но фельдъегерь не разрешил: ему приказано доставить Пушкина прямо во дворец. Пушкин только сбросил в гостинице свой багаж, и снова они загремели по Тверской, миновали сияющую огнями Иверскую и чрез Красную площадь, которую Пушкин так любил, Никольскими воротами подкатили к огромному дворцу…
Сердце Пушкина забилось. Он вдруг потух и омрачился: его просто обманули, чтобы он не учинил скандала!.. Потому что, если бы они хотели дать ему удовлетворение по его прошению, они просто ответили бы ему, как полагается, бумагой. Но эта спешка, этот дурацкий фельдъегерь… И он снова весь потемнел от бешенства… Сдерживая себя, он прошел за дежурным адъютантом, щеголем неимоверным, в кабинет генерала Дибича. Тот с официальной ласковостью указал поэту на кресло и сказал что-то адъютанту. Нежно позванивая шпорами, адъютант вышел, а генерал вежливо заговорил с Пушкиным о – погоде… Эта игра в кошки и мышки тому очень не нравилась, и он стал нервничать. Вдруг снова послышался малиновый звон шпор, и вошел адъютант. На холеном, красивом лице его был отблеск какого-то священного ужаса, и все лицо его было точно медом вымазано. И он потушенным голосом сказал что-то генералу. Сейчас же и на лице Дибича отразился и священный ужас, и медь, хотя и в более слабой степени.
– Его величеству благоугодно принять вас сейчас же… – любезно склонился он к Пушкину.
Огромные покои. Слепящая роскошь… Громадные, тихие камер-лакеи, все красные с золотом. Недвижные часовые-гвардейцы… Тишина святилища… Как-то ловко, без задержки, его передавали из одних рук в другие, и вот, наконец, перед ним как будто сама собой распахнулась огромная, тяжелая дверь. Он остановился на пороге. От пылающего камина на него смотрел царь – огромная, тяжелая фигура с красивым, белым лицом. От нее точно сияние какое исходило – вероятно, то коронационные торжества сказывались. Красивые голубые глаза снисходительно осмотрели мелкую, живую фигурку Пушкина. Весь в грязи, с прыщами на лбу и слегка распухшим носом неказист был поэт в эту минуту… И раздался твердый, уверенный, отечески-благосклонный голос:
– Здравствуй, Пушкин!..
Пушкин склонился – несколько ниже, чем ему хотелось бы…
– Я получил твое прошение… – продолжал Николай. – Но прежде, чем принять то или другое решение, я захотел лично повидаться с тобой: мне надо убедиться, что ты, действительно, в твоих мыслях исправился… Подойди ближе…
Он скрестил сильные руки на могучей груди.
– Что ты теперь пишешь?.. – спросил царь.
– Почти ничего, ваше величество… – отвечал Пушкин. – Цензура стала очень строга…
– Так зачем ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?!
– Цензура не пропускает и самых невинных вещей, ваше величество… – оживился Пушкин. – Она действует крайне неосмотрительно…
Государь неодобрительно покачал головой: нет, в этом шибздике духу еще очень много! Но Николай решил добиться своего. Разговор завертелся вокруг цензуры. У Пушкина был хороший запас сведений о дурачествах цензоров, и он еще более оживился, начал делать жесты, а затем, усталый с дороги, оперся задом о какой-то столик и стал с видимым удовольствием греть зазябшие ноги у огня камина. Николай слегка нахмурился, но ничего не сказал.
– А эти стихи тебе известны? – вдруг спросил царь, протягивая ему лоскуток бумаги.
– Это мои стихи… – взглянув, отвечал Пушкин. – Я написал их пять лет тому назад…
– Но ты нападаешь тут на правительство, – заметил Николай. – Эти стихи обнаружены у какого-то молодого офицера, и несколько человек уже запутались в деле и сидят… Видишь, к чему ведет твое легкомыслие!..
– Но эти стихи направлены против революционных безумств!.. – воскликнул пораженный Пушкин. – Они посвящены Андрэ Шенье, которого террористы погубили на эшафоте. Я… я решительно ничего не понимаю, ваше величество!.. Кто же мог так истолковать вам их?..
– А ну, дай-ка сюда, – сказал Николай, несколько смутившись. – Видишь ли, заниматься, да еще во время коронации, стихами мне времени нет… – говорил он, пробегая стихи глазами. – Да, в самом деле, мои молодцы переусердствовали… – бормотал он. – Да, конечно… Ну, хорошо… Я скажу там… А чего-нибудь новенького у тебя нет? – спросил он, чтобы замять поскорее скверный анекдот.
Пушкин похолодел: с ним в кармане был только «Пророк», которого он вновь записал, чтобы не забыть, в Твери, на станции.
– Кажется, ничего нет… – замялся он, вытаскивая из бокового кармана сюртука пачку бумажек и перебирая их. – Я выехал несколько поспешно, – сострил он и еще более похолодел: «Пророка» среди его листков не было – он где-нибудь, может быть, даже здесь, во дворце, оборонил его! – Нет, ничего нет… – сказал он.
Николай опять заговорил на разные общественные темы: он ощупывал бунтовщика со всех сторон. Пушкин лавировал, но в душе нарастало раздражение.
– Et bien, pour couper court[67]67
Ну, хорошо, чтобы кончить разом (фр.).
[Закрыть]: что сделал бы ты, если бы четырнадцатого ты был в Петербурге? – поставил Николай вопрос ребром, пристально глядя в это смуглое, живое лицо.
В Пушкине вспыхнула гордость. Но был тут и некоторый расчет.
– Стал бы в ряды мятежников, государь… – вскинул он на царя глаза.
Николаю это понравилось: он принял этот дерзкий ответ за ставку на его рыцарские чувства – он, действительно, считал себя каким-то рыцарем и гордился этим – и, несмотря на явную дерзость, ему захотелось оправдать этот расчет «шибздика», как он про себя звал Пушкина.
– Люблю за правду!.. – милостиво улыбнулся он. – Но я уверен, что с тех пор твой образ мыслей, действительно, переменился… Даешь ли ты мне слово думать и действовать иначе, если я выпущу тебя на волю?..
Пушкин повесил голову и долго молчал: дьявол-искуситель развернул перед ним все прелести мира, который молодой поэт так жарко любил. И он почувствовал, что дьявол побеждает. Он боролся из последних сил.
– Ну, что же? Я жду… – услыхал он отечески-строгий голос.
Пушкин почувствовал, что он летит в пропасть. Он поднял глаза: перед ним стоял с протянутой рукой царь. Еще секунда колебания, и он – положил в могучую руку государя свою маленькую, нервную руку. Николай снисходительно, как для детей, усмехнулся. Стыд жег Пушкина, как огонь, по всему телу, но в то же время он почувствовал, что с его плеч точно тяжкий камень упал: какое-нибудь одно определенное, раз навсегда, решение лучше этих вечных колебаний!
– Ну, я очень рад… за тебя… – сказал Николай. – А теперь entendon-nous[68]68
Договоримся (фр.).
[Закрыть]… Во-первых, я даю тебе позволение жить, где тебе угодно… Во-вторых, чтобы избавить тебя от цензоров… а цензоров от тебя, – засмеялся он, довольный своей остротой, – твоим цензором отныне буду я сам: все, что ты напишешь, ты будешь присылать мне чрез Бенкендорфа, а я посмотрю… Ну, и наконец, в-третьих, сколько тебе лет?
– Двадцать семь, ваше величество…
– Время жениться. Не все повесничать… – решил государь. – Для серьезного труда нужен покой семейного очага. Но я слышал, что денежные дела твои несколько запутаны. Не так ли?
– Так, ваше величество… – не мог не улыбнуться Пушкин. – Дела мои не веселы…
– Ну, вот… Служить, конечно, ты не желаешь?
– Служить бы рад, прислуживаться тошно, ваше величество… – пустил Пушкин цитату из грибоедовской комедии.
– Ну, конечно… Ты, слышал я, написал что-то там историческое из времен Годунова?
– Да, ваше величество…
– Ну, вот… С твоим дарованием ты можешь пойти далеко, но надо, наконец, взять себя в руки… Можешь всегда рассчитывать на мое покровительство – при соответствующем поведении bien entendu…[69]69
Разумеется (фр.).
[Закрыть] – значительно прибавил он. – Все, что нужно, пиши чрез Бенкендорфа. А теперь прощай и постарайся не очень болтать о нашем свидании – надобности в этом нет…
Пушкин откланялся – царь руки ему больше не дал – и, чрезвычайно взволнованный, вышел. Сразу же несколько спин согнулось перед ним: его аудиенция продолжалась необыкновенно долго. И он сразу почувствовал на своем лице тот мед, который подметил он у Дибича и адъютанта… Но мысль о пропавшем «Пророке» тяготила его чрезвычайно: если его кто найдет, все может рухнуть. А он уже совсем не хотел, чтобы это рухнуло: если ни графского титула, ни огромных поместьев он и не получил, то все же голова его кружилась в предвкушении больших успехов. Генерал Дибич и адъютант встретили его медовыми улыбками, а когда, раскланявшись с ними, он вышел, адъютант значительно усмехнулся:
– А заметили вы украшения на лбу нашего великого поэта, ваше превосходительство?..
– Да. А что?
– Corona Veneris![70]70
Корона Венеры (лат.).
[Закрыть]
– Какая корона? – двинул тот косматыми бровями. – Сиф?
– Сиф, ваше превосходительство…
Генерал покачал головой.
– Ну, это я вам доложу!.. Что же подумает его величество?
Пушкин вышел из монументального подъезда. Был роскошный, весь в бешеных огнях, осенний вечер. За рекой расстилалась тоже вся теперь пылающая Москва. Мир был прекрасен. В груди Пушкина поднялся радостный смех, и он, не удержавшись, широко раскрыл пленительному миру руки…
Сзади, в огромное зеркальное, тоже в огнях окно следил за ним холодными глазами Николай. Увидав жест поэта, он усмехнулся и долго с застывшей улыбкой смотрел ему вслед…
XXXVIII. Бал у герцога Рагузского
Выйдя из Спасских ворот, Пушкин тотчас же взял первого попавшегося извозчика и полетел на Басманную, к дяде Василью Львовичу: надо было прежде всего перехватить деньжонок. Василий Львович, толстый, карикатурный, очень обрадовался племяннику, но сейчас же вспомнил его обидную эпиграмму.
– Подлец ты, а не племянник!.. – закричал он. – Как же можно было родного дядю так осрамить?.. Да еще при гробе тетки… Изверг!..
– Но… но… но… – весело закричал Пушкин. – Прежде всего ты должен обнять своего знаменитого племянника!..
И сразу весь дом наполнился веселым гвалтом… Совершенно забыв о предостережении царя не болтать лишнего, Пушкин, хохоча, в лицах представил все происшествие с ним: приезд фельдъегеря, бешеную скачку по осенним дорогам в Москву, медовые лица генерала и адъютанта и, наконец, беседу с царем. Василий Львович, хотя и поэт, но человек практический, смягчился: шелопай, конечно, но ловок бестия!..
И, нашумев сколько полагается и заняв деньжонок, Пушкин понесся к себе в гостиницу – у дяди гостила по случаю коронации родня из деревни и места не было, – чтобы переодеться. Но пропавшая бумажка со стихами очень грызла его сердце. «Где и как мог я ее обронить?» – в сотый раз спрашивал он себя, перебирая все события дня, и никак не мог вспомнить.
Вбежав в отведенный ему номер, Пушкин стал быстро раздеваться, чтобы привести себя в порядок… Стоя перед испорченным всякими надписями зеркалом, он повязывал уже галстук, как вдруг глаза его поймали валявшуюся на истертом ковре бумажку. Он быстро нагнулся, развернул ее, и сразу с души его отлегло: то был «Пророк»! Он тут же зажег свечу и, смеясь, сжег свое стихотворение: теперь он свободен окончательно!.. Но стихи эти очень нравились ему, и, надев жилет, он присел к столу и переделал последнюю строфу… И, повертевшись перед зеркалом, совсем пьяный от воли, унесся…
В ту же ночь, на блестящем балу у герцога Рагузского, маршала Мармона, чрезвычайного посла короля Франции, Николай сказал маленькому, раззолоченному Блудову, прозванному в свете за свою чопорность «маркизом»:
– А я сегодня говорил с самым умным человеком России…
Блудов с недоумением взглянул на царя снизу вверх.
– С Пушкиным… – снисходительно пояснил Николай.
На старом, мужиковатом, с широким носом, лице Блудова недоумение еще более усилилось. Николай засмеялся.
– Нет, нет, это уже не прежний Пушкин… – довольный, пояснил он. – Теперь это мой Пушкин…
С высоты своего роста красавец царь смотрел на блещущий зал. В мерцании бесчисленных восковых свечей пред ним мирно, красиво двигалось многоцветное марево танцующих. Сверкали золото, бриллианты, женские глаза. Матовая белизна обнаженных рук, плеч и грудей нежила глаз. А с хор гремел нарядный экосез…
Веселитесь и резвитесь, –
тихонько подпевал оркестру Николай, –
Нужно время не терять…
Лишь весною красотою
Может роза нас пленять…
– Да неужели?! – воскликнул в небольшой группе нетанцующих денди с разочарованным лицом. – Я от него этого не ожидал… Entre nous soit dit[71]71
Между нами говоря (фр.).
[Закрыть], наш Nicolas больше жеребец, чем человек, но если болтовня о приеме им Пушкина правда, то – tous mes compliments[72]72
Мои поздравления (фр.).
[Закрыть]. Засадить Пушкина в каменный мешок всякий дурак может, а вот заставить его лить воду на свою мельницу – это a masterpiece![73]73
Высокое искусство (англ.).
[Закрыть]
– Вы что тут, о Пушкине, кажется, злословите? – обратился к ним, подходя, А.С. Соболевский, приятель Пушкина и всей Москве известный богач и бонвиван, прозванный за свое высокомерие My lord qu’importe[74]74
Лорд наплевать (англ. и фр.).
[Закрыть]. – Смотрите: я в обиду своего приятеля не дам!
– Нисколько не злословим, mon ami… – сказал разочарованный денди и, оттопырив мизинец, посмотрел в лорнет на проходивших мимо дам. – Напротив! Как сказывают, он имел сегодня совершенно исключительный успех у его величества…
– Как у его величества? – пораженный, воскликнул Соболевский. – Да разве он в Москве?
– Но откуда ты, друг мой? – пренебрежительно удивился денди. – С облаков, что ли, упал?.. Здесь, на балу, только об этом и говорят…
Полны славы, нам забавы –
тихонько подпевал под грохот оркестра Николай, –
Только надобно вкушать…
И в жарком сиянии свеч мерно, в такт, колыхалось прекрасное цветное марево танцующих пар…
Герцог с медоточивой улыбкой на выбритом лице подошел к его величеству.
– Но сколько хорошеньких женщин в вашей старой Москве, ваше величество!.. – льстиво сказал он. – И какое изящество!..
– Комплимент от француза это высший комплимент… – улыбнулся Николай. – Я не премину передать его нашим красавицам…
Соболевский спешно вышел в огромный вестибюль, и через минуту на монументальном подъезде раздался властный голос маститого швейцара, вызывавшего его карету… И так, как был, в бальном наряде и башмаках, Соболевский вбежал в гостиницу.
– Их нет… – сказал коридорный. – Только переоделись и сейчас же уехали…
– Ах, какая досада! – воскликнул Соболевский. – Где его комната? Я напишу ему записку…
– Пожалуйте, ваша милость… Вот тут: номер осьмой.
Соболевский вошел в довольно угрюмую комнату с беспорядочно разбросанными всюду вещами и, присев к столу, чтобы написать приятелю пару строк, увидал вдруг обрывок бумажки с наспех набросанными стихами. Он взял бумажку и стал читать:
ПРОРОК
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –
И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, –
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословной и лукавой,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, Пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей…»
«Замечательно! – подумал Соболевский. – Он растет не по дням!»
Он быстро набросал Пушкину веселую записку о немедленном свидании и на авось помчался к Василью Львовичу. Уже в вестибюле по заливистому хохоту и веселому гвалту в столовой он понял, что Пушкин тут. Пренебрегая на этот раз всяким этикетом, Соболевский опередил лакея и во всем своем бальном великолепии ворвался в столовую. Пушкин ужинал среди большого общества. Увидав друга, он разом бросился ему на шею… Василий Львович, сам Пушкин, молодежь со всех сторон тянули гостя к столу, но он вежливо отбивался:
– Невозможно!.. Совершенно невозможно… Я только на минутку, чтобы обнять Александра… Александр, милый, как я счастлив!.. Я слышал все о твоих успехах… И уже был у тебя… «Пророк» твой удивителен!.. Я сейчас должен мчаться на бал к герцогу Рагузскому, но завтра с утра ты ко мне: мы должны сразу же наговориться досыта… И ты завтракаешь со мной…
– Ну, да… Конечно… Но, может быть, ты все-таки присядешь с нами?..
– Oh, alors! – захохотал Пушкин. – В таком случае je n’ai qu’a m’incliner…[75]75
О, в таком случае мне остается только расшаркаться (фр.).
[Закрыть]
– Une femme… – улучив удобный момент, шепнул ему среди всеобщего веселого гвалта Соболевский. – И ты не можешь себе представить, что это за жемчужинка!..
Окончательно уговорившись о завтрашнем утре, Соболевский понесся на бал. Карета его вкатилась в золотой – от фонарей бесчисленных экипажей и ярко освещенных окон – сумрак осенней ночи, и он, сбросив свой щегольской плащ, быстро пошел широкой, уставленной дорогими цветами лестницей. Кто-то, выходя из зала, отворил дверь, и красивая мазурка веселым цветным водопадом рванулась на лестницу.
Скорей сюда все поспешайте… –
замурлыкал возбужденный Соболевский, подпевая, –
Кто хороводом здесь ведет?
Хвалы вы дань ей отдавайте:
Ее в красе кто превзойдет?..
Жаркий, душистый воздух зала пахнул ему в лицо… Еще несколько мгновений, и он почтительно склонился пред розовой, очаровательной Александрой Осиповной Россетт. Она, сложив веер, с прелестной улыбкой встала, и по сияющему паркету в золотом блеске бесчисленных огней, золота, бриллиантов и женских лиц, среди многоцветного марева танцующих, они понеслись в мазурке. Николай – он разговаривал с голландским посланником, бароном ван-Геккерен, вылизанным, сухим, корректным, – заметил пару и, лукаво скосив красивые глаза свои, ждал красавицу… И опять она, играя, потупила свои огневые звезды…
Но не уступит ей другая… –
весело подпевал про себя его величество, –
Искусством, ловкостью, красой…
И сердцем, душу восхищая,
Блестит, как солнышко весной!..
Чуть склонившись к очаровательной смуглянке, Соболевский нашептывал ей в хорошенькие, розовые ушки дерзкие, пьяные речи…
Музыка в море огней гремела…









































