Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
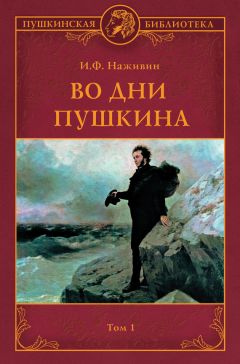
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XLI. У Марьи Ивановны
Никогда не поймет сумятицы человеческой тот, кто не учитывает действия на судьбы человеческие бесчисленных психозов, которые вдруг овладевают как отдельными людьми, так и в особенности толпами человеческими. И чем больше голов охватывают эти психозы, тем опаснее и острее они делаются: человек, как полено в поле, один горит плохо. Человек в единственном числе иногда бывает похож и на человека, но человек во множественном числе есть опаснейшее из всех бедствий на земле не только для себя, но и для всего остального населения земного шара…
Таким бродилом безумия в эти дни в московском обществе, в его «сливках», явился, как это ни странно, Пушкин. Население очень расплывшейся по своим холмам Москвы, полное забот о поддержании жизни своей и близких, торговало, пекло калачи, стирало на Москве-реке и Яузе белье, возило дрова, убирало с улиц снег, варило пищу, шило одежду и обувь, делало, словом, те тысячи маленьких дел, без которых жизнь развалилась бы, а сливки, – к несливкам они относились, как 1 к 10 000, – поев утки с груздями и выпив шампанского, с ума сходили вокруг имени молодого поэта. В душе, конечно, огромное большинство этих поклонников поэзии предпочитало утку и ласки какой-нибудь смуглой Стеши ставило выше всех поэм мира, но, один другого заражая и взвинчивая, они делали вид, что стихи для них – все. И, топорщась, они возносили Пушкина все выше и выше, ибо, чем выше был он, тем выше были, понятно, и они, его поклонники.
Пушкин читал у Веневитиновых своего «Бориса Годунова». Его слушатели, образованные москвичи того времени, были воспитаны на Державине, Хераскове, Озерове, Ломоносове. Учителем своим они считали Мерзлякова. Они ждали какого-то величавого жреца высокого искусства и вдруг с изумлением увидали маленькую, живую фигурку с кудрявой головой, выразительными глазами, в черном сюртуке и небрежно повязанном галстуке, и вместо высокопарной французской декламации, которая тогда была в моде, они услышали вдруг живую и простую речь… Первые явления были выслушаны спокойно, но уже сцена летописца с Григорием всех ошеломила, а потом все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в холод, и волосы подымались дыбом, – пишет будущий профессор Погодин. – Не стало сил воздерживаться. Кто вскочит с места, кто вскрикнет. А когда кончилось чтение, сперва все молча смотрели один на другого, а потом бросились к Пушкину. Начались объятия, раздались поздравления, смех, полились слезы и, конечно, эван, эвоэ, дайте чаши!.. «Не помню, – заключает свой рассказ профессор, – как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен наш организм…»
И эта истерика перекатывалась по всей Москве…
Был назначен вечер в честь Пушкина и у Марьи Ивановны Римской-Корсаковой. Она была от литературы вообще довольно далека и иногда все эти «финти-фанты», как выражалась она, просто набивали ей оскомину, но не хотелось отставать от людей: поветрие заражало и старуху, простого, хорошего человека без всяких затей…
Марья Ивановна была не только коренной москвичкой, но отчасти и достопримечательностью тогдашней Москвы, как балы Иогеля. Она и смолоду жила весело и привольно: об этом заботились несколько тысяч «душ» в Пензенской и Тамбовской губерниях. Муж ее, в молодости красавец конногвардеец, почил от дел своих в сан камергера. И вдруг – гроза 1812 года. Под Бородиным пал первенец Марьи Ивановны, Павел. Занесенный испуганным конем своим в самую гущу французов, богатырь – он обладал огромной силой – долго отбивался от наседавших врагов палашом, раскроил несколько голов и, наконец, пал, сраженный пулей. Тела его так и не нашли, и это составило предмет тихого горя и слез матери на долгие годы… Как и все, Марья Ивановна должна была покинуть Москву. Она бежала в Нижний, где уже бились в нужде и тесноте многие москвичи, как Карамзины, как веселый Василий Львович Пушкин, который остался без гроша и всю зиму отхватал там без шубы. А когда гроза миновала и Марья Ивановна вернулась в Москву, она нашла свой поместительный, чудесный дом загаженным выше всякой меры и разграбленным. Но скоро все было восстановлено лучше прежнего, и начались по Москве патриотические торжества. Наполеона Марья Ивановна ненавидела всеми силами души, осыпала его всегда отборными ругательствами, а день, когда злодей, наконец, «околел», был для нее настоящим праздником. «Я не умею тебе объяснить, – писала она в одном письме, – как я боготворю Блюхера и Веллингтона…»
Потом как-то незаметно скончался в деревне – он всегда жил в глуши – ее камергер, и она взяла бразды правления в свои руки. Ей было уже под пятьдесят, но она была совсем здорова и полна и только вертижи иногда беспокоили ее. Двухэтажный дом ее с огромной усадьбой кипел жизнью. Большая семья, масса холопов, бесчисленные гости, какие-то старички и старушки, приживальщики, – «моя инвалидная команда», как добродушно звала их Марья Ивановна, – балы, концерты, выезды – опомниться некогда!..
Вставала Марья Ивановна рано. Помолившись Богу, она пила со своей любимой горничной чай в гостиной, и та ставила ее au courant всей закулисной жизни большого дома. Затем являлись для доклада приказчик, старший кучер и проч. и начинались заботы о гардеробе дочерей-красавиц, о приличной обстановке для Гриши, который служил в Петербурге. И она сама составляла не только список всей нужной для офицера мебели и посуды, но и покупала в Ростове четверку ладных лошадок для него, всю сбрую и сама выбирала для него кучеров, заказывала обмундировку для младшего, Сергея – «распоясывайся, мать Марья!»
Несмотря на очень большие доходы с имений, Марья Ивановна, как и полагается, была вся в долгах. Но она знала обхождение с кредиторами. Придет, например, каретник, она усадит его, напоит чаем, заговорит, и у того просто язык не поворотится напомнить о деньгах такой обходительной барыне, и он уходит хотя и без денег, но довольный приемом…
Отправив кредитора, она садится писать письмо Грише, а потом снова с головой уходит в домашние дела. Нужно, например, обить мебель новой материей. Зовет она Мишку, Тимошку да Алешку: «Я им приказала быть tapissiers[78]78
Обойщиками (фр.).
[Закрыть], они взяли молотки в руки и заколотили». А сделали так: «Та комната, из которой топится камин, обивается кумачом и делает вид мериносу; другая, где клавикорды стоят, синей китайкой, наподобие каземира Marie-Louise; третья, гостиная, желтой английской китайкой, которая не в пример лучше сафьяна…» И т. д.
А тем временем начали уже появляться по тогдашнему обычаю ранние визитеры, а то сама куда-нибудь выедет. Среди визитеров ее бывают люди и с большим весом, как иерусалимский патриарх, например. «Предобрый старик, и не ханжа, много рассказывал про Иерусалим – удивительно, какое интересное место! Когда будут крестовые походы, непременно с тобой поеду, Гриша, и вся компания наша собирается, кто с котомкой, кто с мешком, иные пешком…»
Потом Марья Ивановна обедает, после обеда отдыхает часок-другой, а вечером или у нее гости, или она куда едет поиграть в банчок на серебряные пятачки или в бостон. То в театр поедут на «Сороку-Воровку», – «мамзели мои так разревелись, что унять нельзя!» – а то к замужней дочери своей, Волковой, заглянет. Но она недолюбливает гордячку и всегда величает ее в письмах своих Панталоновной. На балы ездить Марья Ивановна не охотница, но ничего не поделаешь: надо дочерей вывозить. Зато в чистый понедельник она вздыхает всею грудью: «Слава Богу, конец!.. Так балы надоели, мочи нет…»
Марья Ивановна богомольна. Когда поутру возвращается она с бала, то, не снимая бального платья, отправляется в Страстной монастырь к заутрени, вся в бриллиантах и перьях, и, только отстояв службу, идет отдыхать. Говеет она усердно, истово, как, впрочем, истово и живет. «Не умею любить немножко, – говорит она, – а скажу, как Павел-император: не люблю, сударь, чтобы епанча с одного плеча сваливалась. Надо носить на обеих плечах, твердо!» Как все старики, Марья Ивановна смотрела назад и находила, что Москва нового царствования «деженерировала»: «Ни сосьетэ, ничего нет путного; тошно даже на гулянье, а знакомых почти нет. Так идет, что час от часу хуже, точно, кто был последним, тот стал первым». Но и этой новой Москве Марья Ивановна умеет заявить, кто она. Собралась раз она со своими красавицами в театр, велела уже карету закладывать, и вдруг ей говорят, что спектакль отменен, так как директор театра куда-то за город зван. «Нужды нет! – говорит она. – Едем…» Приезжают: никого в театре нет. «Человек, позови кого-нибудь из конторы!» Является представитель администрации: «Что вам угодно, сударыня? Театра не будет. Господин директор приказали отказать…» «А я, милостивый государь, прошу вас сказать господину директору, что он дурак… Пошел домой! – приказала она кучеру и в окно добавила величественно: – Я – Марья Ивановна Римская-Корсакова…» И это сходило: Марью Ивановну лично знала и уважала вся царская семья…
Вообще язык ее, как и у большинства старых москвичек, был простой, прямой и живописный чрезвычайно: свой день рождения в письме к сыну она называет «день, когда я прибыла в здешний суетный свет и вас за собой притащила», сыновьям пишет: «Люблю вас всех равно – вы все из одного гнезда выползли, одна была у вас квартира», а о кучерах своих выражается так: «Ванюшка хорош на дрожках – рожа и фигура хороши, а как он на козлах, он думает об себе, что первый в мире, – как Наполеон думал».
Вот вдруг собралась Марья Ивановна вояжировать заграницу и тронулась туда, как полагается, чуть не целым поездом. Восхищению ее не было границ: так все чисто и аккуратно. А эта дешевка! И она накупала горы вещей, которые и отправляла домой возами, не очень беспокоясь о том, что они ей совсем не нужны. Но и в чужих краях она гордо держала русское знамя и все свои письма оттуда помечала русским стилем: «Немецкого и писать никогда не стану, – поясняет она. – Со мной календарь наш, по нем и живу…» И, промотавшись начисто, назанимав денег – на ненужные покупки – и направо, и налево, она, дождавшись солидного секурсу с родины, вернулась в благословенную Москву, и снова жизнь старого дома потекла широко, шумно и весело…
Любимцам муз как таковым, по совести, в этой жизни делать было нечего – разве написать куплеты какие для веселого праздника – и вот тем не менее общее поверие заразило и Марью Ивановну, и она собрала к себе всю Москву «на Пушкина».
В ярко освещенных покоях старого дома сияли женские глаза и плечи, звезды сановников, гвардейские мундиры, генеральские эполеты. Пушкин, только что кончив чтение «Бориса Годунова», был, как всегда, окружен венком из дам. В углу, под большими бронзовыми, костром пылающими – Марья Ивановна любила яркое освещение и на свечи не скупилась – канделябрами сидел, опираясь на золотую трость, в шитом золотом кафтане и звездах старенький, чистенький, рябой И.И. Дмитриев, екатерининский пиит и министр, и своим генеральским баском медлительно рассказывал почтительным слушателям:
– …они стали унимать меня к обеду. Ну, после кофия я опять поднялся и опять упрошен был до чаю. Весь вечер одни веселости сменялись другими. О, князь мастер жить!
Все почтительно слушали. В нем чтили великое прошлое. Он принадлежал к той группе писателей, уже сошедших со сцены, которые сделали своей задачей воспевать никогда не существовавшую Россию. Державин давал, например, такие наставления начинавшим поэтам: «Возьмите образцы с древних, если вы знаете греческий и латинский языки, а ежели в них неискусны, то немецкий. Геснер может вам послужить достаточным примером в описании природы и невинности нравов. Хотя климат наш суров, но и в нем можно найти красоты и в физике и в морали, которые могут тронуть сердца».
И вот, чтобы тронуть сердца, Державин трескуче воспевал самодержавие, преувеличивал его победы, раскрашивал неестественно его героев, Карамзин живописал и Наталью, боярскую дочь, и мучительно неестественную бедную Лизу, и очаровательных пейзан, а ему вторил Дмитриев:
Запасшися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет,
Обогащенный щедрым небом,
Блаженство дней своих поет!
И правительство засыпало своих пиитов чинами, звездами и золотом…
– О, слава! – кокетничал Пушкин перед красавицами. – Мой приятель Нащокин сказывал мне как-то, что он встретил одного приезжего из провинции. Тот уверял его, что стихи Пушкина там уже не в моде, а все запоем читают нового поэта, Евгения Онегина! Да и вообще это наше преклонение перед жрецами Аполлона вещь сравнительно новая… – среди общего смеха продолжал он. – Вспомните Тредиаковского: сколько раз его били! Раз Волынский заказал ему на какой-то праздник оду, тот не успел справиться с заказом, и пылкий статс-секретарь наказал собственноручно оплошного стихотворца своей тростью…
Снова общий смех покрыл слова молодого поэта.
Смеясь, он взял подруку Гришу и отошел с ним к окну.
– И вообще тут слишком много условного… – сказал он. – Когда я был еще в лицее, мы вдруг узнали, что к нам едет Державин. Дельвиг вышел тайком на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать руку, написавшую «Водопад». Державин вошел в сени, и вдруг Дельвиг слышит его вопрос швейцару: «А скажи, братец, где у вас тут нужник?» И от прозаического вопроса этого, столь от «Водопада» далекого, Дельвиг сразу завял и потихоньку возвратился в актовую залу…
В дверях гостиной появился вдруг князь П.А. Вяземский и молодой, но уже известный польский поэт Адам Мицкевич, недавно высланный из Литвы в Москву. Сказать, что изгнание это было очень уже страшно, никак нельзя: Мицкевичу дали место при московском генерал-губернаторе, и все московские гостиные сразу открылись для него. Это был худощавый блондин с пышной гривой и мечтательными голубыми глазами. Начались любезные представленья, шарканья, улыбки… Мицкевич, желая приветствовать маститого И.И. Дмитриева, повернулся к нему. Пушкин торопливо посторонился.
– С дороги, двойка: туз идет! – любезно воскликнул он.
– Козырная двойка туза бьет… – живо отвечал литвин.
И все улыбкой показали, как высоко оценили они этот обмен любезностями между двумя поэтами… Дмитриев кушал с блюдечка малину в сливках – в октябре! – свое любимое лакомство: Марья Ивановна выпросила малину для почетного гостя у Шереметева в Останкине. Мицкевич склонился пред ним. И старик, не торопясь, отставил блюдечко и сдержанно вежливо встретил ссыльного.
– Но что лишает меня всякой радости жить, это участь тех наших дам, которые собираются вслед за мужьями в Сибирь… – играя веером, проговорила полная, румяная дама. – Как эта наша бедная fille du Gange…
– Oh, oui!.. C’est terrible, terrible![79]79
О, да! Это ужасно, ужасно! (фр.).
[Закрыть]
– Но какая странная вся эта история, – заметила другая. – Точно дурной сон какой… Что им было надо?
– Ну, сон… – зло сказал сухой генерал с сердитыми бровями. – Ces messieurs[80]80
Эти господа (фр.).
[Закрыть] подвели столько семей под удар в погоне за всеми этими фантазиями… А, вернее, просто честолюбие причиной всему…
– Покойный Растопчин хорошо говорил: в других странах сапожники делают революцию для того, чтобы стать господами, – играя лорнетом, вставил один архивный юноша с почтенной уже лысинкой, однако, – а у нас господа захотели стать сапожниками…
– Слушайте, – сразу прилипла к нему безбровая, некрасивая дама, – скажите, правда, говорят, что Растопчин в Париже вел слишком уж веселую для своих лет жизнь?
– Но это всем известно, его парижские проказы! – горячо подхватила другая, с лошадиными зубами и высохшей шеей. – Говорят, это чтобы забыться: ему будто бы все являлась тень замученного им Верещагина…
– Бррр! Перестаньте, пожалуйста!..
Князь Вяземский с своей обычной щенячьей серьезностью на лице строго блеснул своими золотыми очками: он терпеть не мог Растопчина и всего его хамского стиля.
– Преувеличенное значение четырнадцатому декабря придали только эти особенности российского бытия нашего… – сдерживая злость, сказал он. – При других условиях «Русская Правда» Пестеля была бы только довольно интересным политическим трактатом, а сам он, вероятно, оказался бы посредственным профессором государственного права…
Выходка князя несколько взволновала гостиную. Княгиня Зинаида Волконская, уже привядшая красавица и всей Москвы известная меценатка, с улыбкой пошептавшись с Марьей Ивановной, метнула лукавый взгляд в сторону Пушкина и села за рояль. Все сразу затихло, только чей-то недовольный бас поторопился прибавить:
– Независимые люди были всегда. Возьмите Карамзина. Несмотря на свою близость к покойному государю, он никогда не подделывался под господствовавший при дворе тон. «Я текстами не промышляю, – говорил он. – Иногда смотрю на небо, но не тогда, когда другие на меня смотрят…» Можно быть консерватором, но…
Ряд красивых, бархатных аккордов покрыл его слова, и полный голос княгини запел:
Погасло дневное светило…
Все невольно переглянулись: это были стихи Пушкина. Краска удовольствия залила живое лицо поэта. Все затаилось.
Шуми, шуми, свободное ветрило!
Волнуйся подо мной, угрюмый океан!..
Вечер все более и более превращался в какую-то литургию новому божку. И не только наиболее чуткие из гостей, но и сам Пушкин чувствовал, что выходит как-то слишком уж приторно. И Саша Корсакова сияла на него своими теплыми, бархатными глазами, и улыбка Софи, ему предназначенная, была одно очарование, но было просто довольно. Все дружно осыпали певицу восторженными изъявлениями своего полного удовольствия… Но начался уже незаметный разъезд. Пушкин должен был остаться и на ужин. А потом, сговорившись тихонько с Вяземским и Мицкевичем, они вместе вышли на слабо освещенную Страстную площадь. После жаркого воздуха гостиных ночной холодок был просто упоителен.
– Хотите промяться немного? – спросил Пушкин своих приятелей. – Теперь славно пройтись по Тверскому…
– С удовольствием… – с польским акцентом отвечал Мицкевич. – Меня многолюдие всегда утомляет.
XLII. На тверском бульваре
Пушкин снял свою светлую, мягкую шляпу и с удовольствием ощущал на разгоряченной голове дыхание ночного ветра. По дворам лаяли собаки. Изредка, тускло светя фонарями, гремела вдоль бульвара карета. Сонный полицейский посмотрел вслед поэтам и сочно зевнул на весь бульвар.
– Д-да, я вам доложу… – вдруг засмеялся Пушкин. – Поклонники, конечно, но… в большом количестве тяжеленько. Шамфор спрашивает, сколько нужно дураков, чтобы составить публику… А вот тем не менее льстит нам вся эта музыка!..
– Я сегодня так устал, что даже бунтовать не могу, – зевнул Вяземский. – У Марьи Ивановны еще туда-сюда, а у Зинаиды просто терпения нет. Возвышенность ее, что ли, так утомляет, черт их знает, но надоело до смерти…
– Глупость меня утомляет, – рванул Пушкин. – Ничего не могу вообразить себе глупее светских суждений о литературе… Недавно одна дура раскрыла при мне вторую часть Карамзина и прочла вслух: «Владимир усыновил Святополка, однако не любил его… Однако!.. Почему не но? – возмущается. – Как это глупо!.. Чувствуете ли вы всю ничтожность вашего Карамзина?..» А сейчас вот смотрела на меня во все глаза и млеет, стерва…
– Хорошенькая? – лениво спросил Вяземский.
– Ведьма… И в глазах что-то кобылье…
– Если бы хорошенькая, то пусть бы млела… Я…
И князь, по своему обыкновению, присолил, Пушкин весело отпарировал. Князь наддал еще.
– Господа… – с легким укором попытался остановить их Мицкевич, которому этот обычай московских бояр совсем не нравился. – Неужели же нельзя без этого?
– Привыкать надо, пане… – лениво сказал Вяземский. – В чужой монастырь с своим уставом не ходят. Это придает разговору остроту… А я давно хотел сказать тебе насчет твоего «Годунова», – обратился он к Пушкину, – что, как ни хорош он с точки зрения поэтической, историческая основа его мне кажется сомнительной. Это версия казенных историков…
– Где же возьму я тебе другую версию? – воскликнул Пушкин. – Романовы свои архивы держут под замочком…
– Вот именно это-то обстоятельство и говорит мне, что там что-то есть! – сказал Вяземский. – И потому твой Борис сомнителен. Историческую правду нам преподносят в гомеопатических дозах. Возьми хоть тот же 1613 год. Из него сделали поэму со слезой, а на самом деле черт их там знает, как вылезли Романовы наверх. Что Миша был не только неграмотен, но и простоват, это не секрет, но и папаша их, Филарет, тоже, по-видимому, от святителя далеки были… Недавно я читал, что Филарет Никитич божественное-де писание отчасти разумел, нравом же был опальчив и мнителен и власть имел такую, что сам царь его боялся. Бояр и других сановников сильных томил заточениями безвозвратными и иными наказаниями и всяким делом ратным и царским сам владел… И в одной из грамот Годунова предписывается настоятелю монастыря крепко смотреть за сим опальным старцем, который «лаится» и бьет монахов… Может быть, вместо исторической трагедии и ты просто новую сказку про Бову-королевича написал… В конце концов, все, что мы печатаем, это только дым и больше ничего…
– Да и дыму-то немного… – засмеялся Пушкин. – Давно ли мы и дар слова приобрели? Старой словесности у нас не существует. За нами – степь, а среди степи возвышается один только памятник: Песнь о полку Игореве…
– Не знаю, как ты, но я сегодня что-то об этом и не особенно сожалею… – зевнул князь. – Мыши с голоду не пропадут и без нас…
– Если литература не ставит себе высокой цели облагородить человека, то, конечно, это только дым, и горький… – высказал Мицкевич одну из своих любимых мыслей.
– Конечно, все суета сует… – улыбнулся в темноте Пушкин. – Но все же от суеты нашей кое-что и останется, вероятно. Вон Пестеля повесили, и как будто конец всему, но списки его «Русской Правды» ходят, говорят, по рукам и из них люди узнают, что народ российский не есть принадлежность какого-нибудь лица или семейства, а, наоборот, правительство есть принадлежность народа, что не народ существует для блага правительства, а правительство для блага народа…
– Боюсь, что с этим не согласится не только Николай Павлович, но теперь, пожалуй, и Пестель… – засмеялся князь. – Трудно согласиться, что благо граждан требует для граждан веревок!
– Можно сказать, что это правительство не есть истинное правительство… – сказал тихо Мицкевич.
– А кто же должен установить истинность правительства? – засмеялся Пушкин. – Бенкендорф твердо убежден, что истиннее его с Николаем и в подлунной нет…
– Истинность правительства утверждается его кулаком, – закрепил Вяземский.
– Нет, народным признанием… – сказал Мицкевич.
– Народное признание вещь весьма дешевая, – возразил князь. – Сегодня это жирондисты, завтра монтаньяры, потом Наполеон, а потом опять Людовик Дизвитов… И у нас четырнадцатого народ кидал в Николая поленьями, а теперь надседается-кричит ему «ура»… Чем дальше от уважения народов, тем спокойнее… И – воздух чище… – опять заострил он. – Впрочем, черт с ними, и с народами, и с правительствами, и со всякими книжками… Что это давно Нащокина в клобе не видно? – переменил он разговор.
– У него дьявольский насморк, – сказал Пушкин. – Нос его теперь подобен тем красным фонарям, которые подвешивают у входа в бордель…
Оба засмеялись. Мицкевич нахмурился.
– Отчего вы, русские, не можете говорить без этих приправ?
– Но оттого же, пане, отчего и в кушанья кладутся приправы, – засмеялся Пушкин. – Но сколько в Нащокине лени, так это даже изумительно! Глядя на него, я всегда вспоминаю того лорда, который учил своего сына двум главным житейским правилам: никогда не делай сам того, что можешь заставить сделать другого, и никогда не делай для другого того, что можешь сделать для самого себя.
Глаза Мицкевича становились все сумрачнее: этот постоянный цинизм его славянских братьев тяготил его. Когда он бывал с ними, он чувствовал, что его вера в человека начинает колебаться, и не только в человека, но и в жизнь вообще, в правду, в идеал… Везде наставили Аполлонов Бельведерских, культ музыки практикуют, поэзии, всякие утонченности, а как останутся одни, сразу превращаются в пьяных илотов.
Он происходил из мелкой и небогатой, так называемой засцянковой шляхты… Польша в те времена тоже отдавала дань мировым увлечениям. И в ней люди, которым хотелось жизнь человеческую немножко приукрасить, основывали всякие кружки с целью борьбы с отживающим, как им казалось, злом и самосовершенствования. Если одни устраивали кружок «шубравцев»[81]81
Проказников.
[Закрыть] – нечто подобное петербургскому «Арзамасу» – и издавали журнал Wiadomości Brukowe[82]82
Известия с мостовой (польск.).
[Закрыть], то другие не отставали и клали основание кружку филоматов, третьи думали, что общество филаретов принесет еще больше пользы. Мицкевич принимал, конечно, участие в этих движениях против русского ига. В стихах своих он был к себе строг: он требовал и от поэзии непосредственного нравственного влияния на жизнь. Поэзию он считал столь же священной, как и религию, сестру ее. Истинными поэтами, по его мнению, были только пророки… Это не помешало ему, однако, влюбиться в хорошенькую Марылю. Но судьба – или родные, что все равно – решила, чтобы их Марыля вышла за другого. Марыля так и сделала, а потом писала своему поэту письма, прося забыть ее и успокоиться. Но советы ее были бесплодны, и, когда русское правительство, недовольное заботами Мицкевича о всеобщем благе, в числе других заботников выслало его с родины во вражью Москву, он и сюда принес свою тоску о белокурой литовской девушке. Здесь, в Москве, он особенно сблизился с князем П.А. Вяземским, который, зная по-польски, лучше других мог оценить его уже прогремевший на родине талант и который уже перевел несколько его вещей и поместил их в «Московском Телеграфе» Полевого, самой передовой и опасной газете того времени. Сошелся он и с Пушкиным, и в области поэзии, а отчасти и за зеленым столом. Но в то время как Пушкин за картами безумствовал, проигрывая иногда даже свои пистолеты или даже очередные главы из «Онегина», Мицкевича сравнительно слабо волновала игра…
– Но удивительна эта ваша Москва! – проговорил Пушкин, шагая рядом с приятелями по темному бульвару. – Засасывает человека, как болото. Ты подумай: до сих пор я не мог вырваться, чтобы повидать Чаадаева! Правда, один раз забежал к нему, но он был болен и меня его Никита не пустил…
– Не могу сказать, чтобы ты потерял так уж много… – с неудовольствием сказал Вяземский. – Когда я вспоминаю о нем, у меня сводит скулы.
– Перестань, пожалуйста! Во всяком случае, это человек исключительного ума…
– Да, он гораздо умнее того, чем он прикидывается… – подумав, сказал князь. – Природный ум его чище того систематического и поучительного ума, который Чаадаев на него нахлобучил…
Пушкин живо взглянул на него: ему показалось, что князь попал очень метко. В самом деле, Чаадаева, как было слышно, книга съедала все более и более.
– Один бедный мулла с целью исполниться духа Магометова изрезал и съел Коран… – сказал он. – И таких мулл среди ученых не мало. Но Чаадаеву нет надобности есть Коран: он способен сам написать его…
– Никогда не напишет он никакого Корана! – воскликнул князь. – Это бесплодная смоковница, о которой говорится где-то в Священном Писании…
– Где-то! – усмехнулся Мицкевич. – Это недурно… Это эпизод из жизни Христа…
– Я не был членом Библейского Общества… – лениво усмехнулся Вяземский. – У нас вообще знакомство с Писанием слабовато, и, несмотря на все усилия заботливого правительства, Писание у нас до сих пор сильно разбавлено Вольтером. Недавно мне рассказывали об одном таком библейском вольтерианце, который, усовещивая своих мужиков и призывая их к упорядочению жизни и, конечно, к уплате оброка, привел им цитату из, как ему казалось, Священного Писания: «Береженого коня и Бог сбережет»…
– Оч-чень хорошо! – звонко захохотал Пушкин. – Превосходно!
Мицкевич опять тихонько сжался.
– Чаадаева раздули… – упрямо ворчал князь. – И ты же первый, пожалуй, виноват в этом. «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, у нас он офицер гусарской…» Да позволь, милый мой: кто же, собственно, мешал ему быть и у нас и Брутом, и Периклесом? Или он ждал высочайшего приказа стать таким героем? Никто не мешал… Ни Бруты, ни Периклесы – если наше представление о них верно – не ждут разрешения занять свое место в истории, а просто занимают его. Конечно, в качестве пииты ты не совсем ответствен за то, что иногда ты по-приятельски сморозишь, но все же, по-моему, у Грибоедова хорошо сказано: ври да знай же меру!..
– Отстань! Я на ночь спорить не желаю, – сказал Пушкин. – Но клянусь бородой пророка, завтра с утра еду к Чаадаеву! – воскликнул он. – Это прямо свинство…
Город спал… В душе Пушкина вдруг вспыхнула тоска: осень, его любимое время, проходит, а он вот тратит его по пустякам!.. И ничего не выйдет с Софи: определенно говорят, что Панов собирается сделать предложение. Николай прав: пора завивать свое гнездо. Саша? Он посмотрел в сторону Страстного, но отсюда огней у Корсаковых не было видно. Но, главное, главное, надо работать!.. Напрасно проклинал он тогда так Михайловское: нигде так хорошо не работалось, как там, в тишине… И вспомнилось милое Тригорское и тихая Анна с ее любовью… Да, надо ехать туда, поработать как следует, а там видно будет… А так просто свихнешься…
У Страстного монастыря они расстались: князь жил в Чернышевском переулке, Пушкин на Собачьей Площадке, а Мицкевич в Столешниковом, – идти всем было недалеко…
И в сердце ссыльного поэта вдруг поднялась тоска о далекой белокурой Марыле…









































