Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
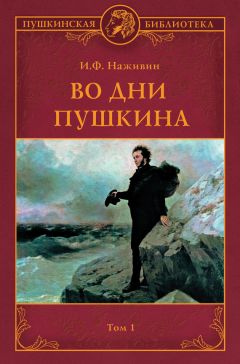
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXIV. Накануне
Все колеблясь перед последним шагом, все откладывая его, заговорщики постановили, наконец, приступить к решительным действиям весной 1826 года, хотя эти решительные действия были для них по-прежнему очень неясны. И вдруг из далекого Таганрога прилетела неожиданная весть о смерти тирана. Законным наследником был Константин, и вся Россия незамедлительно присягнула ему. Он в это время жил со своей морганатической полькой – за великие заслуги ее перед Россией ей было пожаловано княжеское достоинство – в Варшаве. Сразу поползли слухи об отречении Константина. Завещание Александра по этому поводу хранилось в Государственном Совете, синоде, сенате и в Москве, в Успенском соборе. Митрополит Филарет вскрыл завещание, все убедились в отречении Константина и в том, что императором должен быть Николай.
Николаю было известно о завещании брата, но предъявлять свои державные права он не торопился: в его руках уже были доносы Майбороды, Шервуда и то письмо Якова Ростовцева к царю, за которое взбешенный Рылеев хотел было Ростовцева, «в пример другим», убить, но не убил. Все эти документы ясно говорили Николаю о положении: на Кавказе был со своими обстрелянными кавказцами противник немцев, Ермолов, в Новороссии орудовало Южное Общество во главе с Пестелем, в Петербурге в заговоре участвовало много гвардейских офицеров и представителей аристократии, а в Варшаве во главе лучших российских полков стоял Константин, который в случае чего мог, пожалуй, и передумать… И Николай принять бразды правления колебался.
Все растерялись. Николая определенно не любили. Правда, любить не за что было и Константина, великого кутилу и бабника, на совести которого было не одна грязная история. Петербуржцы еще не забыли страшной судьбы жены придворного ювелира Араужо. Когда она отвергла приставания Константина, он приказал похитить ее и – отдать на изнасилование солдатам-конногвардейцам. Они замучили ее до смерти. Константин в глазах людей государственно мыслящих был хорош тем, что, утомленный бурной молодостью, он скорее согласился бы на конституцию. Но Константин видел вещи ясно и любил выражаться точно. Когда при виде его толпы кричали ему, как полагается, «ура», он только головой покачивал:
– Знаю вас, канальи, знаю!.. – говорил он. – Теперь вы орете «ура», а если бы меня потащили на эшафот и спросили бы вас: любо ли? вы орали бы: любо!..
Николай смущал любезных верноподданных еще больше. По его собственным словам, он и его братья получили «бедное образование». Главным развлечением в детстве для молодых отпрысков царствующего дома была игра в оловянные солдатики. Иногда, подражая солдатам, они подолгу стояли на часах и часто, даже по ночам, вскакивали с постелей, чтобы хоть немножко постоять с алебардой или ружьем. Едва выйдя из отроческого возраста, Николай провел два года в заграничных походах, а возвратясь, стал командовать Измайловским полком. Он был несообщителен и чрезвычайно груб. В 1822 году он оскорбил грубым выговором офицера лейб-гвардии Егерского полка В.С. Норова настолько, что все офицеры возмутились. Николай, объясняясь с Норовым по этому поводу, в разговоре взял его за пуговицу. Норов оттолкнул его прочь.
– Не трогайте, ваше высочество! – оборвал он. – Я боюсь щекотки…
Но это не излечило Николая, и вскоре командир гвардейского корпуса, Васильчиков, заставил его извиниться перед командиром Егерского полка Бистромом, которого великий князь опять оскорбил грубым выговором. Такая же история была у него в Измайловском полку. Офицеров Финляндского полка он обозвал всех свиньями и потребовал, чтобы они занимались службой, а не философией.
– Я этого не люблю!.. – кричал он своим медным голосом. – И можете быть уверены, что я всех философов в чахотку вгоню…
Жена его, «Александра Федоровна», дочь Фрица, который не хотел сражаться без штанов, разделяла его непопулярность. Молва обвиняла ее в крайней расточительности на себя и в скупости для бедных. За ней скоро утвердилась кличка «картофельницы».
Под пару Николаю был и брат его, Михаил. Ни письменного, ни печатного он с малолетства не любил, но любил играть в солдатики и – каламбурить. Он терпеть не мог гражданской службы и был твердо уверен, что военный порядок совершенно достаточен для управления. О военной иерархии он имел самое высокое понятие и звание командира полка, а еще более того корпуса, льстило его самолюбию чрезвычайно. Из всех тогдашних «Романовых» он был самым восторженным поклонником фронта и весь вылился в знаменитом афоризме, которым он одарил свет: «Война только портит солдата». Не согласиться с этим невозможно: неприятельские ядра и пули, конечно, портят правильность построения, отбивают солдатам руки, ноги и головы и вообще нарушают порядок. Другой афоризм его был: «Государь должен миловать, а я – карать». Он неуклонно проводил его в жизнь: довольно приятный человек в частной жизни, – хотя и с простинкой, – перед фронтом он был зверем.
Россия растерялась. Решить, что хуже, было трудно. Из столиц в Варшаву сломя голову летели курьеры. Но царевич принимал всех чрезвычайно сурово. Когда к нему явился задыхающийся от волнения курьер Москвы, привезший ему в конверте присягу старой столицы, он, не вскрывая пакета, на котором было написано «Его Императорскому Величеству», сердито сказал гонцу:
– Скажите князю Голицыну, что не его дело вербовать в цари!..
А когда явился из Петербурга от сената обер-секретарь Никитин, известный шулер, великий князь встретил его еще суровее:
– Что вам от меня угодно? Я уже давно не играю в крепс.
Гонца же Государственного Совета он встретил бранью, которая среди «Романовых» всегда процветала…
Заговорщики растерялись: сама судьба, казалось им, вдруг открывала пред ними возможность к решительным действиям. Тиран, для убийства которого они – на словах – готовы были даже ехать в Таганрог, ушел из жизни сам – следовательно, менялось все. В бешеном кипении идей и страстей, среди уже начавшихся взаимных подозрений среди заведомых, для пользы дела, обманов, все истощали силы. С юга летели гонцы, которые доносили, что там «все умы возбуждены», что силы южан огромны и что надо начинать немедленно. И Рылеев – теперь в Петербурге вместо умеренного Никиты Муравьева во главе дела стоял пылкий поэт – начал немедленно мобилизацию сил общества.
В скромной квартирке его целые дни стоял дым коромыслом. Заговорщики приходили с утра, кричали, спорили, пили водку и закусывали ее черным хлебом и капустой: Рылеев, как, впрочем, и все члены общества, очень любили русский стиль. Вильгельм Кюхельбекер, поэт, мечтал даже ходить у себя в деревне в русском наряде, а его лакей и в Петербурге ходил в русском кафтане. В иерархии общества были бояре, мужи, братия, верховный собор, управы, вече, палаты, посадники, старшины, головы. Даже самую столицу мечтали они перевести в Нижний и назвать ее Владимиром. Главный штаб его императорского величества у них назывался верховной военной управой, корпусный штаб – ратной управой, инженерная часть – кремельской частью, инспекторская часть – версташной частью, а комиссариатская – бронною. До такой степени надоели тогда немцы, забравшие в свои руки чуть не весь правительственный аппарат и заставившие генерала Ермолова просить произвести и его в немцы!.. Александр Бестужев, красавец и франт, уже прославившийся своими романами писатель, протестовал против засилья всей это иностранщины так: «Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь же летим в тридевятую даль по-немецки… Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем мы писать прямо по-русски? Бог весть!» В русской культуре есть все данные для создания собственной богатой литературы. Русские обладают чудным языком, «живописным, богатым, ломким». Русский народ – это «народ, у которого каждое слово завитком и последняя копейка ребром…». Только русскому языку надо учиться не у иностранных писателей, не у них брать сюжеты для поэтических произведений: для этого надо прокатиться на тройке по святой Руси. Тогда и сойдут «все заморские притирания». И поэтому он писал раздирательные романы в стиле Байрона с очаровательными Чайльд-Гарольдами в русском гвардейском мундире или, еще лучше, в черкеске и с кинжалом… А Рылеев – «совершенно одурев от либеральных мечтаний», как говорили злые языки, – писал свои «Думы» на русские темы и угощал гостей кислой капустой…
Бедная Наталья Михайловна, миловидная жена Рылеева, – у нее, по словам ее супруга, были все достоинства, кроме одного: воспитанная в глуши Воронежской губернии, она не говорила по-французски, – просто места себе от тревоги не находила. Она любила своего Кондратия Федоровича и за его обаятельные глаза, и за то, что он, вырвав ее из воронежской глуши, перевез ее в Петербург, где она могла посещать всякие театры, и за то, что к нему ходило столько блестящей гвардейской молодежи, и все они там умно, учено, непонятно и долго кричали, сверкали глазами и размахивали руками, делая какое-то, по-видимому, важное дело… И вот, вдруг, она стала все яснее и острее чувствовать, что точно какая-то черная пучина затягивает и ее, и Кондратия Федоровича, и все, что она в жизни любила. Она не раз со слезами умоляла мужа бросить все это, жить, как все, – она очень любила, как все, – но в то же время она чувствовала, что он остановиться уже не может, что уже поздно… И теперь издали она с тревогой следила за ним. Он, точно щепка в бурных волнах, метался туда и сюда в дыму трубок, убеждал, спорил, отчаивался, хватался с гримасой боли за горло – у него был жар в эти дни – и красивые глаза его сияли, как звезды…
Несмотря на то что Рылееву было только тридцать лет, он был уже поэтом с именем. Вместе с Александром Бестужевым он издавал теперь журнал «Полярная Звезда». Его поклонники считали его русским Дантоном – будущим… Он писал о России, но знал он Россию только из книжек, из рассказов своих тоже «воспламененных» приятелей и из – своих сочинений. Пушкин не любил его «Думы» и говорил, что, по его мнению, эти «думы» происходят от немецкого слова dumm. Он воспевал свободу, гражданские доблести, внушал ненависть к тиранам и мечтал о подвигах на пользу отчества. Он с горечью вспоминал о былой вольности новгородской, о печальной судьбе Пскова, где были «заглушены последние вспышки русской свободы». Русский народ представлялся ему мрачным каторжником, который только и мечтает, как бы эдак молодецки тряхонуть Россией и, по указанию его, Рылеева, навести совсем новые, неясные, а оттого еще более заманчивые порядки.
Ах, тошно мне –
пел он в упоении, –
И в своей стороне,
Все в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать…
Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ?
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?
Кто же нас закабалил,
Кто им барство присудил
И над нами,
Бедняками,
Будто с плетью посадил?
Мы посеем, они жнут,
И свобода
У народа
Силой бар задушена… –
И так шло очень долго, а кончалось все это так
Уж так худо на Руси,
Что и Боже упаси!..
До царя далеко,
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус!..
Но когда положительный Батеньков – и он был на собрании – докучал поэту назойливыми вопросами о разных сторонах нового государственного устройства, об администрации, финансах, торговой политике и пр., Рылеев не знал, что ответить, и – сердился.
– Ах, Боже мой!.. – хватаясь с гримасой за горло, говорил он. – Все это решено Великим Собором… Не можем же мы навязывать народу свою волю!..
– Навязывать зачем?.. – рассудительно говорил Батеньков. – Но нельзя же на собор ваш прийти с пустыми руками. Да и до собора-то надо ведь как-то Россией править… Я говорю, что мы вызываем только ажитацию в умах, но не приносим никакой пользы и раздражаем правительство…
– Правительство!.. – сияя своими красивыми глазами, воскликнул Рылеев. – Оно держится на одном волоске. Стоит повесить, как в старь, вечевой колокол, и народ разом сбросит все чужеземное, что навязали ему наши правители…
– Горсть солдат разгонит ваше вече, – упрямо возражал Батеньков, – и признает князем первого честолюбца…
Рылеев нетерпеливо отвернулся: его звала Наталья Михайловна.
– Не понимаю, – пожал плечами Батеньков. – Завтра поутру присяга Николаю, а у нас кто в лес, кто по дрова…
И он исчез в дымных водоворотах мундиров и возбужденных лиц…
– Я не раз спрашивал себя, – с французским акцентом говорил кому-то князь Е.П. Оболенский, поручик Финляндского полка, человек трезвый, прямой и решительный, один из первых и ревностных членов общества, – имеем ли мы право, как честные люди, составляющие едва заметное… едва заметную единицу, скажем, в огромном большинстве нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свои мысли налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуются настоящим, а если и стремятся к лучшему, то стремятся, может быть, путем исторического развития?.. Я не раз говорил об этом Рылееву, но всегда находил в нем горячего противника… Наши инстигации…
Но рядом взорвался сердитый голос какого-то гвардейского моряка с решительным лицом:
– Начинать надо с головы: сделать виселицу, первым повесить царя, а к ногам его всех великих князей… Жаль, что нет здесь нашего Завалишина: при нем так долго разговаривать разговоры было бы нельзя!..
И он бешеными глазами обвел все эти возбужденные лица, мятущиеся в дымных облаках… Он был одним из вожаков «молодых», которые с некоторым презрением говорили, что «старики выболтались», и требовали действий энергических.
– Но я же и не возражаю вам… Я сам первый предложил себя в режициды… – картавя, возразил щуплый, точно больной, Каховский, отставной кирасир. – Вы знаете, что я совсем собрался в Грецию, чтобы бороться там за свободу, но раз мои силы нужны здесь, для мести нашему тирану, я, как видите, остался.
И его глаза лани, и это детское картавленье дико не вязались со всеми этими страшными словами: режицида, месть, тиран… Но он любил сотрясать людей ужасом.
– С этими филантропами ничего не сделаешь, – с презрительным сожалением говаривал он о своих товарищах. – Тут просто надо резать, и вся недолга…
Он с малых лет был «воспламенен» героями древности, бредил Брутом и жил в подрумяненных облаках романтики. С Рылеевым теперь у него были натянутые отношения. Он подозревал поэта в честолюбии и в «нечистоте правил», а главное, в желании использовать его как средство. И, картавя, он решительно говорил:
– Я готов пожертвовать своей жизнью отечеству, но ступенькой кому бы то ни было к возвышению я не лягу!
Рылеев прозвал его «ходячей оппозицией», сожалел вслух, что он ошибся в его «чистоте», и теперь главные надежды свои возлагал на офицеров гвардейского экипажа, обработанных молодым, но чрезвычайно энергичным Завалишиным, и на Якубовича, который, скрестив руки, мрачно и даже с оттенком презрения смотрел теперь от простенка на всех и вся. Черная повязка на его голове придавала ему мрачный, заговорщический вид, и он, сурово хмуря брови, силился этот свой трагизм подчеркнуть.
Около него, у окна, тихий И.И. Пущин, И.Д. Якушкин, отставной капитан и смоленский помещик, простой и прямой, незнающий сомнений работник, с приятным лицом, приятными манерами, спорили с горячившимся князем Д.А. Щепниным-Ростовским, командиром 6-й фузилерной роты и порядочным хвастуном. Его тирады производили на них неприятное действие, и они старались немножко умерить его пыл. Князь С.П. Трубецкой, преображенский полковник, уже намеченный в диктаторы, серьезного вида, с большим бесхарактерным ртом и толстым носом, подошел к Батенькову, взял его под руку и отвел в сторонку.
– А давно видели вы Сперанского? – значительно спросил он.
– Только вчера я был у них и вышивал с его дочерью по канве… – засмеялся Батеньков. – И он выходил не надолго…
– Ну, что же он думает?
Батеньков удивленно поднял брови.
– Что думает? – повторил он. – Нет, ваше сиятельство, у нашего старика не очень выпытаешь, что он думает!.. Это травленый волк… Вы, должно быть, мало знаете его, князь…
– Немного, – подтвердил солидно князь. – Но Рылеев за положительное утверждает, что он наш…
– Не ошибиться бы!.. – с сомнением покачал своей большой головой Батеньков. – Я знаю, что наши на него наметились, но надо знать старика. А в особенности вам… – И он начал загибать на руке пальцы: – Первое: он весьма скрытен и мысли его отгадывать весьма трудно. Второе: свое неудовольствие он обыкновенно являет, удаляя от сношений с собою, и ежели они вовсе прекратятся, то почитаю невозможным возобновить их. Третье: он не корыстолюбив, но скуп на выдачу денег, и при всем том издерживает весьма много, всегда в долгах, собственно для себя доволен немногим, но имеет множество лиц на своем содержании… Четвертое…
Князь значительно слушал. Ему все более и более становилось не по себе. Участник похода на Париж, сражавшийся под Бородином, Люценом, Кульмом, раненный ядром под Лейпцигом, он не столько трусил, сколько очень сомневался. И это лишало его всякой уверенности в себе.
Основательный Батеньков считал своим долгом сделать будущему диктатору положение совершенно ясным.
– Лучше всего сравнить Сперанского с Аракчеевым, – говорил он не торопясь. – Аракчеев страшен физически, ибо в жару гнева может наделать множество бед, а Сперанский страшен морально, ибо прогневить его значит лишиться его уважения… Аракчеев зависим, ибо сам писать не умеет и не учен, Сперанский холодит тем чувством, что никто ему не кажется нужным. Аракчеев любит приписывать себе все дела и хвастается силою у государя. Сперанский любит критиковать старое, скрывает свою значимость и все дела выставляет легкими. Аракчеев в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов и иногда неприлично, Сперанский…
Но князь уже не слушал: сознание, что дела плохи, угнетало его чрезвычайно.
– Так-с, – сказал он. – Но, главное, надо выяснить, наш ли он. Завтра поутру я пошлю кого-нибудь к нему с решительным запросом…
– Боюсь, что ничего вам он не скажет, князь…
Князь угрюмо замолчал. Жестокие сомнения одолевали его. Ему все больше и больше казалось, что все идет на фу-фу. Сперанский… Он просто ловкач, а совсем не столп общества. Раньше он был англоманом и, не зная английского языка, говорил дочери: my sweat girl, my dearest child, my darling[39]39
Милая моя девочка, дражайшее дитя мое, дорогая (англ.).
[Закрыть], а потом, когда понадобилось, стал поклонником французов и Наполеона. И в то же время, сказывают, что, когда приехала повидаться с ним мать, деревенская попадья в платочке, он, весь в звездах, поклонился ей по деревенскому обычаю, в землю… My darling и в то же время часами, говорят, смотрел по правилам аскетов себе на пупок, чтобы увидать «свет Фаворский»… Ничего основательного и во всем какая-то противная путаница…
– Нет, надо и к противникам быть справедливым, – сказал с своим французским акцентом среди все нараставшего гомона голосов князь Оболенский. – Многие думали и говорили, что в Александре преобладала фронтомания. С этим мнением я совершенно не согласен. Я весьма понимаю то возвышенное чувство, которое ощущает всякий военный при виде прекрасного войска, каким всегда была и будет гвардия. Тут соединяются и стройность движения, и тишина, и та самоуверенность каждого в строю, которая являет собою невидимую, несокрушимую силу душевную и составляет украшение человека. На ежедневных разводах он искал не отличного фронтового образования, но тот дух, коим одушевляется войско…
– Может быть… – тихонько вздохнул чистенький и аккуратный барон Штейнгель и строго блеснул своими очками. – Может быть… Да и вообще он был одушевляем самыми добрыми намерениями, но… но все же царствование его было тягостно даже до последнего изнеможения…
Горячий крик заспоривших гвардейских моряков покрыл его слова. Гомон голосов все нарастал. Полицейские не раз и не два останавливались под ярко освещенными окнами, но скоро исчезли в холодной тьме: графу Милорадовичу не раз докладывали об этих собраниях у Рылеева, но он нисколько не беспокоился. Он знал, что Рылеев издатель «Полярной Звезды», и полагал, что все это шумят сочинители, которых он слишком презирал, чтобы снизойти до них своим вниманием…
XXV. «Для отечественной пользы»
И среди всего этого смятения душ и шума бродил, прислушиваясь к спорщикам, А.М. Булатов, бывший лейб-гренадер, а теперь молодой командир 12-го Егерского полка, стоявшего в глуши Пензенской губернии. Во время войн с Наполеоном Булатов не раз отличался сумасшедшей храбростью, увлекал своих лейб-гренадер куда и как хотел и в буре картечи и ядер с каким-то восторгом бросался на штурм неприятельских батарей. В политике он решительно ничего не понимал и не интересовался ею. Он приехал в Петербург по наследственному делу и был уже доведен до белого каления как волокитой, так и взятками, без которых нельзя было среди чиновников ступить и шагу. Как-то вечером он встретился в театре с Рылеевым и со злости на измучившее и разорявшее его крапивное семя, сам хорошо не зная, как, оказался вдруг членом Северного Общества. Он был там весьма желателен: лейб-гренадеры помнили и любили его. Ему чрезвычайно нравилось, что все эти блестящие гвардейцы и аристократы «стремятся для пользы отечества». И вот, простодушный и наивный, он ходил теперь по дымным комнатам, слушал и никак не мог понять, в чем именно заключается тут «польза отечества».
– Я придерживаюсь правила Бентама: самое большее благо самого большого числа людей… – говорил Оболенский. – Что же можно возразить против этого? Весь вопрос только в том, как именно достичь этого на практике…
– Да, да… – рассеянно отвечал ему долговязый, искривленный, с выпученными отсутствующими глазами и унылым лицом штатский. – Хотя я Бентама не читал…
Это был поэт Кюхельбекер, задушевный приятель Пушкина, который звал его просто Кюхлей, стихи его считал «усыпительными», а его развинченность и унылость метко воплотил в новом словечке «кюхельбекерно». Услыхав это словечко впервые, Кюхля пришел в неописуемое бешенство – как это часто бывает с невозмутимыми немцами – и сейчас же вызвал Пушкина на дуэль. Поехали стреляться. Озорник Пушкин, не имевший никакого желания серьезно драться с чудаком, упросил секундантов зарядить пистолеты клюквой. Кюхле пришлось стрелять первому. Разумеется, ничего из его выстрела не получилось. Пушкин с хохотом бросил свой пистолет в снег и кинулся обнимать приятеля.
– Стреляй, черт! – с своим немецким акцентом кричал в бешенстве Кюхля. – Я требую, чтобы ты стрелял!..
– Да ну, будет тебе, дурак! – нетерпеливо отбивался Пушкин. – Едем скорее пить чай: я озяб…
Вся жизнь брата Кюхли была вообще одним сплошным анекдотом. Едва ли не лучше всего отличился он в Париже, куда он попал в качестве секретаря Нарышкина. Там он надумал прочесть в Атенее лекцию о русской литературе и политическом состоянии России. В конце речи, которая вызвала у парижан не мало улыбок, Кюхля вдохновенно взмахнул рукой и сшиб с кафедры подсвечник и стакан с водой. Он попытался удержать их и – сам полетел за ними.
– Ménagez-vous, jeune homme! – сказал ему какой-то старый якобинец, внимательно слушавший его. – Votre patrie a besoins de vous…[40]40
Берегите себя, молодой человек: ваше отечество нуждается в вас… (фр.).
[Закрыть]
Нарышкину выступление это не понравилось, и он уехал, бросив Кюхлю в Париже без всяких средств. Но это не только не помешало Кюхле возвратиться на родину, но даже побывать по пути у Гетэ, который с удивлением и чувством оскорбленного достоинства долго вспоминал потом эту нелепую разновидность человека…
В тайное общество Кюхля был принят совсем недавно, но о целях общества он имел самое смутное представление: ему говорили что-то такое, но он одно позабыл, другое перепутал, и вообще черт их разберет, что они там нагородили…
– Позвольте! – сверкая глазами, кричал около них молоденький семеновец. – Пестель!.. В старом Семеновском полку ни один офицер не унижался уже до наказания солдат палками, а Пестель до сих пор их у себя не вывел… Он держит у себя в полку такую муштру, что государь за выправку солдат даже награду ему дал… Мой брат только что прибыл с юга и рассказывает вообще мало утешительного о положении дел там. Он говорит, что Южное Общество погибает в разладии, что Сергей Муравьев нимало не вдался Пестелю… Да и вообще все наши Васильковского округа Пестеля ненавидят, ему не доверяют, и Муравьев открыто заявил, что если Пестель затеет что-нибудь для себя, – он, видимо, метит высоко, – то Муравьев будет противиться…
Широкоплечий, с красным лицом, полковник, молодецки хлопнув рюмку водки и хрустя капустой, басисто захохотал и с заметным малороссийским акцентом проговорил:
– В Пэстэле я люблю то, что от нэго жидам и потачки ужэ нэ будэт… Он говорит, что как только возьмем мы власть, так он всех жидов из России высэлит… И наш Кондратий Федорыч правильно в «Исповеди Наливайки» пишэт:
Уже давно узнал казак
В своих союзниках тиранов:
Жид, униат, литвин, поляк,
Как стаи кровожадных вранов,
Тэрзают бэспощадно нас…
Нэхай основывают себе свое государство, а здесь нэхай не отсвечивают. Годи!..
– Наполеон, заманивая африканских и азиатских жидов под свои знамена, обещал им Палестину и даже восстановление иерусалимского храма во всем его блеске, однако они предпочли остаться от дела в стороне…
– До Наполеона с этим проектом носился Фихте: отвоевать для них Палестину и отправить их всех туда…
– Нэхай сами соби отвоюють!..
– В масонском словаре так и заявлено: «Истинные и настоящие масонские ложи не терпят евреев в своей среде»…
– Пушкин ненавидит их, как паршивых собак…
– Что ни говорите, господа, а зря не привлекли мы Пушкина в нашу среду: с его именем можно было бы сделать чудеса…
– Нет, нет, это человек ненадежный!.. – раздалось сразу несколько голосов. – Он за первую юбку отдаст все… Да и стишки писать одно, а действовать другое: когда он жил еще на юге и майор Раевский, уже в крепости, пожелал увидаться с ним, он увильнул… Нет, в серьезном деле ему места нет…
Стемнело. Зажглись лампы. Изнемогая душой, Наталья Михайловна пригласила всех к чаю. Но многие по-прежнему остались в близости закусочного стола, другие дымили длинными трубками, и гомон стал еще горячее и бестолковее. Полковник Булатов все ходил от одной группы к другой и все никак не мог понять, в чем же именно скрыта тут отечественная польза. Многое тут прямо пугало его…
– Нет, дворец, господа, это святое место… – громко сказал обстоятельный Батеньков. – Стоит только солдатам до него прикоснуться, как их уж ни от чего не удержишь…
– Вот это верно!.. – тряхнул головой Булатов.
– Нисколько!.. – горячо набросился на него молоденький моряк с сердитыми глазами. – Ежели взять большую книгу с золотой печатью и написать на ней крупными буквами «Закон» да пронести ее по полкам, они пойдут, куда угодно… Посмотрите на Гишпанию: начали с горстью войска, а каких делов натворили!..
– Правильно! – крикнул Николай Бестужев. – И ваш Кронштадт пусть будет нашим островом Леоном…[41]41
Испанская революция началась на о. Леоне.
[Закрыть]
– Напротив того: наш остров Леон должен быть на Волхове или на Ильмени, в военных поселениях… – возразил Батеньков. – Недовольство там такое, что от одной искры все запылает, и на Петербург можно будет двинуть до сорока тысяч…
– Да и здесь в полках кипит!.. – кричали со всех сторон. – Но мы мало считаемся с командным составом, господа. У великих князей в руках дивизии, и они имели достаточно осторожности насовать своих креатур везде. Они с царем раздают земли, деньги, чины, а мы что? Синица в руках лучше журавля в небе. Мы сулим пока отвлеченности и надеемся наделать государственных деятелей из прапорщиков, которые и вести себя как следует не умеют… Утопия все это…
– Господа… – чувствуя в горле острую боль, громко проговорил Рылеев. – В настоящий момент поздно разводить критику. Нам выхода нет: конечно, все мы у них уже на мушке… Лучше быть взятым на площади, чем в постели. Пусть лучше все видят, как мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества и никто даже и знать не будет, где мы и за что мы пропали…
Трубецкого пошатнуло. Он проклинал свое легкомыслие, но старался сохранить свой значительный вид.
– Ну, что же, и умрем… – мечтательно улыбнулся молодой князь А.И. Одоевский, конногвардеец и поэт. – Ах, как славно мы умрем!..
Между тем подходили все новые и новые заговорщики, офицеры-гвардейцы. Вести были мало утешительны: твердой уверенности, что их части пойдут за ними, не было почти ни у кого. У многих на душе посветлело: авось ничего не будет. Но все поддерживали один в другом веру в успех: лиха беда начало…
Молоденький моряк с сердитыми глазами изливал в уголке кому-то свое негодование:
– Они мечтают перенести столицу в Нижний и переименовать Нижний во Владимир, а в делах под носом сам черт ногу сломит… Сколько раз восставал Завалишин против всех этих беспорядков и – нич-чего!.. Рылеев нарочно окружает себя бездарностями, – понизил он голос, – чтобы ему одному над всеми господствовать. Он гордится, что в наших рядах столько представителей аристократии, но я совсем не уверен, что это так уж нравится народу…
– Может быть, наши южане более правы, поднимая знамя республики, – поддержал его Дивов, моряк с безусым розовым личиком. – Вечевой колокол в Пскове умолк ведь только в 1570 году. Республики новгородская и псковская существовали семьсот лет, а хлыновская, вятская – триста лет. И вообще это наше ребячье цеплянье за Романовых противно: их предок Кобыла – не угодно ли: Кобыла!.. – приехал на Русь из Пруссии только в XIV веке, и в 1613 году избранными они оказались только благодаря взаимной зависти старых княжьих родов…
– Да и какие они Романовы?! – проговорил моряк с сердитыми глазами. – Так, немецкие ублюдки какие-то… Голштинцы…
– Нет, господа, эти постоянные выпады против немцев мне решительно не по душе… – сказал князь Оболенский. – Мы можем и должны быть русскими, но к чему же постоянно… амбетировать наших немцев? Если Клейнмихель, бывший у генерал-аншефа Апраксина в услуге, лакеем, прохвост, то нисколько не лучше Аракчеев. И среди нас есть такие чудесные люди, как барон Розен, барон Штейнгель, Сутгоф. Они очень преданы России… Дело не в том, что Романовы голштинцы, а в том, что они никуда не годятся…
– Но, в конце концов, мы все от Адама, а он, по Библии, был как будто «из насих»…
Засмеялись…
Рылеев нервно постучал ножом о край стакана.
– Минуту внимания, господа!.. – с гримасой от боли в горле сказал он с усилием. – Сроки близятся, и мы должны остановиться на чем-нибудь определенном. Завтра будет уже поздно… Итак: диктатором мы уже наметили князя С.П. Трубецкого… Все согласны, господа?..
– Просим, просим!..
Князь с достоинством раскланялся.









































