Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
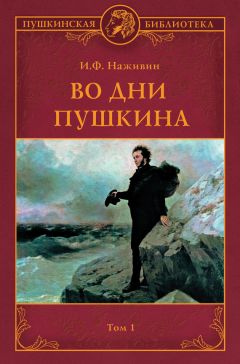
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
LII. В Приютине
Огромная, красивая, известная всему Петербургу дача Олениных, Приютино, за Охтой, как всегда, кипела весельем. Прислуга с утра до глубокой ночи, высунув языки, металась по огромному дому, бесчисленные гувернеры и гувернантки едва справлялись с детворой, своей и приезжей. На зеленой лужайке раздался вдруг восторженный вопль молодых голосов – там шла веселая лапта. В зале рокотал дорогой рояль. На широкой, затененной полосатым навесом террасе одни спорили о литературе, другие хохотали над каламбурами Пушкина, который не отходил от хорошенькой Анеты Олениной, фрейлины Марии Федоровны. На пруду звенели голоса молодежи, катавшейся на лодках… И так шло каждый день. Достаточно сказать, что на скотном дворе стояло семнадцать коров, а сливок гостям не хватало никогда.
В доме в приятном смешении царствовала русская патриархальность и удобный европеизм. Порядок для гостей был установлен идеальный: каждый гость получал отдельную комнату, а затем ему объявлялось, что в девять утра в доме бывает чай, в полдень – завтрак, в четыре – обед, в шесть – полдник и в девять – вечерний чай. Остальное время он мог заниматься чем ему заблагорассудится: гулять, кататься верхом, стрелять в цель из пистолета или из лука, читать, ловить в пруду рыбу и т. д. Только на карты хозяева смотрели косо…
Алексей Николаевич Оленин после смерти графа Строганова наследовал важный пост председателя академии художеств. Маленький, чистенький, живой, веселый, он был похож на весеннего воробья. Он любил, чтобы его считали литератором, художником и даже археологом. Александр I звал его TausendkЉnstler[95]95
Волшебник (нем.).
[Закрыть]. Но все это не мешало ему держать нос по ветру, гнать по всем зайцам сразу и, вопреки пословице, если не всех, то большинство их ловить… Его супруга, Елизавета Марковна, всем, кроме роста, была похожа на него. Она частенько прихварывала, но в интересах общества старалась превозмочь себя и поддерживать в своем доме постоянную и приличную веселость…
На террасе затрещали восторженные рукоплескания: то недавно переехавший в Петербург Мицкевич только что закончил одну из своих блестящих импровизаций.
– Какой талант! Какой огонь! – восклицал Пушкин, сидя в саду под террасой. – Что я пред ним?
Анна Петровна весело расхохоталась.
– Вы лучше посмотрите, что вы на песке-то написали!
На песке стояло: Анна, Annielo, Annette Pouchkine… Он смутился и быстро стер все тростью.
– Значит, новый предмет?! – уязвила она. – Правда, она очень мила… И вы обратили внимание, какие у нее маленькие ножки?
– Маленькие-то они маленькие да черта ли в них! – вздохнул он и вдруг опалил ее: – Скажите: долго вы еще меня мучить будете?
– Перестаньте! – с притворной строгостью шепнула она. – Вы хотите меня совсем уже скомпрометировать?
– Ну, не буду, не буду… – сказал он. – Но вы злая, злая, злая… А сейчас Крылов просил меня, – вдруг засмеялся он, – написать ей что-нибудь в альбом…
– А вы что сказали?
– А я сказал: ого!
Она расхохоталась…
А на широкой террасе кипело:
– Нет, но какая смелость в отдельных выражениях!
– О да!.. – воскликнул Оленин с оживлением, которое было очень похоже на настоящее. – Я помню, когда лет десять тому назад Пушкин тарарахнул своим «дымом столетий», – помните, как эта дерзость взволновала всех? Дым столетий! Князь Вяземский говаривал, что за такое выражение он отдал бы все движимое и недвижимое, и предлагал засадить Пушкина в желтый дом, чтобы он не заел всю литературную братию… Дым столетий!.. Державин никогда не решился бы на это…
– Я недавно перечитывал от нечего делать «Почту духов»… – поднимая свою белую, тяжелую голову, сказал И.А. Крылов. – Словно и недавно все это было, а языка не узнаешь… И кто решился бы теперь назвать журнал: «Почта духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с воздушными и подземными духами»?.. Я помню особливо Рахманинова, который усердно работал в нем и у которого глаза кровью наливались, если кто-нибудь осмеливался не соглашаться хоть в чем-нибудь с Вольтером…
– Литература наша за последние годы вообще шагнула вперед невероятно, – томно, по случаю болезни, сказала Елизавета Марковна. – Давно ли наш Карамзин писал о сельской жизни в таких выражениях: «Уже стада рассыпались вокруг холмов, уже блистают косы на лугах зеленых, поющий жаворонок вьется над трудящимися поселянами и нежная Лавиния приготовляет завтрак своему Палемону…»
Взорвался веселый хохот:
– Действительно!..
– Но вы напрасно думаете, Елизавета Марковна, что Карамзин уже окончательно умер, – с улыбкой заметил Александр Иванович Тургенев, жирненький бонвиван, который с либералистами был либералист, а с лицами власть имеющими вполне основательный мужчина. – Недавно был я в Киеве и заглянул к своей тетушке, которая играет там не последнюю скрипку… И она, читая мне одно письмо свое, пустила фразу о четырнадцатом декабря: «Лишь только разъяренная Фортуна обратит на человека свой суровый взгляд…» – что-то такое в этом роде. Я засмеялся: «Тетушка, кто же пишет теперь так?! Почитайте хоть «Онегина»… Она смерила меня взглядом с головы до ног: «А как же ты мне прикажешь писать, племянничек? Никаких твоих Онегиных я не знаю и знать не желаю, но твердо знаю, что в моем положении подлым штилем мне выражаться не пристало: чем-нибудь от моей Палашки должна же я отличаться…»
Опять взорвался хохот…
Пушкин с Анной Петровной поднялись на террасу. Крылов, тяжелый, как всегда, малоопрятный, поднял к ним навстречу свое умное, обрюзгшее лицо.
– Ну что, дедушка? Каков наш Мицкевич-то? А? – спросил Пушкин.
– Да что уж и говорить… – невозмутимо отвечал старик. – Одно слово: хват!
За Крыловым стояло уже сорок лет литературной работы. Слава его покоилась уже на граните. И умный и хитрый старик, выбившийся наверх из самой черной нищеты, цену знал и себе, и людям, умел сходить с козыря и не смущался ни перед кем. Раз на Невском он встретился с Николаем.
– А давно не видал я тебя… – сказал царь.
– Да, – спокойно отвечал Крылов, живший в императорской публичной библиотеке. – А, кажись, соседи, ваше величество…
Его лень, обжорство и неопрятность вошли в пословицу. Раз у Олениных заметили, что Крылов что-то насупился.
– Что с вами, дедушка? – спросила его Варя, его любимица.
– Беда! – махнул тот рукой. – Надо ехать в Зимний на маскарад, а я не знаю, как одеться…
– А вы бы, дедушка, помылись, побрились, оделись бы чистенько, вот вас никто и не узнал бы… – посоветовала бойкая девочка.
Это было не в бровь, а в глаз, и грузный старик развеселился.
– А я после чтения моего «Бориса Годунова» у Перовских заметил, что вам моя трагедия не понравилась, – сказал Пушкин. – Признайтесь, что пьеса нехороша…
– Почему же нехороша? – спокойно пыхнул старик своей вечной сигарой. – Я лучше вам поучение одно по этому поводу расскажу. Один проповедник восхвалял Божий мир и утверждал, что все так создано, что лучше и не надо. И вдруг подходит к нему горбатый: не грешно ли, говорит, тебе в моем присутствии утверждать, что все в мире прекрасно? Посмотри на меня…
– Так что же? – возразил ему проповедник. – Для горбатого и ты очень хорош…
– О!.. О!.. О!.. – раздалось вокруг укоризненно.
– Оч-чень хорошо! – весело воскликнул Пушкин и бросился обнимать старика.
– Нет, нет, нет, и на солнце есть пятна! – наседали на улыбавшегося Жуковского две дамы. – Нет, и ваш Пушкин грешит иногда… Почитайте, как в четвертой главе описывает он волнения Татьяны. «Пышет бурно… В ней тайный жар, ей душно, дурно…» Пышет бурно – фи!..
Красавица А.О. Россетт одобрительно захлопала своими маленькими ручками и стрельнула черными, огневыми глазами по смеющемуся Пушкину.
Тот в притворном отчаянии схватился за голову.
– De grâce, mesdames, de grâce![96]96
Пощадите, дамы, пощадите! (фр.).
[Закрыть] Довольно литературы, к черту литературу!.. Михайла Иванович, спасите меня! – крикнул он Глинке, молодому, но уже прославившемуся композитору. – Вы наш Орфей, зачаруйте вашей музыкой эту ярость…
– Всячески рад служить великому поэту…
Маленький, коренастый, широкоплечий, с каким-то дерзким хохлом на лбу, Глинка, несмотря на свои двадцать три года, держался уже с полной уверенностью. Два года тому назад он выпустил свой романс на слова Баратынского «Не искушай меня без нужды…» И сразу завоевал себе прочную популярность в гостиных. Он и сам считал этот романс своим первым удачным произведением.
– Музыки, музыки!.. Михайла Иванович!..
В звонком белом зале зарокотал рояль и поднялись два прелестных женских голоса:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей…
Рябой, с вытекшим от оспы глазом, Гнедич, полтавец, тоже с великим трудом пробившийся на видное место в литературе и теперь заканчивавший перевод «Илиады», вышел с Крыловым в сад отдохнуть от всего этого шума.
– Все, что я от отца получил, государь мой, это был сундук с книгами… – своим спокойным баском, дымя сигарой, рассказывал Крылов. – Тут были и «Свет, зримый в лицах», и «Древняя Вивлиофика» Новикова, и его же «Деяния Петра Великого» с дополнениями, и Жиль Блаз, и Телемак, и Шехерезада… Тогда в воспитании всех этих разносолов не знали. Помню, была тогда у меня приятельница одна, барынька, которая хвалилась: «Мы у нашего батюшки хорошо воспитаны были: одного меду невпроед было…» Да что барынька? Наш И.И. Дмитриев сержантом был обучаем, от которого он слышал одни только непонятные слова: делимое, искомое…
Гнедич рассмеялся…
Я сплю: мне сладко усыпленье… –
волшебно лилось из огромных окон в розовый сад, над которым носились ласточки, –
Забудь бывалые мечты!
В душе моей одно волненье,
А не любовь, а не любовь пробудишь ты…
И после того, как учтивый шум похвал замер, – певицы уверяли, что они сегодня не в голосе, а слушатели клялись им, что совсем наоборот, – Крылов своим жирным баском крикнул в окно:
– Спасибо!.. Отлично, хорошо!.. Ну, а теперь мою любимую… Саша, Оля, постарайтесь для старика!..
И опять зарокотал рояль и полился старинный романс:
Ручей два древа разделяет,
Но ветви их сплетясь растут,
Судьба два сердца разлучает,
Но мысли их вдвоем живут…
Пушкин тихонько шепнул Жуковскому:
– А о полковнике Брянцеве ты царю говорил?
– Лично нет… – шепотом отвечал Жуковский. – Но я настроил Александру Осиповну действовать чрез императрицу. Она чрезвычайно горячо взялась за дело… А она, ты знаешь, любимая фрейлина императрицы…
– Говорят, и императора тоже? – весело оскалился Пушкин.
– А! – нетерпеливо дернул головой Жуковский. – Не советую тебе слушать все эти сплетни. Она прекрасная девушка… И большая твоя поклонница вдобавок… Кажется, императрица уже говорила его величеству… Ты спроси у Александры Осиповны…
– Ал ригт… – дурачась, сказал Пушкин будто бы по-английски. – Сейчас атакуем…
Он осторожно пробрался цветником дам и, подсев сзади к Александре Осиповне, что-то шепнул ей. Та утвердительно кивнула своей хорошенькой черной головкой. И сразу между ними началась игра: Пушкин что-то, по тогдашнему выражению, врал ей, а красавица, закрываясь кружевным платочком, давилась от смеха.
Крылов, любитель старинной музыки, в удобных креслах подремывал. Молодежь, глядя на него, тихонько пересмеивалась: вот бы в нос старику гусара приладить! Хозяйка – она полулежала на канапе – с притворной строгостью грозила шалунам точеным пальчиком…
– В горелки, в горелки, господа! – крикнул где-то за окнами веселый девичий голос. – Ну, что же мы все будем сидеть так зря?!
– В горелки, в горелки!..
И чрез несколько минут на зеленой луговине, над дремлющим прудом, среди восторженного визга и криков, закипели уже горелки…
LIII. Исторические документы
Урок с наследником цесаревичем кончился, и Жуковский прошел в уютный голубой будуар императрицы. Он давал и ей изредка уроки русского языка: несмотря на свое уже долголетнее пребывание в России, «картофельница» говорила по-русски невыносимо. Василий Андреевич, выбритый, чистенький, мякенький, ласково вел урок к концу. Императрица, красивая, но сухощавая немка с незначительным лицом, слушая его, вязала какую-то беленькую в дырочках штучку: она говорила, что только русские лентяи не могут делать двух дел сразу и что вот она должна показать им пример немецкого прилежания. Николай, огромный, белый, с красивыми, густыми усами, фертом стоял над супругой, слушал, и глаза его смеялись: забавна бывала иногда его мамахен на уроках! Она и сама сознавала это немножко и потому не любила присутствия его величества в это время. Смешливый Жуковский часто потел от усилий сдержать смех: ее ошибки были тем курьезнее, что немецкий апломб подчеркивал их. И была масса смешных неожиданностей: то вздумается ей, например, что глазное яблоко по-русски называется «tchibulka», то 1/2 она читает, как «атин ферхом на тва», то все путается она в русских именах собственных и уверенно сыплет: Петрушка Ивановна, Соня Петровна, Катя Вассилич. А пословицы русские, которые она очень любила, превращались у нее совсем уж во что-то невероятное: «не красна изба углами» у нее делалось «не красится избушка углем», «брань на вороту не виснет» превращалось в «нельзя барона на ворота повешивать» и т. д.
– Итак, ваше величество? – подбодрил ее Жуковский.
– Sofort!..[97]97
Сейчас… (нем.).
[Закрыть] – думая, отвечала она и сказала: – У казей ниет рагей… Nein, nein! – спохватилась она. – У казоф ниет рагоф! Wieder nein! Warten Sie…[98]98
Опять нет! Подождите (нем.).
[Закрыть] – и после короткого колебания решительно: – У казофф нет рагей!..
Откинувшись назад, Николай захохотал.
– Mais tu es impayable, Mamachen, sait-tu!..[99]99
Но ты неподражаема, мать! (фр.).
[Закрыть]
– Ach, lassen Sie doch![100]100
Ах, оставьте! (нем.).
[Закрыть] – сердито покраснела она. – Я ше ние смеялса кахта втшира фаш… этот… как иево?.. гаварил, што он с ниеба auf der Sonne прагуливаль!..
– Но… но… не сердись, мамахен, – успокоил ее Николай покровительственно. – Да, кстати… – обратился он к Жуковскому. – Мне mademoiselle Россетт говорила об этом твоем протеже, Василий Андреевич, но скажу тебе откровенно: не нравится что-то мне все это дело… Ты давно знаешь этого полковника?
– Нет, ваше величество… Меня недавно познакомил с ним Пушкин…
– Ну, вот!.. Пушкин… Хороша аттестация, нечего сказать!.. Нет, нет, Василий Андреевич, ты должен быть поаккуратнее: твое доброе сердце, которое знают все, часто увлекает тебя в разные сомнительные ходатайства… Ну, я рассмотрю сам все еще раз…
И, грудь колесом, железным шагом своим Николай оставил будуар… Жуковский собрал свои книги и тетрадки и склонился перед царицей.
– Warten Sie mal, Wassil Andreitch!..[101]101
Подождите немного, Василий Андреевич (нем.).
[Закрыть] – остановила она его. – Как иета путить па-русски: die Kleinrussin?[102]102
Малоросска (нем.).
[Закрыть] Хахлатка? Хахалютка?..
Жуковский вспотел, поперхнулся и поправил:
– Хохлушка, ваше величество…
– Ja so!.. Dankeschön…[103]103
Так, так, спасибо… (нем.).
[Закрыть] Мне mademoiselle Россетт ниескалька расс пафтаряль, а я фсе сапивай…
За дверью Жуковский вытер свежим, душистым платком вспотевший лоб и мягко покатился к себе…
Он вошел в свою уютную, обжитую квартирку, переоделся в халат, закурил длинную – как на немецких картинках – трубку и сел к своему рабочему столу. И сидел, и курил, и раскидывал умом, что бы ему поделать: в последнее время источник его вдохновения иссяк и он работал очень мало. Злодей Пушкин уже прозвал его «в Бозе почивающий». «Хоть бумаги, что ли, в порядок привести… – подумал он. В самом деле, мысль, что его бумаги находятся в беспорядке, с давних пор грызла его: – Ведь все это исторические документы, необходимые для потомства…» О потомстве все тогда беспокоились чрезвычайно, и никто не хотел причинить ему неприятностей или даже просто лишних хлопот. Аракчеев в этих целях строил, – «чтобы потом хоть помнили люди», говорил он – а Жуковский собирал всякие бумаги…
Он открыл левый ящик стола и взялся за разборку исторических документов. Классификация их в голове у него была давно установлена: во-первых, это черновики всех его произведений, неоконченные вещи и всякие варианты, во-вторых, письма к нему приятелей и черновики его ответов им и, наконец, в-третьих, всякие документы, которые могут способствовать освещению как его личной биографии, так и этой эпохи вообще… И он начал внимательную разборку бумаг…
Вот знакомый, милый почерк Анны Петровны Юшковой, его племянницы. Он взглянул на дату пожелтевшего листка: ага, 1812! Ну-ка, что она там пишет? «У нас шум страшный в горнице; все толкуют о политике, кричат из всей силы, а мужчины так врут, что слушать невозможно…» Тихонько улыбнувшись, он отложил письмо во II отдел и взялся за синюю папку, аккуратно перевязанную бечевкой. Это черновики его молодых произведений… Вот его неоконченный «Вадим Новгородский». А ну, как оно там было?.. «Безмолвные дубравы, тихие долины, обители меланхолии, к вам стремлюсь душой, певец природы, незнаемой славою! Сокройте меня, сокройте. Радости мира не прельщают моего сердца; радости мира тленны, как тень облака, носимого вихрем. Под кровом неизвестным, на лон природы, пускай расцветет и увянет жизнь моя! Гордый и славный не посетят моей хижины; взор их отвратится с презрением от скромной обители пустынника; но бедный и гонимый роком приближается к ней с тихим восторгом благодарности; но сирота забвенный благословит ее; но добрый, чувствительный мечтатель, друг мира и добродетели, найдет в ней спасение, неизвестное гордым и славным… Благословляю тебя, жилище спокойствия и свободы! – читал Василий Андреевич, стараясь испытывать умиление и из всех сил сдерживая зевоту. – Теките мирно, дни моей жизни…»
Он торопливо перекинул несколько черновиков и набросков и поскорее взялся за другую папку. Это были исторические материалы по «Арзамасу». На добром лице Василия Андреевича проступила ласковая улыбка. Да, здорово насолили они тогда Шишкову и его шишковистам! До чего договорились те ослы, уму непостижимо!.. В своей борьбе с засильем иностранных слов они дошли до того, что прозу называли говором, билет – значком, номер – числом, швейцара – вестником, и в уставе своем они написали, что у них будут публичные чтения, на которых будут совокупляться знатные особы обоего пола!.. Ну, и прописали им тогда арзамасцы ижицу! Вот как раз его послание к Воейкову по этому поводу. И, покуривая, Жуковский с добродушной улыбкой начал читать:
…Зрел в ночи, как в высоте,
Кто-то грозный и унылый,
Избоченясь на коте,
Ехал рысью – в руке вилы,
А в деснице грозный Ик.
По-славянски кот мурлыкал,
А внимающий старик
В такт с усмешкой Иком стукал…
Он скользнул глазами вниз.
Те подмышками несли
Расписные с квасом фляги;
Тот тащил кису морщин,
Тот прабабушкину мушку,
Тот старинных слов кувшин,
Тот кавык и юсов кружку,
Тот перину из бород,
Древле бритых в Петрограде,
Тот славянский перевод
Басен Дмитрева в окладе.
Все, воззрев на старину,
Персты вверх и ставши рядом,
«Брань и смерть Карамзину!»
Грянули, сверкая взглядом…
«Зубы грешнику порвем,
Осрамим хребет строптивый,
Зад во утро избием,
Нам обиды сотворивый!..»
Покуривая добродушно, он откинулся в кресло. И ряд лиц из прошлого встали пред ним – арзамасцы тогда, великие и полувеликие мира сего теперь. Вот Уваров по прозвищу Старушка, вот Блудов – Кассандра, вот Тургенев – Эолова арфа, вот Вяземский – Асмодей, вот Северин – Резвый Кот, вот Пушкин – Сверчок или Сверч, как называл он себя сам, вот Воейков – Дымный Печурка… А вот и Василий Львович Пушкин, которого они тогда на смех выбрали старостой Арзамаса и дали ему всякие привилегии: когда он присутствует в собрании, его место рядом с председателем, а когда отсутствует – в сердцах друзей его, он подписывает протоколы с приличной размашкой, голос его в собрании может иметь силу трубы и приятность флейты… Да, подурили-таки!.. Вот протокол, составленный им самим об одном из заседаний «их превосходительств гениев Арзамаса»:
«…Совещанье начали члены.
Приятно было послушать, как вместе
Все голоса слилися в одну бестолковщину…»
Он наскоро пробежал смешную пародию Батюшкова на его «Певца во стане русских воинов» и – нахмурился: среди материалов по Арзамасу вдруг затесались – вот беспорядок! – его черновики! Он начал заботливо отбирать их в сторону, прочитывая то там, то здесь по несколько строк.
Вот его «Письмо из уезда», писанное почти двадцать лет назад: «…Каждый день посвяти несколько часов уединенной беседе с книгою и самим собою; читать не есть забываться, не есть избавлять себя от тяжкого времени, но в тишине и на свободе пользоваться благороднейшею частью существа своего – мыслию; в сии торжественные минуты уединения и умственной деятельности ты возвышаешься духом, рассудок твой озаряется, сердце приобретает свободу, благородство и смелость; самые горести в нем утихают…» Чувствуя, как скулы его сводит зевота и на глазах выступают слезы, он перебросил две страницы и прочел: «Писатель в обществе»: «…уединение делает писателя глубокомысленным, в обществе приучается он размышлять быстро и, наконец, заимствует в нем искусство украшать легкими и приятными выражение и глубокие свои мысли… Отчего же, спросите вы, большая часть писателей не имеет никакого успеха в свете, неловки в обращении и вообще мене уважаемы, нежели их книги?» Жуковский сочно зевнул и слипающимися глазами переполз на следующую страницу: «…он неспособен применяться к другим и часто оскорбляет их грубым пренебрежением обыкновенных, ему одному неизвестных приличий… В то время, когда вы с ним говорите, он, может быть, занят разрешением философического вопроса или описывает в воображении спокойный вечер, тоску осиротевшей любви, очарованный замок Альцины…» Ф-фу! А это – размышления на тему, кто истинно добрый и счастливый человек… Да, он помнит: семьянин!.. «Здесь он снимает с себя заимственные покровы, свободно предается естественным своим склонностям, никому, кроме себя, не отдает отчета. И, если я увижу его спокойным, веселым, неизменяемым в тесном кругу любезных; когда приход его к супруге и детям есть сладостная минута общего торжества; когда от взора его развеселятся лица домашних; когда, возвращаясь из путешествия, приносит он в дом свой новую жизнь, новую деятельность, новое щастие; когда замечаю окрест его порядок, спокойствие, доверенность, любовь – тогда решительно говорю…»
Голова Василия Андреевича вдруг качнулась вниз, отягченная сладостной дремотой, но он справился с собой. Разборка исторических материалов всегда кончалась этим. Но надо же когда-нибудь исполнить, наконец, свой долг перед потомством!.. И он, усиленно раздирая глаза, стал просматривать «Марьину Рощу»:
«Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда Услад, молодой певец, приближался к берегам Москвы-реки, на которых провел он дни своей цветущей юности. Гладкая поверхность вод, тихо лобзаемая легким ветром, покрыта была розовым сиянием запада. В зеркале их с одной стороны отражались дремучий лес и терем грозного Рогдая, окруженный… высо… ким… Но, мамахен, хахалютка!..» Он уронил голову на грудь, испугался и, из последних сил тараща глаза, читал: «Ах, не узнаете меня вы, места прелестные; очи мои потухли от скорби, ланиты мои побледнели, лицо мое омрачилось унынием… Шесть раз полная луна должна осветить вершины деревьев прежде, нежели ты будешь моею… Тогда нежная мать твоя переселится в нашу хижину… К… ногам свя… щен… ного… стар… ца…»
И все потонуло в сладкой истоме… Только несколько козей, у которых нет рогей, вешали борону на ворота… Арзамаса… с Василием Львовичем… Ну… и хорошо!..
В дверь раздался осторожный стук. Жуковский вздрогнул, поймал на лету скользнувшую было на ковер длинную трубку и хриплым голосом отозвался:
– Ты что, Семен Иваныч? Войди…
Старый лакей бесшумно вырос на пороге.
– Полковник Брянцев изволят спрашивать вас, Василий Андреевич…
– А-а!.. Проси, проси…
Он протер глаза, решительным жестом отодвинул свои бумаги и поднялся навстречу полковнику.
– Но, ради Бога, простите, полковник, мой халат… Занимался…
Полковник любезной протестацией остановил доброго хозяина. Жуковский усадил его в кресло, предложил курить, чаю…
– Ну что, как же наш фирмамент? – с добродушной улыбкой спросил он, стараясь удержать зевоту. – Мне Пушкин сказывал про вашу выдумку насчет фирмамента…
– Везде просят денег… – потупился полковник. – Но сегодня у меня аудиенция у государя императора… Вот я и решил сперва зайти к вам, добрейший Василий Андреевич, чтобы поблагодарить вас за хлопоты, а потом попросить и совета…
– Раз вам дана аудиенция, и так скоро, это уже хороший признак… – сказал Жуковский, стараясь забыть, что только что сказал ему Николай. – И вам прежде всего надо благодарить Александру Осиповну. Ну, а во время аудиенции старайтесь говорить поменьше… гм… и ни под каким видом не возражайте… гм… его величеству… Возражениями можно с ним испортить самое верное дело… – И Жуковский, осторожно выбирая выражения и добродушно покуривая из длинной, совсем как на немецких картинках, трубки, стал, понизив голос, учить полковника, как именно надо подходить к солнцу не только петербургского, но и всероссийского фирмамента…









































