Текст книги "Во дни Пушкина. Том 1"
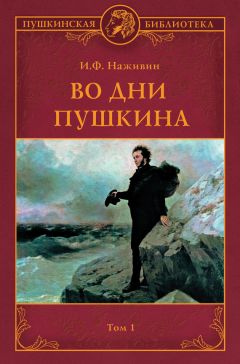
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
И вот теперь, тридцать лет спустя после его смерти, в ночи, бедный холоп при тусклом свете сальной свечи разбирал писания его. И в них Никита весьма многого не понимал, но самая музыка их скрытая, торжественные слова эти согревали душу его, окрыляли ее и делали всю жизнь старика холопа таинственно-значительной…
XLVIII. У Гальони в Твери
В ответ на свое прошение съездить в Петербург Пушкин получил от Бенкендорфа – с соответствующим внушением – разрешение на эту поездку, но пленительная Москва так крепко держала его своими соблазнами, что он пробыл в ней еще две недели. Что касается женитьбы, то все тут запуталось невероятно: если Софи, то как же Саша и Катя, а если Катя, то как же Софи и Саша, а если Саша, то как же Катя и Софи – путаница невероятная!.. И он понесся в Петербург…
Была самая середина мая. Днем все цвело, шумело, сияло, вечером горели ясные зори, по темным деревням звонкими кострами полыхали песни хороводные, а потом, торжественно, загорались россыпи звезд в небе, пели соловьи, так упоительно пахло по всей земле черемухой, дымком, лошадьми… По бревенчатой мостовой из Москвы в Петербург беспрестанно гремели в ночи проносящиеся экипажи, и грохот колес замирал постепенно в отдалении под звон колокольчиков. Изредка проносились новомодные, недавно введенные дилижансы, которых мужики звали нележанцами: раньше, в возках, можно было и лежать, а в дилижансе можно уже было только сидеть. Нельзя, прогресс!..
Пушкин прилетел ночью в Тверь. Перед поездкой он несколько ночей подряд бешено кутил и, чувствуя себя совершенно разбитым от тряски по бревенчатой дороге, решил переночевать во всем известной гостинице итальянца Гальони. Хотя час был уже поздний, но гостиница была еще ярко освещена. Вдали над городом стояло зарево небольшого пожара. По дворам вокруг лаяли собаки, а по темным улицам лениво позванивали колокольчики идущих на отдых троек… Пушкин занял номер, помылся и спустился в ресторацию закусить. Там зевали в кулак уже сонные лакеи: посетителями были заняты всего два стола. За одним столом сидел какой-то, видимо, крупный барин с бритым, брезгливым лицом и его жена, молоденькая и чрезвычайно хорошенькая. Лакеи с особенной почтительностью окружали этот стол, и сам Гальони, черный, жирный, с масляной улыбкой, склонившись, давал брезгливому господину какие-то объяснения. Пушкин нарочно сел так, чтобы видеть красавицу и не быть видимым ее мужем. Она сразу заметила его дерзко-восхищенные взгляды и с сдержанной улыбкой потупила глаза. И сразу началась осторожная игра… За другим столом сидел какой-то старик с тихим, кротким лицом. Пушкин не обратил на него никакого внимания, но он, сразу узнав знаменитого поэта, не сводил с него глаз. Скоро важный путешественник, отложив салфетку в сторону, сказал что-то жене и поднялся. Все вокруг подобострастно засуетилось. Еще несколько минут, и под окнами загрохотали колеса сперва их шикарной венской коляски, а потом и другой, в которой ехал камердинер и горничная… Пушкин, стоя у окна, простился глазами со смеющейся красавицей и снова сел за окровавленный бифштекс.
– А скажите: кто этот брюзга? – спросил Пушкин проходившего мимо Гальони.
– Австрийский посланник, граф Фикельмон, – отвечал тот вежливо.
– А с ним?
– Его супруга, урожденная госпожа Тизенгаузен, внучка светлейшего князя Кутузова…
И он осторожно смеющимися глазами посмотрел на поэта, как бы говоря: «Что, какова? Ничего не поделаешь, милый: близок локоть, да не укусишь»… Пушкин щелкнул себя ладонью по лбу: черт возьми! Так ведь это дочь Элизы Хитрово, его приятельницы! Надо же было так опростоволоситься… Правда, она выросла во Флоренции и он никогда не встречал ее, но если бы он спросил у Гальони раньше, то, конечно… Черт возьми, какая глупость!..
Старичок глазами подозвал лакея.
– Узнай там, братец, как же обстоит дело с починкой моей коляски, – сказал он. – Ежели починка задержится, то я лучше возьму комнату и по крайней мере посплю немного…
– И хорошо сделаете, ваша милость… – одобрил лакей с чрезвычайной предупредительностью. – Какие ночные починки? Так, близир один, а проканителятся все равно до зари… Вы лучше отдохнули бы…
– А ты все-таки узнай, братец.
– Сей минутой!
И он форсистой ярославской иноходью, грациозно помахивая салфеткой, понесся в швейцарскую. Старик снова уставился – он как будто слегка волновался – на Пушкина, который лениво смаковал нагретый лафит.
Кузнецы сказали, что раньше утра коляска готова не будет, и старик приказал отвести себе комнату и внести вещи. Лакей понесся исполнить поручение, а он встал, застегнул свой скромный сюртучок и подошел к Пушкину.
– Не знаменитого ли поэта нашего, Александра Сергеевича Пушкина, имею я счастье лицезреть? – вежливо склонился он.
Пушкин весело осклабился: старичок сразу очень понравился ему.
– Я Пушкин… – привстав, сказал он. – Но действительно ли я так ужасно знаменит, не могу вам сказать…
– Разрешите представиться: отставной гвардии полковник и по вашему нижегородскому Болдину почти сосед, Федор Брянцев. Давно искал случая выразить вам свое восхищение пред богатейшим дарованием вашим…
Пушкин поклонился и, любезно подставив полковнику стул, кивнул лакею: еще стакан!
– Вы куда же изволите ехать, в Петербург или уже обратно, в нашу Нижегородскую?… – спросил он старика.
– В Петербург, государь мой… – отвечал полковник. – Не думал я никак на старости лет попасть в этот наш чиновный Вавилон, да против судьбы не пойдешь… Петербург ваш это своего рода фирмамент… Из нашей трущобы видны нам только самые крупные светила, но когда попадаешь туда по какому-нибудь делу, то очень быстро убеждаешься, что вся сила на вашем фирмаменте в руках мелких, почти незримых светил, которые нашим народом так метко прозваны крапивным семенем… Древние верили, что всякий земнородный живет под влиянием светил небесных – в России сие вне всякого сомнения…
– Оч-чень хорошо! – засмеялся Пушкин.
– И что особенно примечательно, – продолжал старик, – это…
К трактиру с оглушительным треском подлетел какой-то экипаж, и чрез минуту в зал вбежал местный полицеймейстер, красивый малый с черными бакенбардами и теперь сумасшедшими глазами. Лицо его было все вымазано в саже, а мундир весь мокрый.
– Его высокопревосходительство господин посланник Австрии еще здесь? – возбужденно бросил он итальянцу.
В черных лукавых глазках того заиграл смех.
– Только что изволили отбыть…
– А!.. Ну, тем лучше… – сказал полицеймейстер. – Дайте мне поскорее водки и закусить чего-нибудь… Ну, хоть осетрины с хреном, что ли…
И он шумно повалился за один из столиков.
Бывший преображенец этот, разорившись, пристроился еще при Екатерине Павловне в Тверь полицеймейстером. Всякий раз, как в Твери проездом останавливался какой-нибудь именитый путешественник, он сейчас же устраивал в городе пожар, заранее подготовленными средствами молодецки тушил его, а затем, весь мокрый и в саже, запыхавшись, являлся лично успокоить высокого гостя, хотя бы тот никакого беспокойства и не обнаруживал.
Шумно закусив, он, разочарованный, умчался в ночь…
Пушкин заинтересовался делом полковника в Петербурге, но для того, чтобы удовлетворить любопытство поэта, нужно было рассказать чуть не всю жизнь, а было уже за полночь. Дело его было, действительно, любопытно. Внезапная смерть братца поставила ребром вопрос о наследстве. Единственным наследником всего был он, родной брат почившего, но документы его все были на имя отставного полковника Брянцева и доказать свое право было невозможно. Наследство брата ни на что ему было не нужно: он, как птица небесная, довольствовался крохами, а кроме того, заграницей у него были запасы, о которых он почти забыл. Наследство принять нужно было только ради крестьян, чтобы отпустить их, согласно желанию братца, на волю. Крапивное семя сразу учуяло богатейшую добычу и роем жадных клещей впилось в дело. Провозившись с ними почти целый год и ничего не добившись, – подмазывать он и не хотел, и не умел – он решил искать правды в Петербурге. Но он был совсем плохой астроном, о путях по фирмаменту не имел никакого представления и ехал, больше уповая на милость Божию.
Старичок искусно перевел разговор на литературу. Пушкина удивляла оригинальность его суждений и проникновенность, которую проявлял старичок к каждому его слову. «Любопытный старичишка!» – подумал он.
– Да, увлечение литературой теперь генеральное… – мягко сказал полковник. – Нет уже ни одного юнкера, который не складывал бы виршей, но в истинных любителях сей области духа человеческого я наблюдаю все большую и большую простуду любительных к литературе чувств. Вместо высокого голоса богов мы слышим какие-то коммеражи, а видим только разъяренные самолюбия господ сочинителей и какой-то нездоровый гиларитет, который они вносят в жизнь… Читаешь и все опасаешься, как бы не стошнилось…
– Но позвольте, чего же вы от нас хотите? – засмеялся Пушкин. – Екатерина о, поехала в село?.. Но это всем давно осточертело!
– Современный сочинитель хочет нас поразить замаранной манией цинизма, – тихо сказал старик, – а я хотел бы видеть на нем блистающие ризы первосвященника… Он должен помогать к славе, блаженству и просвещению России… Говорят: цензура… Тут преувеличение: и можное, и хорошее вполне доступны истинному сочинителю и в наши дни. Но они не хотят делать свое дело. Чиновников мы – и справедливо – упрекаем в чинобесии, но и в голове сочинителя только его собственный карьер. Поэты бывают разные: alia res sceptrum, alia plectrum – одно дело пастырский жезл, другое – свирель пастушья. Но большинство современных сочинителей не приемлют жезла пастырского, – правда, и силенки у большинства на это нет, – а свирель свою оскверняют песнями нечистыми… Около полувека тому назад по Малороссии бродил мудрец один сермяжный, Григорий Саввич Сковорода, – вы, конечно, и не слыхивали о нем. И вот какие вирши сложил он по сему предмету:
Трижды трем музам однажды навстречу Венера явилась
С Купидоном своим и с такими словами:
«Чтите меня, о, Музы! Из сонма богов я самая первая:
Власти моей покорны все люди и боги…»
Музы ж в ответь: «Но над нами не имеешь ты власти!
Музы чтут не твой скиптр, а святой Геликон…»
– И он, и вы слишком строги… – сказал Пушкин, отхлебывая лафит.
– Не думаю, государь мой… Мы хотим, чтобы вы иссекли нам Парфенон, а не заготовляли бы просто корма для мышей – разве это значит быть строгим? Какая честь сочинителю, если о нем вместе с сатириком можно сказать:
И оду уж его тисненью предают,
И в оде уж его нам ваксу продают…
Если я не очень вам надоел суждениями стариковскими, то вот как я подхожу ко всякому литературному произведению, которое сие почетное название носить имеет право… Мы должны рассмотреть его, во-первых, с точки зрения его замысла, мысли, в основу его заложенной; во-вторых, должны убедиться, соответствует ли избранная поэтом форма для выражения его мысли, и, наконец, в третьих, посмотреть, достаточно ли богаты его средства, чтобы воплотить достойно сию его мысль в избранную им форму. Только строгая мерка сия даст нам возможность отделить плевелы от чистой пшеницы. Вы скажете: старик пропустил нравственное мерило. Я о нем не говорю потому, государь мой, что это само собою подразумеваться должно: не сказал ли я, что поэт это первосвященник? Возьмем теперь, например, прославленную комедию господина Грибоедова: средства его, язык, – богатейшие, форма стройная и всякого удивления достойная, а внутри – пустота полная, ибо мысли нет никакой. Обличие кучки каких-то шалых и ничтожных людей не есть мысль. И все падает. Но – толпе нравится, ибо ей только то и нравится, что ей по плечу. Мимо истинного создания гения она пройдет с полным равнодушием, ибо сие просто вне поля ее зрения…
– Но вы выносите смертный приговор и мне! – улыбнулся Пушкин. – Я, увы, толпе нравлюсь…
– О, вам и тридцати лет нет еще! – воскликнул старик. – Дерево судится по плодам, а вы только зацвели… Но я не отдал бы вам дани уважения, каковое испытываю к вам, если бы прямо, по-стариковски, не сказал вам: боюсь я за вас, боюсь чрезвычайно! Заласкают вас, опьянят, собьют… И если бы на склоне лет чего хотел я для России, то это чтобы вы стряхнули с себя цепи сих ласкателей ваших, взлетели бы над нездоровым туманом, поднимающимся с низов общественных, и свободной дорогой пошли бы туда, куда зовет вас ваше святое призвание… А кстати: осмелюсь узнать ваш точный возраст…
– Увы: уже двадцать восьмой!..
– Значит, вы родились…
– 26 месяца майя лета 1799…
Старик потупился, точно что-то соображая. И, видимо, взволновался.
– Да… – вздохнул он, как бы заключая длинную цепь своих мыслей. – Скажу вам прямо: я боялся бы за народ наш, если бы современная литература наша была доступна ему… Но он, слава Богу, безграмотен и потому против отравы сей огражден…
– Но позвольте! – со смехом закричал Пушкин – Но это же Грибоедов, которого вы только что под орех разделали. Помните:
Уж коли зло пресечь,
Забрать все книги бы да сжечь!..
– Господин Грибоедов тут с иронией выражаются, а я… не сочтите меня, государь мой, за фразера, но я частенько сам с собой думаю, что большой еще вопрос, что больше принесла человечеству книга: зла или добра… Взгляните на лилии полей, взгляните на птиц небесных – без книг живут…
– Но и это вы в книге вычитали…
– Не злоупотребляйте словом… Я говорю лишь, что сказание об Алексее – Божиим человеке много народу нужнее, чем прославленный Чайльд Гарольд или все эти пышности госпожи Жорж Санд…
Пушкин звонко рассмеялся: этот оригинал положительно нравился ему!.. Но было уже поздно. Они сговорились выехать завтра утром вместе. Но кузнецы, чинившие коляску, напились – полковник, желая подогнать дело, дал им на чай наперед, – и он поутру должен был остаться. Он сам усадил Пушкина в коляску.
– Счастливый путь! Был душевно рад познакомиться с вами… Надеюсь встретиться в Петербурге…
– Я остановлюсь у Демута… Буду очень рад еще раз побеседовать с вами… Ну, пошел!..
Ухарь-ямщик с налитой шеей и серебряной серьгой в ухе молодецки округлил руки, шевельнул вожжами и – залился колокольчик.
– Эх, вы, мохноногия! – весело крикнул он. – Расправляйте ножки по питерской дорожке!..
И коляска сразу закуталась облаком пахучей пыли…
– Но на кого он похож? – в сотый раз, вспоминая, спрашивал себя Пушкин. – На кого-то похож, а на кого, не вспомню…
И вдруг он чуть не ахнул: на Александра I! Тот же рост, тот же высокий, крутой, облысевший лоб, те же мягкие голубые глаза… И если бы низ лица, у полковника несколько тяжеловатый, закрыть как-нибудь, старик мог бы сойти за умершего царя… Но сейчас же он и забыл все это: он был уже душой в Петербурге, который теперь, под заливистый звон валдайского колокольчика под расписной дугой, казался ему какой-то страной обетованной…
XLIX. Встреча
Пушкин принадлежал к числу тех горячих душ, которые добрую половину своей жизни живут в сияющих облаках фантазии. Где бы они ни находился, он всегда чувствовал, что то, чем он здесь живет, не настоящее, а только подготовка к настоящей жизни, которая вот-вот откроется ему и затопит его каким-то необыкновенным счастьем. Так из Москвы представлялся ему Петербург. Но вот приехал он в Петербург, остановился в Демутовом трактире на Мойке, бросился очертя голову в блестящую петербургскую жизнь и почувствовал, что опять тут что-то не то, что и это все не настоящее…
Петербург встретил знаменитого поэта приветливо, но все же более сдержанно, чем фрондирующая, распоясавшаяся Москва. И как и в Москве, и здесь уже раздавались осторожные голоса, упрекавшие поэта за его близость и угодничество царю. Он оправдывался, – «он дал мне свободу!» – но не уступал… Он точно не хотел видеть, что свобода эта была весьма относительна и что внимательный глазок следовал за ним повсюду. Это было совсем не трудно: даже представители древних родов не стыдились быть шпионами. В Москве вышли его «Цыгане». Обложка поэмы была украшена виньеткой в довольно безвкусном вкусе того времени: чаша какая-то, змея, кинжал и проч. Все это было очень дешево, но одним казалось очень значительным, а другим опасным. Началось шушуканье, переписка официальными бумагами и, в конце концов, Волков, жандармский генерал, зять Марьи Ивановны Римской-Корсаковой, выяснил, что эта виньетка – трафарет, которым часто украшают сочинители свои произведения, что опасности тут никакой нет. Бенкендорф согласился оставить дело без последствий и в очередном всеподданнейшем докладе своем между прочим писал: «…Пушкин, после свидания со мной, говорил в английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шелопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно…»
Николай и сам это отлично понимал…
Если устремления Пушкина в эту сторону встречали довольно сдержанный прием, то взят был он под подозрение и другой стороной. Несмотря на строгие кары, постигшие декабристов, – а, может быть, и благодаря этим карам, – революционная мысль все еще дымно бродила по блистательной столице царей. Вся разница была только в том, что пророками ее выступали теперь не гвардейские офицеры, а безусые студенты. И если среди них находились восторженные головы, которые во главе этого нового революционного движения хотели поставить Пушкина, то у других эти планы встречали энергичный отпор: «Пушкин ныне предался большому свету, – говорили эти протестанты, – и думает более о модах и остреньких стишках, нежели о благе отечества». Злые языки говорили, что «отношение Пушкина, как и огромного большинства людей, к свободе то же, что у иных христиан к их религии: они зевают при одном ее имени…» И все это говорилось в виду переполненной Петропавловки, где, по слухам, полусумасшедший Батеньков все пытался уморить себя голодом и бессонницей…
В первые же дни своего пребывания в столице Пушкин в полутемном, пахнущем бифштексами коридоре наткнулся на полковника Брянцева. Тихий и ласковый старик понравился ему еще больше, и он пригласил его к себе на именины, на обед к своим.
Пушкины жили на Фонтанке, у Семеновского моста. Квартира их, как всегда, если не больше, представляла из себя вид временного кочевья, по-прежнему была она свидетельницей жарких сцен между супругами, – главным образом, на денежной или, точнее, на безденежной почве – по-прежнему в ней слонялись, как осенние мухи, сонные, нечесаные, зевающие дворовые. Отношения у Пушкина с отцом были по-прежнему неровные. Сергей Львович был безалаберен, скуповат, потому что роскошничать ему было, собственно, и не из чего, – сын думал, что священнейшая обязанность отца это доставлять сыновьям денег в достаточном количестве для кутежей и всяких безумств. Если Пушкин в молодости просил у отца купить ему модные башмаки с пряжками, то отец предлагал ему поносить свои, старые, времен павловских, и сын приходил в бешенство, и если он подкатывал к дому на извозчике, которому надо было заплатить целых восемьдесят копеек, то Сергей Львович сердился на такое мотовство. Но зато, когда большой компанией все катались на лодках, то Пушкин-сын, будучи при деньгах, нарочно на глазах отца пускал в воду один за другим золотые и любовался их отражением в воде и – бессильным бешенством отца.
Если отец, желая уберечь взбалмошного сына, брал по желанию правительства его под свой надзор то сын бесился от этого «шпионства» и делал весьма вольные по отношению к родителю жесты. Но в последнее время сын определенно пошел в гору, был обласкан царем, стал зарабатывать, и Сергей Львович стал понемногу смягчаться, а Надежда Осиповна все заманивала сына к себе обедать. В особенности хотелось ей, чтобы свои именины он отпраздновал среди семьи.
– Смотри же, приезжай непременно… – говорила она ему. – Будет твой любимый печеный картофель в мундире и еще кое-что…
– А что?
– А вот приезжай и увидишь…
– Хорошо. Только я привезу с собой гостя, моего приятеля, полковника Брянцева… Замечательный старик!
– Привози…
И, когда 2 июня с прифрантившимся и взволнованным полковником Пушкин вошел в уже оживленную гостиную, мать в весьма привядшем туалете встретила его лукавой улыбкой.
– А-а… На этот раз tu es bien gentil…[91]91
Ты очень мил.
[Закрыть] Ну, вот тебе за это и обещанная награда…
И она показала ему на сиявшую ему навстречу своей колдовской улыбкой Анну Петровну Керн. Представив матери старого Брянцева, – она добродушно просила его любить и жаловать, – пошутив с обступившими и поздравлявшими его гостями, он при первом же удобном случае увернулся к Анне Петровне.
– Вы безбожно хорошеете! – жарко сказал он ей вполголоса. – Я на месте правительства отправил бы вас в монастырь: вы прямо опасны для общественного спокойствия!..
Она расхохоталась и обожгла его своими пленительными глазами…
– Милости прошу, господа… Mesdames… Messieurs…
И гости, вежливо уступая один другому дорогу, направились в столовую, а во главе всех знаменитый поэт В.А. Жуковский с хозяйкой. Стол был сервирован, по обычаю, довольно небрежно. Когда чего из посуды не хватало, Пушкины занимали у соседей. Все было как-то не стильно, разномастно. Но, как всегда у Пушкиных, было просто, сердечно и весело. Оля, сестра поэта, с сдержанной улыбкой шептала ему что-то на ухо: у нее шел роман с Павлищевым, но родня ее выбор не одобряла и ей нужна была поддержка брата. Он, кивнув ей со смехом головой, сейчас же пристроился около Анны Петровны: что там о московских красавицах ни говори, но ни одна женщина не пьянила его так, как она!..
И не успели все занять места, как сразу взорвался общий смех.
– Да, да, он всегда такой был, наш именинник! – воскликнула Оля, блестя белыми зубами. – Раз в детстве я нашалила что-то, а маменька меня по щеке и тресни. Я разобиделась. Она требует, чтобы я у нее прощения просила, а я не хочу. Ну, надели мне в наказание какое-то платьице затрапезное, на хлеб, на воду посадили и запретили Саше со мной разговаривать. А я уперлась на своем и конец: лучше повешусь, говорю, а просить прощения не буду! И вдруг, смотрю, братец отыскал где-то гвоздь да и давай его в стенку вбивать. Няня Арина Родионовна и спрашивает: а зачем вы, сударь, это делаете? А он говорит: сестрица повеситься хочет, так вот я ей гвоздик приготовлю… И расхохотался, дрянной мальчишка! И мне смешно стало, и так все и прошло… Он и тогда такой же озорник был…
Снова смех и говор, и весело захлопали в потолок пробки. А он опьянел и без шампанского: Анна Петровна повела на него огненную атаку. Посыпались экспромты, шутки и все новые и новые взрывы хохота. Жуковский – на именинах своего собрата знаменитый поэт играл первую скрипку – постучал деликатно ножичком о бокал, встал и улыбнулся всем своим жирным, добродушным лицом.
– Mesdames… Messieurs…
Все почтительно замолкло…
Жуковский был в зените своей славы. Незаконный сын орловского помещика и пленной молоденькой турчанки, муж которой был убит русскими при штурме Бендер, Жуковский начал свою жизнь скудно и бледно. Уже в шестнадцать лет он писал:
Жизнь, друг мой, бездна
Слез и страданий…
Счастлив сто крат
Тот, кто, достигнув
Мирного брега,
Вечным спит сном…
Но сам он за этим счастьем не очень торопился и, вздыхая, любил рассуждать на тему, могут ли люди называться просвещенными, если они не добродетельны, невинную сельскую жизнь он ставил идеалом и утверждал, что только в приятном уединении сел не сокрушены еще жертвенники невинности и счастья. Вообще он был апостолом «священной меланхолии», которую разводил он вместе с другими в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Но все же он искал устроиться в жизни поудобнее и уже в 1806 году, двадцатитрехлетним юношей, он просил своих друзей похлопотать за него: он готов был принять место библиотекаря, и директора училища, и идти «во фрунт», и даже согласен быль работать в канцелярии «которого-нибудь из главнокомандующих». Карамзин устраивает его редактором «Вестника Европы», и он продолжает разводить свою священную меланхолию. Когда ему не удается жениться на А.А. Протасовой, он продает свое последнее именьишко и отдает деньги ей, просватанной за немца-профессора, в приданое. Во время отечественной войны, в день Бородина, он постоял где-то в кустах со своей частью, послушал шум боя вдали и получил за это «Анну на шею».
С Анной на шее он сочинил изумительную по трескотне пьесу «Певец в стане русских воинов». Русские воины его сражались мечами, носили шлемы, умирали на щитах, а на могилы их приходит, конечно, «краса славянских див». Пьеса имела бешеный успех. Вдовствующая Мария Федоровна захотела непременно иметь автограф «Певца». Жуковский ответил ей льстивым «Посланием к императрице». В то время пред русскими писателями был четко поставлен выбор: или Петропавловка, или Зимний дворец. Жуковский, как и многие его предшественники, выбрал дворец, быстро пошел в гору и скоро и сам очутился в Зимнем, учителем русского языка для тех немецких принцесс, которые издавна составляли в Германии предмет экспорта в качестве супруг русских великих князей. Жизнь поэта превратилась в один сплошной праздник: обеды у знатных лиц, придворные развлечения, прогулки, великосветские гостиные, чтение в избранном обществе, игра в серсо, шахматы, музыка, биллиард и изредка литературные занятия. «Он теперь нянчится только с фрейлинами, – писал о нем А. Тургенев, – ест их конфекты и пьет за них шампанское… Он уж и записки пишет стихами и не может сказать прозою: пришлите мне мороженого и миндалю в сахаре…»
Радикалы язвительно издевались над поэтом священной меланхолии, а Бестужев громыхнул даже эпиграммой:
Из савана оделся он в ливрею,
На ленту променял лавровый свой венец,
Не подражая больше Грею,
С указкой втерся во дворец.
И что же вышло, наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею,
Бедный певец!..
Но Василий Андреевич не обращал внимания на эти стрелы завистников и вел свою линию. Он описывал всякую чертовщину, ведьм, привидения, нетопырей, ундин, убийства при лунном освещении, – все это называлось романтизмом – считал Гетэ грубым материалистом, Шекспира еще грубее, а когда Крылов в басне своей написал: «в зобу от радости дыханье сперло», Жуковский заметил, что «едва ли грубое выражение это понравится людям, привыкшим к языку хорошего общества». Но как поэт он стоял на первом месте. Раз Пушкин залез к нему под стол и стал рыться в его корзине с брошенными бумагами. Все удивились. «Что Жуковский бросает, – отвечал озорник, – то нам еще пригодится…» Когда 14 декабря из окон дворца увидал он восстание, он пришел в сильнейшее негодование на безумцев. Впрочем, потом, смягчившись, он немножко ходатайствовал перед Николаем за несчастных донкихотов: он имел, в самом деле, доброе, независтливое сердце и готов был помогать и другим пробиться к засахаренному миндалю, к мороженому и к фрейлинам…
– Mesdames… Messieurs…
И плавно полилась медовая речь. Взрывы смеха сменяли взрывы рукоплесканий, и все закончилось овацией и имениннику, и его звездоносному другу… Когда обед отшумел, один из гостей, Абрам Сергеевич Норов, подошел к Пушкину и Анне Петровне.
– Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, Анна Петровна? – шутя сказал он. – А он написал для вас столько прекрасных стихов!..
– Ах, в самом деле! – воскликнула красавица. – Вот вам кольцо моей матери… Носите его на память обо мне…
– Благодарю вас… – сказал Пушкин, надевая кольцо на мизинец. – Но тогда я завтра привезу вам другое – на память обо мне. Извините на минутку: мне надо обделать одно маленькое дельце…
И он, поймав полковника, подвел его к благодушно сияющему Жуковскому.
– Я уже рассказывал тебе о деле полковника, Василий Андреевич… – проговорил он. – По-моему, лучше всего прямо обратиться к государю и лучше всего чрез тебя…
– Прекрасно… – без большого, однако, воодушевления проговорил Жуковский. – Вы нижегородец?
Они заговорили. Полковник чувствовал себя не в своей тарелке. Он сразу запутался в звездных полях петербургского фирмамента. Чинуши от изумления прямо прийти в себя не могли от этого странного просителя. Наконец, один из них, бритый, серенький, от которого пахло крысой, отвел полковника в темный уголок и деликатно указал ему на старую русскую поговорку: не подмажешь – не поедешь, но полковник страшно переконфузился и поторопился уйти. И вот он рассказывал теперь свою драму внимательно слушавшему поэту, но в душе его почти уже не было надежды.
И вдруг Надежда Осиповна, сдвинув брови, издали начала вглядываться в лицо полковника. Еще немного, ее смуглое лицо посерело, увядшие губы сделались почти синими, и, улучив удобную минуту, она подошла вдруг к Брянцеву.
– Ну, как вам нравится после провинции наш Вавилон, полковник? – с улыбкой сказала она.
Она ловко отвела его в сторону, и вдруг прошептала:
– Это вы?.. Вы?.. Но как вы… откуда?.. Боже мой…
– Вы ничего не знаете?.. – печально сказал он, бледный. – Тогда… на другой же день меня схватили, чтобы выслать в Сибирь, но вмешались добрые люди, и я очутился заграницей… Я не смел писать вам, чтобы не нарушать вашего покоя… Что мог дать вам я, изгнанник, человек без имени?..
– Но… но я ничего не знала… – пролепетала она. – Я думала…
Подавленные, они молча смотрели один на другого, и в памяти их встала черная августовская ночь, и блестящий праздник, и восхитительный ожог внезапной, сумасшедшей, ослепительной любви… Тогда она была молодой красавицей креолкой, а он – молодым, блестящим моряком.
– Я так хотел бы иметь возможность видеть вас наедине… – печально сказал он. – Боль того страшного разрыва… я проносил ее в груди до седых волос…
Она приложила холодные руки к вискам.
– Хорошо… – сказала она тихо. – А теперь вы лучше уйдите.
И с любезной улыбкой, блудная, она вернулась к обществу.
– Но вы будете в то воскресенье в Приютине? – спрашивал Пушкин у уезжавшей Анны Петровны. – Непременно? Без подвоха?
– Но, Боже мой, конечно! – смеялась она так, как будто бы ее щекотали. – Я не обманываю своих друзей никогда!..









































