Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
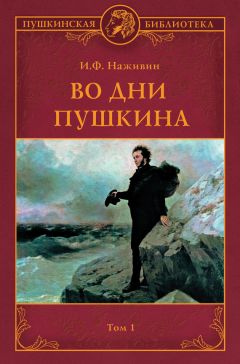
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXVII. Двигатели мировой истории
Пушкину в тихом Михайловском было по-прежнему кюхельбекерно. Он много писал, читал, посылал приятелям письма, но томился чрезвычайно. Праздник лицейской годовщины, 19 октября, он отпраздновал в полном одиночестве, отметив его, как всегда, прелестными стихами:
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор…
Пылай, камин, в моей пустынной келье.
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук!..
И, строфа за строфой, он, одинокий, помянул в этот день всех друзей пролетевшей юности. И это еще более усилило его тоску… Угнетало его и тихое горе Дуни. Няня обо всем уже догадалась, значительно помалкивала, но про себя что-то плановала…
Единственным гостем Михайловского об эту пору бывал только поп Шкода. Он всегда заводил с Пушкиным свой любимый разговор насчет божественного, который неизменно кончался тем, что попик срывался с места и, отмахиваясь обоими руками от наседавшего на него со смехом Пушкина, убегал к себе на Вороноч. Вернется домой туча тучей, шваркнет шапку свою из крашеного собачьего меха на пол и скажет:
– Разругался я с михайловским барином нонеча вчистую… И ушел не попрошамшись… И как только мать сыра земля таких богохульников носить, вот чего я не понимаю!..
Но не проходит двух-трех дней, как под окном поповского домика раздается энергичный стук.
– Поп дома? – кричит Пушкин. – Скажите ему, что я мириться приезжал… Пусть зайдет ко мне – чайком попою…
Чуть не каждый день он ездил, как всегда, в Тригорское. И терзался, не зная, в кого бы влюбиться: строгая Алина держала его в отдалении, Анна казалась ему пресна, а чертенок Зизи была слишком уж молода, да и молодой Вревский Борис что-то уж очень с ней миртильничал…
И вдруг по тихим белым полям поползли тревожные слухи: скончался государь император Александр Павлович. Попы, как полагается, отпели сперва панихиду по царе-батюшке, а потом молебен по случаю восшествия на престол государя императора Константина Павловича. А из далекого Питера прошла волна новых слухов: Константин царем быть не желает, а будет Николай. Проверить ничего было невозможно. Всякий врал, как ему казалось лучше. Тревога нарастала. Дьячок Панфил с погоста Вороноч, первый политик на всю округу, давал окрестным деревням тон.
– Все брехня!.. – авторитетно говорил он, понюхав табачку из своей старенькой табакерки и вытирая нос красным платком. – Одни болтают, что Александру Павлыча господишки убили, изрезали, а в гроб положили солдата какого-то, а на лицо, чтобы не узнали, маску восковую налепили. Другой гнет, что опротивели царю все дела государские, и он будто в монахи ушел. А надысь в Опочке в трактире один сказывал, что господишки, верноподданные изверги, первейшие на свете подлецы, продали его в иностранную державу… И все это вранье… Верно одно: стал он господишкам поперек горла, и извести его у их было решено: графиня Орлова и жена графа Потемкина, верные фрейлины и распренеблагородные канальи, хотели отравить царя у себя на балу… Ну, одначе, дело все открылось, и Орлову и Потемкину за то выпороли плетьми… Да, да, и еще как!.. – заметив сочувствие своей сермяжной аудитории, подтвердил он накрепко. – Всю кожу с ж… спустили… Там, брат, не поглядят, что ты фрейлина или графиня – ты хошь разграфиня будь, а пакостить Расее не моги… Ну, вот… А как привезли из Таганрогу-города гроб-то, да поставили его в Москве в собор, один дьячок подмосковной, не будь дурак, и пойди поглядеть. И вот пришел мой дьячок домой и объявил всему народу: в гробу, ребята, не царь, а черт!.. Царь же батюшка, слава Богу, жив и здоров и, чтобы обличить весь этот обман господишек, сам выйдет за тридцати верстах от Петербурга встретить свой гроб, и тогда и объявит всем о господской подлости…
Дьячок Панфил снова зарядил нос. Мужики были чрезвычайно довольны: нагорит теперь стервецам здорово!
Пушкин буквально места себе не находил. Уж очень он «Ивану Иванычу» насолил, чтобы можно было надеяться на его милость, а с переменой царствования, вероятно, освободят и его…
Было десятое декабря. Стояли крепкие морозы. Пушкин пришел пешком в Тригорское и застал всех за чаем. Поздоровавшись со всеми и отказавшись от чаю, он прислонился к жарко натопленной печке и стал греться. Зизи читала около дымящейся чашки сонник Мартына Задеки: бор, буря, ель, еж, мрак, мост, медведь, метел… Маленькая Маша, любимица Прасковьи Александровны, большая озорница, из-за стула матери показывала Пушкину откуда-то вырезанную обезьяну: она всегда говорила ему, что он похож на обезьяну. Он украдкой делал ей зверское лицо, но девчушка не унималась. Тогда он, свирепо выставив вперед свои ужасающие когти, медленно, на цыпочках, с хищным выражением на лице, стал красться к ней. И, несмотря на то, что только вчера она играла с ним в прятки и за ноги тащила его из-под дивана, куда он, по своему обыкновению, спрятался, она теперь испугалась и завизжала.
– Ах, да будет тебе! – досадливо сморщилась мать, разливавшая чай. – Индо в ушах звенит… Что ты так орешь?
И, увидав Пушкина, она рассмеялась.
Алина была в гостях в Голубове, у Вревских, Анна Николаевна, склонившись к столу, внимательно разбирала какой-то узор, а непоседа Зизи, закинув и на этот раз неудовлетворившего ее Задеку, уже подумывала, не наладить ли катание на тройке, и грызла подсолнышки.
– Ах, да… – вдруг вспомнила она. – Александр Сергеевич, разрешите наш спор.
– Можно, – отвечал он. – Могу разрешить всякий спор. Говорите.
– Мамочка хочет начинать учить Машу грамоте и непременно хочет засадить ее за эту противную грамматику Ломоносова, над которой столько мучила меня, – сказала Зина. – А я говорю, что грамматика совсем не нужна…
– Сама мудрость глаголет вашими устами, Зиночка, – сказал он. – Грамматика предрассудок…
– Нет, серьезно?.. – заинтересовалась Прасковья Александровна. – Нужно же знать правила…
– Не думаю, – отвечал он. – Я вот отродясь не учил русской грамматики, а, слава Богу, пишу помаленьку и не очень безграмотно. Да… – вдруг засмеялся он. – Прелюбопытная история вышла с министром Уваровым по этому случаю. Гетэ праздновал свой юбилей, и Уваров счел нужным отправить ему поздравления и от русского правительства. Изложил он все, как полагается, но тут же и прибавил: «Если я наделал в моем письме много ошибок, то, надеюсь, эксцелленц простит меня, – немецкую грамматику я немножко призабыл…» И от Гетэ пришел ответ: благодарит за поздравления и прибавляет, что он немецкую грамматику, к сожалению, никак забыть не может… И заметьте, что Альфиери учит итальянский язык на базарах… Я не знаю, кому нужна грамматика, – думаю, что только учителям, чтобы им было чему учить… Послушайте, как говорит моя Арина Родионовна, ваша Акулина Памфиловна или московские просвирни: не наслушаешься!.. А они о существовании грамматики, слава Богу, и не подозревают…
– Право, не знаю уж, как и быть… – задумчиво проговорила Прасковья Александровна, внимательно разливая чай. – Так-то оно и так, а все же как будто без грамматики и неловко…
– Александр Сергеевич, подсолнышков хотите? – спросила Зина.
– Со всем нашим удовольствием…
И они начали, смеясь, лущить вперегонку семечки…
Дверь отворилась, и в дверях появилась дородная Акулина Памфиловна со своей солидной бородавкой и очками на лбу.
– Акули-и-ина Памфиловна, дайте моченого яблочка! – сразу заныл Пушкин, подражая детям. – А, Акулина Памфиловна?..
Та с притворной строгостью махнула на него рукой: он всегда привязывался к старухе…
– Матушка, барыня, Арсений из Питера вернулся… – озабоченно доложила она хозяйке. – Ну, только ничего не привез… И сам, говорит, едва ноги унес…
Все взволновались. И Зина, шумя юбками, сразу унеслась за Арсением. Он ежегодно по первопуточку ездил в Петербург продавать яблоки и всякую другую деревенскую снедь, а на вырученные деньги покупал там сахар, чай, вино и проч.
– Вот он!.. – крикнула раскрасневшаяся Зина с порога.
Арсений, почтенный, чистоплотный старик с круглым, бритым лицом, солидным брюшком и сдержанными манерами, помолился от порога на образа, степенно подошел к Прасковье Александровне к ручке и так же степенно раскланялся с г-ном Пушкиным и с барышнями. Зина так вся ходуном и ходила: вот еще китайские церемонии!..
– Ну, что там еще такое? – спросила Прасковья Александровна. – Правда ли, что ты не привез ничего?..
– Ничего-с… – подтвердил Арсений. – Свое все продал, а закупить не успел ничего… И подводчиков своих бросил, а сам поскорее на почтовых поехал, чтобы упредить вас на всякий случай…
– Да в чем дело?
– А все это волынка там идет, кому на престоле быть… – отвечал Арсений, видимо, не одобряя. – По улицам везде разъезды конные пущены, караулы выставлены и полиция ко всякому привязывается, что вот, прости Господи, собака цепная… Все опасаются, как бы чего не вышло… Николая-то Павлыча, сказывают, в гвардии не больно долюбливают…
– А Константина Павловича обожают? – оскалился Пушкин.
– Может, и Каскянкина Павлыча не очень уважают, но, главная вещь, каков он там ни на есть, а все же законный… – солидно сказал Арсений, которому не понравилось, что г-н Пушкин в таком важном деле зубы скалит. – Конечно, не нашего ума дело, сударь, но мы по-простому так полагаем. Очень которые опасаются, что при Каскянкине Павлыче полячишки наверх полезут, а все-таки закон это закон…
– А немцы лучше? – опять оскалился Пушкин. – Известно, хрен редьки не слаще, да…
Арсений махнул только рукой… Дамы еще и еще раз заставили его повторить все, что он там видел и слышал. На всех лицах были недоумение и тревога. Пушкин замолк и нахмурился.
Немного погодя, не оставшись, как обыкновенно, ужинать, он простился со всеми и быстро зашагал снежной дорогой к Михайловскому. Он решил ехать в Петербург: в суматохе его, вероятно, там не заметят, а если что разыграется, он будет на месте. И он, шагая, обдумывал, как поумнее все это дело наладить. В гостинице, понятно, остановиться нельзя. Нельзя заехать и к кому-нибудь из своих великосветских приятелей, которые враз разболтают все. Лучше всего будет поехать прямо к Рылееву и от него узнать все, как и что…
– Ах, ты косой черт!.. – вдруг выругался он, останавливаясь: матерой русак, ковыляя, перебежал ему дорогу. – Чтобы тебя черти взяли!..
Это считалось в народе очень дурной приметой, и Пушкин был раздосадован… Он подходил уже к своим любимым трем старым соснам на границе михайловских владений, как услыхал в темноте скрип полозьев и пофыркивание лошади. Он посторонился в сугроб.
– Никак Александр Сергеич? – послышался из возка знакомый голос.
Это был поп Шкода со своим верным спутником Панфилом, дьячком и политиком.
– Ах, чтоб тебе провалиться, батька!.. – с досады воскликнул Пушкин. – Ведь знаешь же, что встреча с попом это еще хуже зайца, а лезешь…
Попик с Панфилом засмеялись.
– А что новенького слышно? – спросил о. Шкода.
– А поди ты к черту!.. – выругался Пушкин. – И какого черта тебя тут в темноте носит!..
Отцы духовные закатились веселым смехом.
– Ага!.. Не любишь… Бога опровергать это сколько угодно, а попа боишься… Эх, вы, Аники-воины!.. Ну, прощай, коли так…
Пушкин сердито зашагал к дому: «Приметы скверные, ехать нельзя… Но, с другой стороны, там, может… Нет, поеду, наплевать…» Вокруг в темных полях стояла глубокая тишина – только где-то за Соротью, на деревне, упорно лаяла собачонка… Потом в лесу сова жалобно прокричала. Это был тоже недобрый знак… Пушкин, входя, сердито хлопнул дверью, но, увидев Арину Родионовну, смягчился…
– Мама, собери мне с Якимом все, что нужно в дорогу на короткое время, – сказал он. – Я еду на рассвете в Петербург…
Старуха удивленно посмотрела на него: она хорошо знала, что ему ехать никуда нельзя. Он угадал ее мысли.
– Не путайся не в свои дела, старая!.. – решительно сказал он. – Мне многого с собой не надо, – что войдет в маленький кожаный чемодан, и хватит…
В доме, который уже готовился ко сну в тепло натопленных комнатах, началась беготня. В его кабинет, где он в задумчивости стоял над ворохом бумаг на столе, тихо вошла Дуня. Сильно исхудавшее и бледное лицо ее было все в слезах.
– Ну, ну, ну… – нахмурился он. – В чем дело? Я еду всего дня на два, на три, а потом назад…
Она закрыла лицо обеими руками и заплакала еще больше. Ему было и жаль ее, и как-то противно все это. Он чувствовал себя точно в западне. И, пересилив в себе недоброе чувство, он подошел к ней, обнял и стал шепотом успокаивать ее. Но она не отвечала ни слова и была безутешна…
Ночью он почти не спал. В темноте фантазия его буйно разыгралась. Да, этот момент замешательства в престолонаследии превосходно можно использовать для того, чтобы надеть, наконец, узду на зарвавшихся Романовых… Что думает тайное общество? Неужели они упустят такой прекрасный случай?.. Нет, он сразу воспламенит их всех на подвиг! И он чувствовал в себе такой прилив решимости, что был совершенно уверен, что, если понадобится, он готов стать и режицидой…
Он забылся только под утро. И ему приснилось как-то смутно и исковеркано, что он снова попал к той же гадалке в Петербурге, которая предсказала ему некогда гибель от белого человека. И теперь она снова, зловеще глядя на него от разложенных ею на столе карт, повторила свое жуткое предсказание… ему было тяжело. Но он услышал голос няни: с оплывшей свечой в руке она будила его. Он разом вскочил, оделся, позавтракал и, так как его Яким вдруг заболел, – у него был бешеный жар – решил ехать один. У подъезда в ночи уже позванивал колокольчик его тройки и слышалось пофыркивание лошадей… Он одел шубу, сунул в карман заряженный пистолет и обнял старуху…
– Ну, Христос с тобой… – говорила она. – Только ты там… смотри… не везде суйся, где тебя не спрашивают… И о… Дуняшке подумай… – тише прибавила она. – Надо выручать девку-то…
– Ладно, ладно… – смутился он. – Ты тут за ней поглядывай… Я скоро…
И зазвенел колокольчик, завизжали полозья, и коренник – тройка была запряжена гусем – закачался в оглоблях, как вдруг, едва выехали из ворот, Петр крепко выругался.
– Что такое?..
– Да заяц, косоглазый блядун, дорогу перебежал… – хмуро отвечал Петр. – Теперь добра не жди. Косой черт, пра, косой черт!..
– Врешь ты все!.. – с досадой крикнул Пушкин. – Так, померещилось тебе…
– Ну, померещилось… Слава Богу, читый…[45]45
По-псковски – трезвый.
[Закрыть] Во гляди, след-то его…
Действительно, в предрассветной мгле на снегу был четко виден ряд четверок русака. И сейчас же увидали и самого виновника передряги: он, не торопясь, пробирался к гумнам…
– А, черт!.. Поворачивай назад!.. – крикнул Пушкин. – Не везет, так уж не везет… Ворочай!..
Тройка повернула обратно.
– Ну, и слава Богу, – узнав, в чем дело, проговорила няня. – Разболокайся, а я тебе сичас кофейку свеженького погорячее подам…
Дуня сразу ожила: ей все казалось, что это от нее убегает так молодой барин… И тихонько, про себя, все благодарила Владычицу, что Она, послав вовремя зайца, помогла ей в ее и без того непереносном горе…
Пушкин рвал и метал. Он забросил всякую работу и жадно ловил слухи, которые летели снежными полями из Петербурга. Потом вернулись из Питера мужики, возившие туда дрова, и привезли уже вполне определенную весть: был бунт, была стражения, государь анпиратор победил врагов отечества, и теперь все тюрьмы, сказывают, битком набиты бунтовавшими господишками. Потом приползла весть о бунте войск на юге, который был подавлен с такою же легкостью, как и в Петербурге. Говорили, что по пути следования тела Александра народ везде волнуется и генералишкам не доверяет, и сказывают, в Туле мастеровые требовали даже вскрытия гроба. А потом на дороге, в Белеве, умерла вдруг возвращавшаяся в Петербург императрица Елизавета Алексеевна – так же одиноко, как и жила всю жизнь. И еще тревожнее стало в народе: «Нечисто дело в царской семье… Быть беде!..»
И в довершение всего в Михайловское, к Любимовым пришла весть, что сын их, Василей, ефрейтор Московского полка, недавно оженившийся только, бунтовал вместе с господишками и погиб на площади под картечью… Горько голосила его мать и о смерти сына, и о том, что лукавый запутал его в такое дело, и поп Шкода отслужил панихиду по новопреставленном рабе Божиим Василии, а, отслужив, испугался: можно ли молиться за бунтовщиков? Потом поуспокоился: авось не узнают. А ежели и узнают, так он скажет, что ничего он не знал и не ведал…
Пушкин все сжимал кулаки и метал глазами молнии: и на озверевшего Николая, который хватал в Петербурге и по всей России людей, запирал их в крепости, мучил на допросах, и на этот проклятый народ. Ведь местами он выпрягал лошадей траурной колесницы и вез на себе прах умершего царя!.. О, презренные рабы!.. Но когда раз, ночью, он представил себе, что его у Рылеева арестовали – он попал бы в самую кашу, если бы не зайцы, – и он сидел бы теперь, как все они, в каменном мешке, в цепях, без этой воли, без милых женщин, без своих стихов, его вдруг охватила безумная радость, что он там не был, что вот он все же у себя в Михайловском, что он жив, что перед ним бездна всяких возможностей… Ему было нестерпимо стыдно этого своего ликования, – ведь там его Пущин, там Кюхля, там целый ряд других милых людей! – он ужасался на свою, как он говорил, подлость, но не ликовать не мог… И, чтобы закрепить за собой все те блага, которыми он тут пользовался и которые так мало прежде ценил, он, краснея от стыда до того, что на лбу у него проступил пот, отправлял письма то Жуковскому, то Вяземскому, то Дельвигу, в которых он настойчиво выгораживал себя из страшного дела – он уже знал, что у многих из арестованных нашли его письма и «возмутительные» стихи – и выражал желание «вполне и искренно» примириться с правительством. «Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу… – писал он Жуковскому. – Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости…»
– Вот видишь, что твои зайцы-то наделали… – не раз повторяла довольная Арина Родионовна. – Где бы ты теперь был, ежели бы Господь не наслал их на тебя?.. Ты озоруешь и все не в путь что городишь, а Он, Батюшка, жалеет вот тебя…
И она сходила старыми ногами своими в Святогорский монастырь и отслужила Владычице благодарственный молебен о спасении своего буйного воспитанника. А Пушкин не раз задумывался о зайце, как о двигателе мировой истории, и втайне дивился на причуды волшебницы-жизни…
XXVIII. «Душою преданный преступник»
К делу о дерзостном восстании против Богом установленной власти привлечено было более двух с половиной тысяч человек. Более пятисот человек было уже заключено в страшную Петропавловку. Австрийский посол Лебцельтерн за то, что у него в день восстания спрятался его свояк, диктатор князь Трубецкой, был по требованию Николая отозван. По приказанию свыше журналы и газеты твердили о бесчеловечных умыслах, безнравственности и жестокосердии заговорщиков и описывали их зверскую наружность. Только один Карамзин, консерватор до мозга костей и крепостник, дерзнул замолвить пред царем слово за терзаемых:
– Ваше величество, заблуждения и преступления сих молодых людей суть заблуждения и преступления века сего…
Но Николай был выше каких-то там рассуждений: он знал все сам…
Расследование дела велось одновременно с бешеной энергией как следственной комиссией, так и самим Николаем. И хотя огромное число арестованных выражало горячее раскаяние и, забыв о Брутах и Квирогах, молило о пощаде, и комиссия, и Николай свирепствовали необычайно. В дело было пущено все: обманы, угрозы, дутые обещания и даже театральные эффекты. Иногда подсудимых поднимали ночью, с завязанными глазами вели куда-то и, приведя в зал заседаний комиссии, вдруг срывали с них повязки. Члены комиссии и подсылаемые попы уверяли несчастных, что искренность открывает им путь к спасению, что царь хочет только все знать, а затем «удивить всю Европу»: не только дарует всем полное прощение, но добровольно даст даже конституцию… «Зачем вам революция? – говорил его величество подсудимым. – Я сам вам революция: я сам сделаю все, что вы хотели сделать насильственно…» Каховскому в ответ на его пламенные речи о любви к родине и ко всему русскому Николай заявил, что он сам русский и понимает его чувствования. Штейнгелю он напоминает о его многочисленной семье и обещает заботиться о ней. Розена манит спасением. Молоденького Гангеблова он берет под руку, расхаживает по кабинету, а Трубецкого собственноручно выбрасывает из кабинета вон. Атеиста Якушкина его величество стращает загробными муками.
– Мнение людей вы можете презирать, но то, что ожидает вас на том свете, должно ужаснуть вас. Впрочем, я не хочу окончательно губить вас: я пришлю к вам священника. Что же вы молчите?
– Что вам угодно от меня, государь?
– Я, кажется, говорю вам довольно ясно! Если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами не обращались, как со свиньей, вы должны во всем признаться.
– Я дал слово не называть никого… – отвечал Якушкин. – Все, что я могу сказать о себе лично, я уже сказал его превосходительству… – указал он на генерала Левашова, почтительно стоявшего поодаль.
– Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом!..
– Назвать, государь, я не могу никого…
Николай отпрянул назад и, протянув руку, завопил:
– Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог!..
Не менее назидательно беседовала с пойманными и следственная комиссия. Она состояла из великого князя Михаила, Татищева, князя А.С. Голицына, взбалмошного немца Дибича, генерала Левашова, генерала Чернышева, Голенищева-Кутузова, который занял место Милорадовича, генерала Бенкендорфа, который так недавно заседал в ложе Соединенных Друзей вместе с Пестелем, Грибоедовым, Чаадаевым и Митьковым, и Адлерберга. Кто из всех этих карьеристов был гаже, сказать трудно. Были и определенные мерзавцы, как генерал Чернышев, который подводил под каторгу графа Захара Чернышева, чтобы присвоить себе его большой майорат. Великий князь Михаил и тут отпускал витцы, которыми он славился.
– Слава Богу, что я не был знаком с Николаем Бестужевым раньше, – сказал он своему адъютанту. – А то он непременно втянул бы в это дело и меня!
Председатель комиссии, граф Татищев, мало вмешивался в ход дела и только изредка останавливал особенно бойких либералистов каким-нибудь дельным замечанием:
– Вот вы, господа, все читали Бентама там, и Бенжамен Константана какого-то, и Монтескье, – говорил он. – И вон куда угодили, а я всю жизнь ничего, кроме Священного Писания, не читал и – не угодно ли?
И он указывал на многочисленные звезды, освещавшие всю его грудь.
Несмотря на это, иногда либералисты доставляли комиссии неприятные минуты, как было, например, когда Муханов напомнил Голенищеву-Кутузову его участие в убийстве Павла. Нарывался иногда и сам царь – может быть, поэтому некоторых из арестантов и приводили к нему связанными. Но и связанные, они причиняли его величеству неприятности.
– Вы знаете, что все в моих руках… – сказал царь Николаю Бестужеву. – Если бы я мог быть уверен, что буду иметь в вас верного слугу, я простил бы вам.
– В том-то и несчастье, ваше величество, – отвечал арестант, – что вы все можете сделать. Я желал бы, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел не от вашей угодности, а только от закона…
Когда привезли во дворец измайловца Норова, который оборвал Николая, когда тот, забывшись, взял его за пуговицу, царь злорадно закричал:
– Я наперед знал, разбойник, что ты тут будешь! Мерзавец, каналья, сукин сын!..
Норов – очень страдавший от ран, полученных под Кульмом, – хладнокровно скрестил на груди руки и с презрением смотрел на венценосца. У того дыхание от бешенства перехватило.
– Что же вы стали? – презрительно сказал Норов. – Продолжайте… Ну-ка?..
Николай затрясся.
– Веревок! – не своим голосом крикнул он. – Связать его, каналью!
Присутствующий при этом командир гвардейского корпуса, генерал Воинов, вышел из себя.
– Да помилуйте, ваше величество!.. – вскричал он. – В конце концов не съезжая!..
Он схватил Норова за руку и вытащил его из кабинета…
В соседней комнате ждал своей очереди полковник Булатов. Услыхав бешеный крик царя: «веревок!..», он затрясся всем телом: он думал, что это для него. Но царь, успокоившись, встретил его очень дружественно, называл своим товарищем и – снова отправил в Петропавловку.
Декабристы в своих показаниях глубоко задевали Николая и всех его окружающих небожителей. Они с колыбели дышали ложью, что Он – с большой буквы – помазанник Божий, а они – избранники этого божественного помазанника, блюдущего свою страну по милости Божией. А декабристы эту паутину лжи беспощадно рвали. Никакой Божией милости не оказывалось, а в основе всего была только – картечь… И нужно было скорее все зачинить, все утвердить и одурманиться фимиамом древней лжи…
И он чинил. Фельдъегеря и жандармы носились по всей России, везде днем и ночью хватали людей, и Николай, забыв обо всем, сам рассылал их по крепостям, причем в сопроводительной бумаге всегда сам, по зрелому обсуждению дела, указывал, как именно содержать страшного преступника: кого в железах только на ногах, кого на руках и на ногах, а то вдруг проявлял и монаршую милость: «давать ему чай и все прочее, но с должною осторожностью». Чай его величество считал, по-видимому, особенно ценным лакомством. Так в резолюции о кавалергарде Свистунове он собственноручно, хотя и не совсем грамотно, начертать соизволил: «посадить в Алексеевский равелин, дав бумагу и содержа строго, но снабжая всем, что пожелает, т. е. чаем». На письме Батенькова из крепости он собственноручно начертал: «дозволить писать, лгать и врать по воле его»… Ночи столицы были полны неиссякаемой скорби и слез, и воплей, но Николай безмятежно смотрел из огромных окон Зимнего дворца на хищно прижавшуюся к воде крепость, где томились его враги – только ноздри его трепетно раздувались…
Крепость была переполнена: цвет гвардейских полков и аристократии – тогдашний цвет интеллигенции – в цепях томился там среди мук физических и нравственных. Тяжесть их положения смягчали отчасти деньги их родных. В тюрьме продавалось все, не только сторожа, но и офицеры. За деньги можно было осторожно снестись даже со своими близкими, оставшимися на свободе. Для сношения один с другим заключенные прибегали к перестукиванию, а то к пению: кто-нибудь пел свой вопрос, обращенный к товарищу, по-французски, а тот через некоторое время также по-французски пел свой ответ. Сторожа, конечно, не понимали этих вокальных упражнений, а если и догадывались, так не препятствовали. Но тихая, едва уже заметная могилка княжны Таракановой, дочери царицы Елизаветы от графа Разумовского, утонувшей здесь в казематах во время наводнения, напоминала заключенным, что цари с неудобными для них людьми расправляться умеют. И именно здесь, в Алексеевском равелине, убил Петр своего сына…
Было мучительно тяжко. Один из заключенных, кавалергард Свистунов, несмотря даже на разрешение его величества пить чай, наглотался битого стекла. Некоторые, как Сергей Кривцов, кропали подленькие стишки в надежде, что они попадут куда следует:
За мнимое непокорство
Здесь страдаем день и ночь,
Мы зеваем без притворства
И вздыхаем во всю ночь:
Какая тоска!
Как постелюшка жестка!..
Кто не знает нашу участь,
Не поверит тот никак,
Чтобы за минутну глупость
Могли мучиться мы так…
Какая тоска!
Как постелюшка жестка!..
Трезвый, положительный Батеньков первым стал обнаруживать признаки душевного расстройства. Неладное творилось и с полковником Булатовым. Его до дна души сотряс слух, что все солдаты, бывшие на площади, будут казнены. А там были ведь и его лейб-гренадеры, и он вот в этом как-то, оказывается, виноват!.. Он окончательно потерял всякую власть над своими мыслями, и они бешено крутились теперь в его мозгу, как голуби среди дымных туч пожара. Вот уже восемь дней он отказывался от пищи – такие ужасные преступники не достойны есть! – и ни ласки, ни угрозы не могли заставить его изменить своего решения. Так как ему всемилостивейше разрешено было писать, то он целые дни корпел над бумагой: во-первых, ему нужно было для самого себя привести все в ясность, понять, как мог он, верный служака, попасть в это положение, а во-вторых, из всех этих ужасных невероятных событий извлечь хоть какую-нибудь отечественную пользу… Он знал, что смерть близко, – в таком бесчестии и ужасе, естественно, он жить не будет… – и торопился все закрепить на бумаге, которую он уже решил переслать великому князю Михаилу Павловичу, не терпевшему никаких бумаг…
Потирая лоб, он перечитал несколько последних строк и лихорадочно продолжал:
«…Большая часть народа желали в то время царствующего Государя Цесаревича Константина, боялись только одного, что он будет окружен поляками. Ныне царствующему Императору Николаю Павловичу преимущества в толках публики пользы не было, ибо вместо поляков думали видеть возле русских прусаков, и публика отдавала справедливость в любви к русскому народу Его Императорскому Высочеству Михаилу Павловичу. На щот короны было говорено много злого, что корона русская ныне подносится, как чай, и никто не хочет…»
Ничего не видя, он пробежал по тесной клетушке своей несколько раз и сел снова за рукопись. Рассказав, как он вступил в этот заговор единственно для пользы отечественной, – «а какая польза, я не слыхал и до сего времени», пояснил он, – он стал подобно рассказывать о своих семейных неприятностях, которые привели его в Петербург, в суд, к чиновникам в лапы, и – в заговор товарищей-офицеров. И он пояснил свою мысль: «товарищами я называю из нашей партии только тех, которые обмануты, как и я, и которые стремились к пользе отечества, а те, которые хотели истребить законную власть и подлыми изобретениями войти в правление государством, а, может, и на Трон Российский, те – подлые и бесчестные люди, которым осталась одна тюрьма надеждою, могут ли они назваться товарищами благородного заговорщика?.. Напрасно Трубецкой хочет владеть народом – во мне он имеет врага, и этого довольно…»
Над пылающей головой его, в которой была невыносимая теснота от мыслей, проиграли куранты. Но он не слышал и не видел ничего. В погоне за мыслями, за порядком в них, он метался из угла в угол по крошечной камере. И снова торопливо присел к столику.
«Прощаясь очень хладнокровно с братом моим, – писал он, – я имел несчастье похвастать ему, что естли я буду в действии, то и у нас явятся Бруты и Риэги, а, может быть, и превзойдут даже тех революционеров. Имена сии я не так хорошо знал по их делам, как по беспрестанным произношениям меньшого брата моего. Но он не был дома и ездил в опекунский совет для получения денег по собственным нашим надобностям…»









































