Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
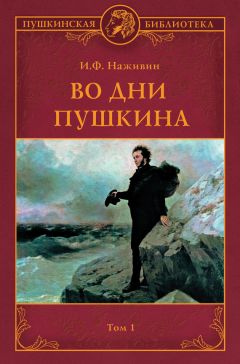
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXXII. Расправа
Издевательства над арестованными продолжались без конца. Глухо говорили, что некоторых даже пытали. Особенно тяжко было в крепости для тех, кто, как дерзкий Норов, страдал от старых ран. В каждой амбазуре были построены клетки из сырого леса, и в этих-то клетках и содержали обвиненных. Они были так тесны, что едва доставало места для кровати, столика и чугунной печи. Когда печь топилась, то клетка наполнялась непроницаемым туманом, так что сидя на кровати нельзя было видеть двери на расстоянии двух аршин. Но лишь только закрывали печь, то в клетке подымался удушливый смрад, а со стен вода лилась потоками, так что за день выносили до двадцати тазов. Флюсы, ревматизмы, страшные головные боли и пр. были следствием такого положения, и в этом смысле пытка была непрерывная. Кормили скверно, так как начальство страшно воровало.
Не менее тяжелы были страдания моральные. Измученных людей Николай мучил еще и еще, запутывал, заставлял выдавать товарищей и пить горькую чашу унижения до дна. Батюшки из всех сил помогали начальству и на исповеди старались вымотать от измученных людей то, что они из последних сил скрывали пред следственной комиссией из генералов… И наверху долго колебались: как судить изменников? Если судить по существующим законам, то смерти подлежали бы только те, кто были взяты с оружием в руках. Этого было слишком уж мало. Тогда решили было судить по регламенту Петра I. Но в этом случае смертной казни подлежали бы даже и те, кто, зная о заговоре, не донесли о нем начальству. Это было, к сожалению, невозможно: таких людей оказывались тысячи. А задавить своих жертв без всякой комедии у главного комедианта не хватало мужества. И вот была придумана какая-то судебная отсебятина, в которой были попраны не только человеколюбие, но даже самые элементарные формы правосудия. Николаю деятельно помогали все те, которых успех восстания заставил бы сложить свои титулы, звезды и теплые местечки и удалиться прочь, подобно актерам по окончании неудавшейся пьесы…
И вот вельможи в лентах и звездах в самой торжественной обстановке мудро назначали одним четвертование, другим отсечение только головы, третьих присуждали к «политической смерти», которая состояла в том, что осужденный должен был положить голову на плаху на короткое время, а потом его ссылали в каторжные работы навсегда, четвертым назначались каторжные работы просто и пр. Некоторых, как сыновей князя Витгенштейна, тронуть не посмели совсем, и другие нашли сильных заступников и от суда отвертелись, – как М.Ф. Орлов, которого за его грехи сослали в деревню. А некоторые, как молоденький сын фельдмаршала Суворова, были даже произведены в офицеры.
Старенький адмирал Шишков, специалист по красноглаголанию, министр народного просвещения, протестовал против неправильностей и произвола в процессе и даже покинул зал заседаний. Николай снисходительно заметил: «Старик выжил из ума…» Тринадцать человек из судей отказались подписать смертную казнь. Члены синода, батюшки, прибегли к обычной уловке: они заявили, что, хотя подсудимых они и считают достойными смертной казни, но священный сан их, батюшек, воспрещает им пролитие крови и потому препятствует подписанию ими приговора.
– Тут недостает главнейших заговорщиков… – сердито пробормотал великий князь Михаил. – Первым осудить и повесить следовало Михайлу Орлова…
Николай, важно наморщив белый лоб, несколько смягчил приговор: кому заменил четвертование веревкой, кому отсечение головы – бессрочной каторгой, вместо двадцати лет назначил пятнадцать и т. д. Он был доволен собой: и победа по всему фронту, и высочайшее милосердие в полном блеске… Но все же пятеро – Сергей Иванович Муравьев-Апостол, поднявший эфемерное восстание в Черниговском полку, М.П. Бестужев-Рюмин, совсем зеленый мальчуган и неумный говорун, командир Вятского полка П.И. Пестель – он, кажется, был старше всех: ему было уже тридцать три года, – поэт К.Ф. Рылеев и, наконец, жалкий, сирый, нелепый П.Г. Каховский – были приговорены к смертной казни…
Наступило 12 июля. На другой день была назначена казнь. Страшная тюрьма затихла в торжественной тишине. Караульные солдаты ходили на цыпочках, говорили шепотом… Было страшно.
Старый Пестель замер на пороге камеры, в которой содержался его сын. Глядя на этого маленького кругленького толстяка, никто не подумал бы, что это знаменитый своей жестокостью и всяческими безобразиями сибирский генерал-губернатор. Государственные соображения требовали, чтобы при свидании этом присутствовал комендант крепости, дряхлый генерал Сукин, человек с деревянной ногой и с еще более деревянной душой, которого солдаты промежду себя тихонько звали сукиным… сыном. И сейчас же вошел протестантский пастор Рейнбот. Очень религиозный, Пестель – он все мечтал, устроив благоденствие России на основах своей «Русской Правды», принять в Невской Лавре схиму – был спокоен.
– Помните слова Спасителя кающемуся разбойнику… – не совсем удачно начал свое утешение пастор. – «Сегодня же будешь со Мною в раю…»
Пестель вдруг пал на колени и стал молиться. За последнее время он очень похудел. Большие зубы его казались теперь еще больше из-за точно ссохшихся губ. Он часто молился и все напряженнее вглядывался в загадочный лик уже уходящей жизни. И всего более поражало его, что в это страшное положение он попал как бы совсем против своей воли.
Он давно уже начал сомневаться в своем деле: и людей было мало, и не было согласия, и не было денег, и слишком огромна была та громада, которую они решили атаковать. За какой-нибудь месяц до восстания он решил отправиться в Таганрог, чтобы принести повинную голову, с тем намерением, чтобы Александр сам взял на себя разрушить все эти тайные общества дарованием тех прав гражданам российским, которых общества добивались путем заговора. И вот, внезапно и против его воли вспыхнувшее восстание привело его теперь – на эшафот… И твердый, спокойный, прямолинейный Пестель ясно чувствовал теперь над своей побужденной головой веяние каких-то таинственных, непреоборимых сил, и, полный глубокого и неизъяснимого волнения, он долго и горячо молился.
Рылеев казнился в своей клетке более всего тем, что он, столько говоривший о цивических добродетелях, так плохо держал себя на допросах: ни Брут, ни Риэго не помогли ему в трудные минуты! И многое мучило его теперь бессонными ночами. В особенности один факт ныл в его душе, как больной зуб. Это было еще тогда, когда он был маленьким кадетиком. Он и тогда уже бредил любовью к отечеству и к обожаемому монарху. И отечество, и монарх, и даже сам он – все было фантастическое, выдуманное и невыносимо чувствительное, в тогдашнем стиле. Наступил 1812 год, и, заброшенный отцом, суровым подполковником, служившим за недостатком средств управляющим у княгини В.В. Голицыной и нещадно поровшим мужиков, юноша написал этому суровому воину такое письмецо: «Любезнейший родитель, я знаю свет только по одним книгам, и он представляется моему уму страшным чудовищем, но сердце видит в нем тысячи питательных для себя надежд. Там рассудку моему представляется бедность во всей ее обширности и горестном ее состоянии, но сердце показывает эту же самую бедность в златых цепях вольности и дружбы… Там в свете ум мой видит ряд непрерывных бедствий и – ужасается. Несчастья занимают первое место, за ними следуют обманы, грабежи, вероломства, разврат и так далее… Так говорит мой ум, но сердце, вечно с ним соперничествующее, учит меня противному: иди смело… Презирай все несчастья, все бедствия, и, если они настигнут тебя, то переноси их с истинною твердостью, и ты будешь героем, получишь венец мученический и вознесешься превыше человеков! Тут я восклицаю: «Быть героем, вознестись превыше человечества!.. Какие сладостные мечты! О, я повинуюсь сердцу!..» Он непременно хочет защищать царя и отечество и у «виновника своего бытия» просит… полторы тысячи, чтобы купить рейтузы, кивер с кишкетами, шишак, конфедератку, шарф серебряный и проч., а также и для того, чтобы нанять учителя «биться на саблях…» И седой подполковник ответил ему: «Ах, любезный сын, сколь утешительно читать от сердца написанное, буде то сердце во всей наготе неповинности откровенно и просто, говоря собственными его, а не чужими либо выученными словами. Сколь же, напротив того, человек делает сам себя почти отвратительным, когда говорит о сердце и обнаруживает при этом, что оно наполнено чужими умозаключениями, натянутыми и несвязными выражениями, а что всего гнуснее, то для того и повторяет о сердечных чувствованиях часто, что сердце его занято одними деньгами…» И это письмо старика отца и теперь горело на лице его, точно пощечина…
И он, и бедная, вся от слез ослабевшая Наталья Михайловна до самой последней минуты не верили в страшный конец: «Неужели ты отчаиваешься в милосердии Государя? Ведь Он сам супруг, отец и правосудец!..» Но супруг, отец и правосудец всемилостивейше повелеть соизволил задавить и Рылеева. И, надеясь, может быть, что последнее, прощальное письмо его к жене попадет в руки царя и смягчит его сердце, Рылеев только что написал ей: «Бог и Государь решили участь мою: я должен умереть смертию позорною. Да будет Его воля!.. Мой милый друг, предайся и ты воле Всемогущего, и Он утешит тебя… За душу мою молись Богу. Не ропщи ни на Него, ни на Государя…» и т. д. И, как Пестель в молитве, он ищет сил в своих стихах. Бумаги нет у него, и он использует для этого металлические тарелки, из которых их кормили:
Тюрьма мне в честь, не в укоризну, –
пишет он, –
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Коли ношу их за Отчизну!..
Начальство, заметив, что арестанты употребляют тарелки для писания, заменило их глиняными. Тогда Рылеев, достав как-то кленовые листья, царапает на них свое последнее стихотворение, в котором он все тешит себя старой сказкой: еще немного, и он, «как Моисей на горе Навав, увидит край обетованный…» Но в душе точно зуб больной ныл нестерпимо…
Но спокоен был кроткий и обаятельный Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Его отец, старый дипломат, – он был посланником в Испании – огорчился, увидев при свидании сына в изорванном и окровавленном сюртуке, в котором его, раненого, взяли в плен.
– Я пришлю тебе другое платье… – сказал он.
– Благодарю, не нужно… – отвечал сын. – Я умру с пятнами крови, пролитой за благо отечества…
Много видевший в жизни старик только тихонько вздохнул…
Бедный Каховской маялся на своей жесткой койке и стонал от стыда и отвращения к себе, к людям, ко всей жизни. Сам царь обманывал его все время, как ребенка, как самого последнего дурака! Каховскому показалось, что с царем лучшая политика – это политика рыцарская: полная, мужественная правда. И обыкновенно молчаливый Каховский начал горячо, картавя, говорить о тяжелом положении России. Царь подавал сочувственные реплики, что еще более поддавало жару патриоту. А когда Николай прослезился и заявил, что он сам «есть первый гражданин отечества», Каховский сразу был взят в плен и перед ним открылись прямо сияющие горизонты. «Государь, – писал режицида из царской тюрьмы, – я не умею, не могу, не хочу льстить: со вчерашнего дня я полюбил Вас, как человека, и всем сердцем желаю любить в Вас моего монарха, отца отечества…»
И он точно в какую-то черную пропасть покатился. Узнав, что его товарищи не выдержали и сказали все, что, мало того, они как бы отделили себя от него, он загорелся ненавистью к ним и в свою очередь залил их своим презрением и негодованием и еще больше прицепился сердцем к этому великану с белым лицом и холодными голубыми глазами, и, корчась, раздавленный, в грязи своих показаний, он все искал спасения в пышных словах. «Государь, – пишет он, – от Вас зависит благоденствие наше, мы Вам вверены. Я отдаюсь Вам, я Ваш. Есть Существо, проницающее в изгибы сердец человеческих, Оно видит, что я говорю Вам истину: я Ваш. И благом отечества клянусь, я не изменю Вам. Мне, собственно, ничего не нужно. Мне не нужна и свобода. – все более и более пьянел он от собственных слов, магическая сила которых на время может заворожить всякого, – я и в цепях буду вечно свободен. Тот силен, кто познал силу человечества. Честному человеку собственное убеждение дороже лепета молвы. Я не говорю за себя. Государь, есть несчастные, которых я увлек, – спаси их, великодушный монарх».
Но не Николая можно было поймать на всех этих выспренностях. И вот на голову Каховского камнем упал смертный приговор, и он корчился теперь, жалкий, в своей собственной блевотине, зная, что все его, неудачника, сирого на сем свете, презирают за его самоунижение, а в особенности за бесцельность этого самоунижения, за его бесплодность…
Он изнемогает… А рядом молоденький, зелененький Бестужев-Рюмин все плакал, так, как плачут дети. Этот-то уже решительно ничего не понимал: было все так интересно, благородно, возвышенно и вдруг – петля!..
А за окном ворожила волшебная белая ночь…
И вдруг – зловещий, перекатный бой барабанов. То в крепость стягивались первые роты от всех полков, а от кавалерийских шли, звонко цокая копытами, первые эскадроны… Без соответствующей помпы задавить живого человека слишком уже страшно.
Всех осужденных – кроме смертников – вывели на крепостную площадь. Там полыхали уже в светлой, тихой ночи огромные костры. Угрюмые крепостные здания, собор и деревянная церковь Троицы точно содрогались в бледно-золотых всплесках пламени. Угрюмо стояли войска. Влево зловеще чернела виселица, прочность которой только что испробовал сам петербургский генерал-губернатор Кутузов: на веревки подвешивали мешки с песком по восьми пудов весом. Вышло очень хорошо…
Осужденных выстроили, и кто-то прочел в сладкой тоске светлой ночи приговор. Михаил Лунин, кавалергард, богач и красавец, отказавшийся бежать заграницу, как предлагал ему его приятель, великий князь Константин, кивком головы одобрил приговор и сказал громко:
– Très bien! Mais la belle sentence doit être arrosée, messieurs![58]58
Превосходно! Но прекрасный приговор надо спрыснуть, господа… (фр.).
[Закрыть]
И, отвернувшись немножко в сторону, проделал то, что предложил. Он всегда своим мужеством и дерзостью изумлял всех…
Но государственная машина продолжала свое дело. Со всех военных тут же сорвали мундиры и ордена и бросили все это в костры. В свежем ночном воздухе поднялась вонь. Потом всех осужденных поставили на колени. Фурлейт со шпагой в руке подошел к крайнему – это был И.Д. Якушкин – и для того, чтобы переломить шпагу, ударил ею Якушкина по голове. Хотя шпага для важной церемонии этой и была подпилена, но она не сломалась, и Якушкин, весь в крови, упал. Окровянили и раненую голову Якубовича. Кутузов не мог удержать смеха над нелепостью фурлейта. Николай Оржицкий, незаконный сын графа Разумовского, с гримасой боли на лице бросился к фурлейту и показал ему, как именно надо ломать шпаги. Дело пошло спорее. И, когда все было кончено, осужденных, уже в арестантской одежде, под крепким караулом повели обратно в казематы… Вдали, на Троицком мосту, – было видно, как днем – стояли какие-то женщины, приложив белые платки к поникшим лицам: плакали…
И вдруг в толпе арестантов взорвался смех: Якубович в высокой офицерской шляпе с султаном, в ботфортах, с важностью завернулся в жалкий коротенький арестантский халат и торжественно-театральным шагом выступал впереди всех… Начальство неодобрительно косилось на фарсера и на его смеющихся товарищей, которые смеялись не потому, что было смешно, а потому, что было очень трудно…
Очередь была за смертниками.
Оказалось, что прежде, чем их повесить, им нужно было на ноги надеть кандалы. Потом нужно было их причастить… И все они покорно исполняли все это, точно все это так действительно и нужно было делать. Все, кроме Бестужева-Рюмина, были наружно спокойны. А мальчик то тихо и мучительно стонал, то, бессильно уронив голову, качался из стороны в сторону в смертной истоме, то поднимал в небо страшные глаза. Потом облачили всех их в белые саваны и повели по фронту войск. На груди у каждого была дощечка, а на ней надпись: злодей-цареубийца… Кандалы их тихо позвякивали…
Светлая, тихая, ласковая ночь… Золотые отсветы догорающих костров на стенах. И так упоительно пахнет водою и далью… И страшными шагами, шатаясь, из последних сил поднялись они на помост, и палач накинул им всем на шею жесткие веревки. Они все еще надеялись, все еще ждали гонца от царя, который, задыхаясь, ворвется вот сию секунду в крепостные ворота и, махая листом бумаги над головой, остановит казнь: они все читали что-то там такое где-то там такое… Но палач, отбежав в сторону, разом опустил помост. И одни очевидцы видели, что с веревки сорвался один, другие, что два, третьи, что три…
В таких случаях обыкновенно казнимым даруется помилование, но совершенно потерявшие голову генералы с трясущимися челюстями, блудные, с сумасшедшими глазами приказали хриплыми голосами вешать скорее опять. И – тихо покачиваясь в светлой ночи, все пятеро затрепетали в последних судорогах…
«Коль сла-а-авен на-а-аш Госпо-о-одь в Сио-o-не… – нарядно запели ряды светлой гладью куранты. – Не мо-о-ожет изъясни-и-ить язы-ы-ык…»
…
Николай был все утро нехорошо взволнован, бледен и угрюм. По церквам уже шли с утра молебствия, и батюшки умиленно возглашали:
– Еще молимся о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедание и благодаренье нас, недостойных рабов своих, яко от неистовствующие крамолы, злоумышлявшие на ниспровержение веры православные и престола и разорение Царства Российского, явил есть нам заступление и спасение свое…
Но и моления не помогали: сумрачен был Его Величество. Фельдъегерь Чаусов примчал ему французское донесение генерал-адъютанта Дибича о том, что все свершилось, что scélérats[59]59
Злодеи (фр.).
[Закрыть] истреблены, и он отвечал Дибичу: Je bénis Dieu de се que tout soit fini heureusement[60]60
Благословляю Господа, что все так хорошо кончилось (фр.).
[Закрыть]. Но, поджидая генерала Чернышева с устным докладом о событии, он заниматься не мог. И, взяв своего пуделя, он пошел с ним в парк. Подойдя к пруду, он бросил в воду свой платок и приказал собаке достать его. Пудель с веселым лаем достал платок, и царь, развлекаясь, бросал его в воду опять и опять… И вдруг за спиной раздался малиновый звон шпор.
– Ваше величество, из Петербурга прибыл генерал-адъютант Чернышев…
Николай бросил пуделя и своим широким, железным шагом направился в сопровождении почтительного адъютанта – тот все слушал свои шпоры – во дворец. На бледном лице его с крепко сжатыми челюстями что-то трепетало. Генерал Чернышев, тоже бледный, доложил ему, что все кончено, и не забыл отметить закоснелость и грубость чувствований осужденных. Николай хмуро выслушал все подробности и кивком головы отпустил генерала. Он облегченно вздохнул своей широкой грудью…
Главное препятствие в головоломной скачке жизни, казалось ему, было взято, le contrat social[61]61
Общественный договор (Руссо) (фр.).
[Закрыть] с его любезными верноподданными подписан накрепко, и теперь пред ним был уже, думал он, ровный, широкий путь к могуществу, славе и всем тем радостям жизни, который может дать ему его исключительное положение Императора и Самодержца Всероссийского. Он испытал потребность возблагодарить Создателя за Его неизреченные милости и тут же прошел в домовую церковь. Помолившись там, сколько полагается, он, чувствуя себя уже увереннее, своим широким, твердым шагом направился в покои императрицы, чтобы сообщить ей важное известие.
В самых дверях ее он столкнулся с ее молоденькой фрейлиной, Александрой Осиповной Россет, хорошенькой смуглянкой с огромными огневыми глазами. Она была бледна и встревожена, но, увидев царя, сразу расцвела в прелестной улыбке и склонилась пред ним в глубоком реверансе.
– Ah, ç’est vous!.. – милостиво улыбнулся он. – Quel heureux présage![62]62
А, это вы! Какое счастливое предзнаменование… (фр.).
[Закрыть]
Она очаровательно покраснела. Метнув холодными голубыми молниями своего взгляда вокруг, Николай легонько пощекотал ее своими большими пальцами по хорошенькой шейке и, высоко неся свою красивую голову, широкими, железными шагами направился к императрице…
Но и он, и Михаил, и все чувствовали себя весь день хмуро, тревожно. А вечером офицеры-кавалергарды дали на Елагином острове блестящий праздник с ослепительным фейерверком в честь своего нового шефа, императрицы Александры Федоровны, картофельницей именуемой. Музыкой и треском потешных огней они хотели рассеять тяготивший всех кошмар и показать новому монарху свою глубокую преданность… Начальство пажеского корпуса, исполненное верноподданнической преданности, приказало вдребезги разбить ту мраморную доску, на которой золотыми буквами было выписано имя Пестеля, как одного из самых блестящих учеников корпуса…









































