Текст книги "Во дни Пушкина. Том 1"
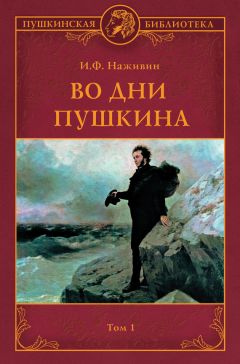
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Он чувствовал, что путается, что в голове его неимоверная теснота и спешка, что никак не может он дать ясной и точной картины того кошмарного дня, когда впервые он почувствовал себя во власти каких-то страшных черных сил. Он валил в одну кучу все: как метался он по взбаламученному городу, как говорил он с Рылеевым, как прощался со своими «малютками», – «меньшая покоилась ангельским сном», с нежностью вспомнил он, – как не спал всю ночь, как молился, как писал прощальные письма, как утром подарил своему слуге вольную и деньгами двести рублей, как с кинжалом и револьвером понесся на Сенатскую площадь… И, чтобы успокоиться, он снова, ничего не видя, пометался по камере и, присев, вписал на полях пояснение своих отношений к братьям:
«Братья мои были оба недовольны прахом отца нашего: лейб-гренадер за то, что отец мой, не быв в состоянии по загражденному пути к покойному Государю себя оправдать, не доставил ему при Государе Императоре флигель-адъютантского звания, а оба за то, должно думать, что отец разделил имение между тремя нами, а не на две части между их. Они не исполнили священного завета отца, ругали и поносили в гроб почивающие священные останки, давшие нам жизнь, и ненавидели единокровного брата их, присутствие которого их ужасает…»
И он перескочил туда, где остановился раньше, перечитал горящие строки, глубоко вздохнул и приписал заключение:
«Из объяснений моих, Вы, Ваше Высочество, изволите увидеть, как далеко завела меня отечественная польза…» Непокорные мысли разлетались во все стороны. Он в отчаянии понял, что объяснить свое преступление ему не удалось. Но это было теперь уже неважно – важно было теперь, в эти последние часы жизни, только одно: принести уже самостоятельно, в одиночку, ту отечественную пользу, которая была так всегда близка его прямому и верному сердцу. И вот, совсем забыв о оправданиях себя, полковник с дикими глазами снова забегал на уже шатающихся от голода ногах по камере. Теперь шло самое главное. Надо собрать все свои силы, чтобы открыть глаза всем. И, снова присев к столику, полковник начинает излагать «в коротких словах рапорт народа против блаженной памяти покойного Государя Императора Александра Павловича и для предостережения от всякого зла ныне царствующего благочестивейшего Императора Николая Павловича я долгом верноподданнейшего считаю открыть:
I. – Ропот народа – истинная правда и новое мое преступление: говорить правду есть преступление. Государь во всем государстве должен быть один, и народ присягает одному Государю, а не любимцам его. При покойном Государе Императоре граф Алексей Андреевич имел власть самого Государя распоряжать участью людей, и как по свойству души своей не склонен к добру, то и нет примера, чтобы кому-нибудь сделать добро, но сосланных в Сибирь и сидящих в Шлиссельбургской крепости и даже неизвестных будто и покойному Государю очень много, на каковые ссылки граф имеет бланки за подписью руки покойного Государя, каковые имеет даже и Клейнмихель по милости графа Алексея Андреевича. Ропот народа естли справедлив, то уничтожить, естли ето одни слухи, уничтожить и вредные слухи: они делают зло…»
Во втором пункте он обрушился на военные поселения, в третьем опять возвратился к Аракчееву, который не помог его отцу в беде и даже не доложил об этой беде государю. «А я по крайней мере умру с большим удовольствием: меня поцеловал, и не раз, сам Государь и еще удостоил названия «товарищ». Нашему брату, армейскому, никакою службою не заслужить такого счастья, а я заслужил преступлением». В четвертом пункте он изложил свой взгляд на сенат: «Уровняйте в Правительствующем Сенате весы правосудия. Чья мысль, чтобы генералов, неспособных ни к военной, ни к статской службе (молва народа), сажать за сенаторский стол, которые занимают место для одного счету, точно так, как офицеров и нижних чинов во внутреннюю стражу по неспособностям переводят. И потому Сенаторы в Сенате рассуждают не все, а судят только те, которые поумнее, а прочие делают, что хотят, только не курят трубок, а спят многие… Сенат наш не что иное, как торговое место… Многие просители, имея в Правительствующем Сенате дело, теряют значительную часть имения, а я потерял все и вместо памятника, желаемого мною воздвигнуть на могиле отца моего, и имя его предал посрамлению (т. е. задержавшись в Петербурге и запутавшись с заговорщиками). Кто из нас иль много ли таких, которые имеют чистую совесть? Государь очистил ужаснейшему злодею своему совесть, – пусть избавит Государь от расхищения скрытных грабителей верноподданный народ свой и присутствием ангельским своим (в Сенате) очистит совесть судей народа и пакошников своих. Судьи обирают, а ропот на Государя». Потом, в пункте пятом, полковник восставал против «вредных законов», от которых так пострадала его семья и он сам, и умоляет: «Пусть Государь берет пример с праотца своего Петра и не злобствует на того, кто говорит правду: князь Долгорукий изорвал указ, подписанный Петровой рукой. Тот истинный любимец государев был, русской, любивший отечество и народ». В пункте шестом длинно доказывал, что «форшмейстеры – государственное зло», в седьмом резко обличал «винную часть», а в восьмом – часть военную: «во фронте офицер, – говорил он между прочим, – должен быть исправен, вне службы пусть ищет удовольствий в хороших домах, танцует, играет для препровождения с благородными людьми на благородном театре и делает все, что только прилично благородному человеку в мундире и без мундира: через то избавится дурных обществ…» И он кончил этот пункт словами: «Исходатайствуйте, Ваше Императорское Высочество, хоть малое облегчение нижним чинам у Государя Императора, и тогда увидите, как велика будет благодарность верных сынов отечества своему Государю». В пункте девятом он осуждал «фурштат», а в десятом развенчивал мысль, что «Государю нужна любовь сердечная, а не наружная», и писал: «Римский император Троян уподоблял свой сан солнцу, говоря сими словами: Государь подобен солнцу и должен собой освещать все государство. Выражение достойно Государя, но где солнце слишком жжет, там народ для избавления зноя остается в одних рубахах и там избавляет себя от нестерпимого жара. Солнце закатится, и народ опять накидает на себя обувь без всякой потери имущества. Блаженной памяти покойный Государь Император Александр Павлович, объезжая пределы России, находил везде внутри своего государства большое устройство и порядок: в проезд мчатся на быстрых конях по отлично устроенным, окопанным и по бокам обсаженным деревьями дорогам, проезжал ли деревню, встречались домики чистые, обкопаны канавками, усажены березками и даже некоторые выкрашены, въезжал ли в город и всякой удивлялся, и как будто в волшебные времена вновь город родился. Народ, кажется, с усердием для приезда царя состроил новый храм для приема драгоценнейшего своего гостя, и при первом появлении его раздаются без умолка крики «ура». Шапки летят вверх, город весь в огне. И Государь в восхищении, радуется благу своего народа. Проведя несколько дней для осмотру войск, в свободную минуту едет обозреть город, любуется всем и, оставшись всем довольным, осыпает всех служащих милостями и отъезжает спокойно, не зная того, что все им видимое совершенный обман и ничего нет искреннего сердечного. Та гладкая дорога, по которой мчался так шибко Государь, обоготя земскую полицию, оставила некоторых крестьян на следующий год без хлеба, слегка подкрашенные дома стоят издержек и представляют людей с дурною фигурою под прелестным личиком маски. Желательно было бы, чтобы два дня помочил дождь и смыл бы слегка наброшенную краску, тогда бы открылись скрытые под прелестными масками обезображенные фигуры и город представился бы в своем виде. Вместо же тех рукоплесканий, которые бывают при встрече, желают скорее избавиться присутствия Государя, вместо бросаемых шапок при въезде государь повезет тьму просьб на местное начальство и вместо казавшегося народа довольным при виде Государя остается надолго издержавшегося без всякой пользы народа ропот…»
И длинное рукописание для отечественной пользы полковник закончил мольбой о некоторых милостях: о покровительстве двум дочуркам, одной шести лет, другой четырех, мать умерла, на руках у семидесятилетней бабки, об отпуске его самого под честное слово до суда для устройства дел семейных и полковых, а если нельзя, то хотя на два дня, в-третьих, чтобы бабке и деткам было разрешено навещать его, в четвертых, – голова замутилась туманом – чтобы брили его в тюрьме острой бритвой, а не тупой: «Бритвою тупою бриться можно, – поясняет он, – но имею о себе такое мнение: больно…» Но всего главнее – это освободить от наказания лейб-гренадеров и Якубовича, а иначе он наложит на себя руки: в этом его вина, если они погибнут!..
Он бросил перо и облегченно вздохнул. Но вспомнил, что надо еще подписать. И он, обмакнув перо, старательно вывел внизу: «Вашего Императорского Высочества душою преданный преступник Булатов».
Куранты вверху заиграли нарядно «Коль славен наш Господь в Сионе…» Он вскочил. В глазах светился ужас. От невероятного позора спасти его может только смерть. Дикими глазами он осмотрелся вокруг, с мучительным стоном схватился за поседевшую в последние дни голову – ему было только тридцать два года – и вдруг, весь сжавшись в комок, хватил пытающей головой о толстую каменную стену и упал, и поднялся, и снова, рыча от боли душевной, ударил из всех сил головой о стену, и с глухим стоном упал на каменный пол, и – затих. Горячая, темная кровь медленно расползалась лужей вокруг седой головы…
В ночь из равелина, полуживого и сумасшедшего, его отвезли в сухопутный госпиталь. Он умирал. Перед самой смертью сознанье его вдруг просветлело, и он попросил милости: повидать своих малюток. Государь Император всемилостивейше разрешить соизволил допустить к умирающему его деток. Они, робея, вошли в его комнату и вдруг увидали: навстречу им какой-то чужой старик с белой головой и страшными глазами протягивает иссохшие, дрожащие руки и дрожащими губами силится что-то сказать… В ужасе девчурки завизжали и бросились назад… И полковник одним движением отвернулся к стене и, весь трясясь от рыданий, страшно завыл… В ночь он умер…
XXIX. Новая виктория
Вкруг тихого Михайловского цвела, пела, смеялась весна, но Пушкин изнемогал душой среди этого рая. Опасность быть взятым, как ему казалось, миновала, и опять ему стало казаться, что хорошо на свете всюду, только не здесь. Пусть друзья его томились в страшных казематах, в цепях, он все же никак не мог побудить в себе ликующей радости, что этот ужас миновал его. И ему хотелось облететь на крыльях радости весь мир и упиться всем, что только в нем есть. Он неутомимо писал своим уцелевшим друзьям письма, требуя, чтобы они хлопотали о нем, чтобы они открыли, наконец, для него двери его темницы. Житейски умудренный Жуковский всячески старался держать своего друга в оглоблях: «Ты ни в чем не замешан, это правда, – писал он, – но в бумагах каждого из действовавших находят стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Не просись в Петербург. Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они откроют тебе дверь свободы». Но Пушкин не слушал ловкого царедворца и продолжал биться в своей, как ему казалось, тесной клетке. Он был слишком страстен, чтобы остановиться на полдороге: ему нужно было непременно все.
А у Дуни приближался срок родов. Арина Родионовна прятала ее в своей комнате. Вопрос – что делать? – подступал к горлу. Медлить было уже нельзя. И, посоветовавшись с няней, – ему было очень совестно старухи – Пушкин решил отправить Дуню пока что в Болдино, в нижегородское имение отца. Ему было совсем не ясно, как устроить там все это дело, и он решил просить своего приятеля, князя П.А. Вяземского, помощи: князь человек ловкий и сумеет там все наладить как следует. Дуня, исхудавшая, подурневшая, просто места себе не находила: невозможно было родить тут, на глазах у любопытной и злорадствующей дворни, но немыслимо было и оторваться от любимого. Она ясно чувствовала: с глаз долой – из сердца вон. Но так как это было похоже на какое-то решение, она покорилась, и Арина Родионовна молчком собирала несчастную в далекий путь…
В широко раскрытые окна дышало черемухой ослепительное майское утро. С погоста доносился весь точно омытый росой и согретый солнцем благовест. Послышался звук подъезжающей телеги. Дверь кабинета отворилась, и у порога встала закутанная до глаз Дуня. В ее милых, детских глазах, застланных слезами, была бездна горя и стыда.
– А!.. – смутился Пушкин. – Сейчас… Я уже приготовил письмо князю. Он там тебе все скажет…
И он торопливо пробежал свое письмо – не забыл ли чего?
«Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, – читал он наспех, – которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег сколько понадобится, а потом отправь ее в Болдино. Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о попе; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню? Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести…»
– Ну, вот… – запечатав письмо и вручая его девушке, проговорил он, стараясь не глядеть на нее. – Ты… не беспокойся… С кем грех да беда не бывает?.. Все потихоньку уладится, ты вернешься, и мы заживем опять за милую душу… А это вот тебе… на дорогу… и на… разное там…
– Спаси… бо… вам…
Упав на колени, она схватила его руку и стала покрывать ее поцелуями. Его перевернуло. Он с усилием поднял несчастную и обнял ее.
– Но ты сама видишь, что ничего другого пока придумать нельзя… – путаясь, говорил он. – Прежде всего надо тебе освободиться… Не надо, милая, так волноваться… Я…
– Hola!.. – раздался из сада молодой, веселый голос.
– Я здесь… – весело отозвался Пушкин в окно.
Это был Алексей Вульф. Он застрял в Тригорском еще с Пасхи. Напуганная слухами о многочисленных арестах, Прасковья Александровна держала сына около себя. Теперь он только что вернулся из Пскова, куда ездил с каким-то поручением от матери.
Дуня жарко, вся содрогаясь в рыданиях, обняла Пушкина и быстро скользнула в коридор. Пушкин радостно – прощание было так мучительно – бросился к окну.
– Уже дома? – крикнул он.
– Как видите…
– Ну, ползите сюда… Или нет, я лучше выйду в сад.
– Наши у обедни. Пойдемте на погост, а оттуда к нам пить чай с пирогами.
– Великолепно… Тогда я должен прифрантиться немного…
Пушкин быстро оделся, схватил шляпу, тяжелую трость и вышел к своему молодому приятелю. Они обменялись крепким рукопожатием и пошли. У ворот стояла телега, а в ней уже сидела закутанная до глаз Дуня. Няня заботливо раскладывала в ногах всякие узелки и корзинки. В отдалении, у ветхих служб, стояла дворня, с любопытством глядя на проводы сударушки молодого барина. Мирон, ее дядя, потерявший зимой сына в Петербурге на Сенатской площади, угрюмо поклонился и отвернулся к лошади, чтобы будто бы поправить сбрую. Вульф, поняв все, покосился на Пушкина.
– Mais oui, mon cher! – вздохнул тот легонько. – Il n’y a rien à faire…[46]46
Да, да, друг мой… Но – делать нечего… (фр.).
[Закрыть] Я в церковь, няня!.. – крякнул он старухе. – Обедать дома не буду…
– Да уж иди, иди… – отвечала та ворчливо: сегодня она была определенно недовольна своим воспитанником.
С неловкой улыбкой он помахал рукой Дуне и зашагал с приятелем солнечным и душистым проселком к погосту.
– Ну, что в богоспасаемом граде нашем Пскове слышно? – спросил он Вульфа. – Какие вести из Петербурга?
– Из Петербурга новости совсем плохие… – сказал студент. – Николай лютует вовсю. Упорно утверждают, что все главари восстания будут публично казнены…
Пушкин весь потемнел.
– Проклятая романовщина!.. – стиснув зубы, пробормотал он. – Выбрали чертей на свою голову!
– И еще вопрос, кому будет лучше, тем ли, кого казнят сразу, или тем, кого в цепях угонят в каторгу, на медленную казнь… – продолжал студент, значительно хмурясь. – Видно только одно: по свойственному Нашему Императорскому Величеству милосердию, Николай шутить не будет. Он хочет ужаснуть раз навсегда, а затем уже спать спокойно…
– Ну, это мы посмотрим!.. – угрюмо обронил Пушкин, тяжело задышав. – Это мы посмотрим!..
– Мама получила письмо от Анны Петровны… – помолчав, переменил разговор Вульф. – Очень кланяется вам… Между прочим пишет, что Марья Николаевна Волконская в страшном горе. Если князя пошлют в Сибирь, она решила ехать за ним туда… Я всегда говорил, что наша очаровательная «дева Ганга», несмотря на свой ангельски-кроткий вид, дама с характером…
– Ах, бедная, бедная!..
И ярко-ярко вспомнился Пушкину далекий солнечный край, где был он в ссылке. Заболев, он поехал с семьей знаменитого героя Отечественной войны, генерала Н.Н. Раевского, на Кавказ. Было жарко. Собиралась гроза… Неподалеку от Таганрога девушки, увидав сверкающее море, остановили карету, в которой они ехали с няней и англичанкой, и побежали к морю. Смуглая Маша – ей было тогда только пятнадцать лет и она, хотя и не такая красавица, как сестры, была исполнена непобедимого очарования – играла с набегавшими, пахучими, напоенными солнцем волнами. Он вышел промяться немного и стоял в отдалении, любуясь этой тоненькой, переполненной жизнью колдуньей, и в его душе сразу заискрились стихи, которые потом, вспоминая волшебницу, он нескромно включил в «Онегина»:
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!..
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!..
Смугляночка расцвела и заблистала своей оригинальной красотой, за которую в свете ее прозвали fille du Gange[47]47
Дева Ганга (фр.).
[Закрыть]. А потом, всего год назад, она вышла по воле отца за уже немолодого свитского генерала, князя С.Г. Волконского. И вот теперь ее муж сидит в цепях в страшных казематах, а впереди такой ужас, что душа холодеет.
– Ах, бедная, бедная!.. – повторил он.
По старым, истертым ступеням они поднялись на паперть, где в сиянии солнца дремали несколько нищих и одноногий солдат с медалями за 1812–1815 годы на груди и седой щетиной на подбородке. О ту пору много таких жалких калек, отдавших родине все, скиталось по Руси без пропитания и без пристанища… Из старой церкви несся запах ладана и козлиный голос о. Шкоды. Крестьяне с молчаливыми поклонами расступались перед молодыми господами. Небрежно мотая руками под носом, оба прошли вперед, где справа, в светлом венке своих красавиц, стояла степенная Прасковья Александровна. Анна оглянулась на Пушкина и чуть улыбнулась ему. Зизи покосилась на него своим горячим, лукавым глазом, как бы ожидая от него какой-нибудь выходки. Он, поймав ее взгляд, возвел в купол умиленный взор и громко, сокрушенно вздохнул. Зиночка, давясь смехом, затрясла плечами. Прасковья Александровна строго покосилась на них…
В церкви густо пахло смазными сапогами, ладаном, новой посконью, воском, деревянным маслом. Слышались шепоты и вздохи. В окна радостно хохотала весна. В закоптевшем куполе с веселым щебетанием носились только что прилетевшие ласточки. Кротко смотрел на молящихся сквозь сизые полосы кадильного дыма большеокий Христос. И козлогласовал служивший без дьякона о. Шкода, и нестройно пел деревенский хор, но во всем вместе было что-то теплое и трогающее…
Пушкина это никогда не захватывало. Повесив кудрявую голову, он думал о своем: о Дуне, которая теперь ехала на телеге с дядей в неизвестное, о деве Ганга, об очаровательной Керн, вспомнившей о нем среди своих триумфов… Жизнь пьянила его…
И в тот же вечер, вернувшись из Тригорского, когда вокруг старого дома шел соловьиный посвист и сыпались трели, он решительно взялся за перо:
«Всемилостивейший Государь! – писал он. – В 1824 г., имев несчастье заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенном в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства. Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем готов обязаться подпиской и честным словом), решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшей моей просьбой: здоровье мое расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляя свидетельство медиков, осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего в Москву или в Петербург, или в чужие края. Всемилостивейший Государь, Вашего Императорского Величества верноподданный Александр Пушкин».
И, подумав, к письму он приложил обязательство:
«Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы именем они существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них. 10-го класса Александр Пушкин. 11 мая 1826 г.».
Получив это письмецо. Николай весело засмеялся: это было новой викторией его величества.









































