Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
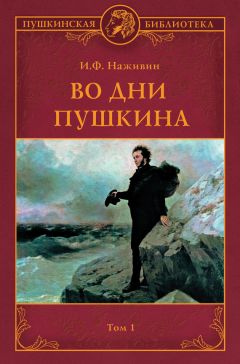
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXXIX. На балу у Иогеля
– Но ты же сама видишь, мамочка, что надеть их больше нельзя!.. – почти плача, проговорила полуодетая Наташа, протягивая матери свои длинные бальные, не первой свежести перчатки. – Посмотри, они совсем уже пожелтели от чистки… А пальцы?..
И в прекрасных, слегка косящих глазах ее налились крупные слезы… Наталья Ивановна – когда-то тоже красавица, а теперь ожиревшая и опустившаяся московская барыня – и сама видела, что дочь права, но именно это-то ее и взорвало. Она вдруг размахнулась и, не говоря худого слова, по ее выражению, дала дочери звонкую оплеуху. Наташа, закрыв лицо обеими руками, разразилась плачем. И ее полуодетые сестры, и дворовые девушки, их всех одевавшие, омрачились, и общее предбальное оживление сразу потухло…
– Не хочешь, не езди!.. – задохнулась в гневе Наталья Ивановна. – А покупать тебе к каждому балу свежие перчатки, где я денег возьму? Вас три кобылы, не напасешься… Вот вам и весь сказ мой… По одежке протягивай ножки… Не хочешь, сиди дома…
И она, тяжело ступая по скрипящим половицам и испытывая неприятное сердцебиение, пошла к себе. Сестры – их было три: Катя, Азинька и Наташа – сперва бросили было свои приготовления к балу, но молодость взяла свое. И снова все горячо взялись за туалет, стараясь всякими ухищрениями скрыть его немалочисленные изъяны. Дворовые девушки просто из себя выходили, чтобы представить своих барышень в самом блестящем виде… Наталья Ивановна, по опыту зная, что все уладится, не торопясь, одевалась у себя и для поддержания своего хозяйского престижа бранила горничных.
Еще при Алексее Михайловиче, когда по Волге баламутил Разин со своей вольницей, был в Малороссии гетманом Петр Дорошенко. Гетман и с султаном турецким нюхался, и с поляками шептался, и с Москвой сговаривался: кто больше даст? И, наконец, потянул он за царем московским. За это была ему пожалована царем огромная вотчина под Москвой, село Ярополец. Чрез несколько поколений оно перешло в род Загряжских, Ивану Александровичу.
Иван Александрович был большой оригинал. Он имел уже большую семью, когда ему вздумалось вдруг проветриться в Париже. Он поехал и от живой жены женился там на какой-то милой даме. Дама скоро подарила ему дочку, Наташу. С новой женой и дочерью он воротился к себе в Ярополец. Ко всеобщему удивлению обе его супруги очень подружились, и жизнь потекла в Яропольце по-прежнему: сыто, пьяно и безалаберно… В молодости Наталья Ивановна попала в Петербург и, благодаря своей поразительной красоте, заблистала на петербургском фирмаменте звездой первой величины. Победы ее были бесчисленны, и самая блестящая из них – ротмистр-кавалергард Охотников, возлюбленный императрицы Елизаветы Алексеевны. Но он был скоро убит клевретами великого князя Константина, влюбившегося в Наташу. Потом красавица, получив от отца в приданое Ярополец и две тысячи душ, вышла замуж за Гончарова. Основателем большого состояния этого рода был Афанасий Гончаров, посадский человек из Калуги, устроивший при Петре I с двумя «компанейщиками» фабрику парусного полотна. К этому времени состояние Гончаровых пошатнулось тоже. Калужское имение их, Полотняный Завод, сделанное майоратом, перешло к старшему сыну Натальи Ивановны, Дмитрию Николаевичу. Муж ее сошел с ума и, вывесив язык и распустив слюни, сидел у себя в Яропольце, в одном из флигелей. Наталья Ивановна, несмотря на две тысячи крепостных, билась в самой черной нужде. Вопрос о покупке новых ботинок для дочерей, которые начали уже выезжать, был для Гончаровых вопросом трагическим, а если днем к ним приезжали гости, то Наталья Ивановна старалась выпроводить их до обеда, чтобы не скандалиться перед ними своей бедностью. Словом, это была одна из тех дворянских семей, на которых уже сказывалось грядущее оскудение служилого сословия: в Москве, заново построившейся после пожара 1812 года, промышленность зацвела, купечество стало богатеть и селиться в палатах, которые покидало дворянство. Шла смена… И потихоньку Наталья Ивановна стала пить – сперва по лечебнику, а потом и просто так, и, как говорили злые языки, жила со своим кучером. А нагрешив, она шла в свою моленную, уставленную множеством образов, и подолгу, в искреннем сокрушении сердца, молилась там…
– Ну, готовы?
И, высокая, дородная, с усталыми и печальными глазами, в старом, много раз чищенном платье, она осмотрела своих дочерей, которые перед старыми, потускневшими трюмо заканчивали туалет. И невольно глаза матери остановились на Наташе: в белом широком платье, с золотым обручем на прекрасной, темнокудрой, точно золотой пылью осыпанной головке, с прекрасными, поющими формами, она просто слепила всех. И даже то, что она чуть-чуть косила, только подчеркивало ее прелесть… И вспомнилось: и я когда-то такой была… И она тихонько вздохнула…
– Танька, Машка, поправьте в талии!.. – строго прикрикнула она на возбужденных, красных горничных. – Видите, складки криво лежат… Ослепли?
И Наташа, слабо освещенная свечами, гордо поворачивая свою прекрасную головку туда и сюда, еще раз осмотрела всю себя в тусклом трюмо, из которого смотрела на нее точно какая греческая царевна, окруженная ползающими вокруг нее рабынями. И она почувствовала, что вот еще немного и пред ней широко распахнутся златые врата в жизнь-праздник… Улыбка торжества чуть тронула эти прекрасные, еще детские чистые уста… И, подняв свои полные, белые руки, она поправила свои темно-золотистые локоны, и от приподнятых рук еще более четко обрисовалось это стройное, уже поющее о любви прекрасное тело… Сзади с невольной завистью смотрели на красавицу сестры…
– Ну, идем, едем… Полька, спроси, подана ли карета…
– Подана, барыня… Все готово…
– Ну, с Богом!
Последние волнующие сборы, хлопнула разбитая дверь огромной старой кареты, заскрипел и завизжал под колесами только что выпавший снег, и мимо сразу запотевших окон побежали редкие и тусклые фонари. И слышалось довольное пофыркивание доморощенных лошадей, и говор и смех с тротуаров, и строгое, басистое «па-а-ди!» кучера… Не говорилось: молодые души были уже в преддверии сияющего праздника…
И, наконец, карета, попав в вереницу подъезжающих к дому Иогеля экипажей, остановилась перед ярко освещенным подъездом, швейцар ловко распахнул дверцу, и Наталья Ивановна первой тяжело спустилась на затоптанный талым снегом коврик. Дочери, бережно подбирая длинные платья и сияя глазами, следом за ней устремились в ярко освещенный и полный суеты вестибюль, где лакеи раздевали гостей и молодые красавицы в последний раз осматривали себя в сияющие зеркала, а затем цветной рекой, взволнованные, поднимались широкой лестницей наверх, где у дверей, сияя приличной улыбкой и лысиной, встречал своих учеников и учениц старый, кругленький, чистенький, розовый Иогель…
Балы Иогеля были одной из достопримечательностей тогдашней Москвы. Он переучил танцам четыре поколения москвичей. Он придумал устраивать эти веселые балы свои, взимая с посетителей их по пяти рублей ассигнациями с персоны, и балы эти чрезвычайно пришлись по вкусу светской Москве.
– Ах, mestames!.. – учтиво просиял он навстречу Гончаровым. – Ручку, Наталья Ивановна!.. А ваши грации все хорошеют, все хорошеют!
Он почтительно семенил еще около Натальи Ивановны, а вокруг Наташи, и стыдливой, и гордой, уже образовался кружок… В теплой, приятно пахучей зале сплетались и расплетались под музыку цветные гирлянды молодежи в замысловатом котильоне, о котором тогда справедливо говорили:
Котильон есть танец преопасный:
Сам Амур вертится в нем!..
Зоркие глазки Иогеля дискретно следили за танцующими, и старик, неслышно летая из конца в конец залы, незаметно, необидно, ловко руководил неопытными танцорами, – пока танцевала только самая зеленая молодежь, «львов» еще не было – а если где дело запутывалось, Иогель неслышно летя по паркету туда, в один миг все налаживал, подбадривал танцоров шуткой и снова с увлечением с какой-нибудь красавицей, гордой его вниманием, пускался в пляс…
Пустив своих девиц в жаркие вихри бала, Наталья Ивановна, чувствуя себя подавленной и грустной, но скрывая это и приветствуя знакомых то улыбкой, то парой слов, прошла в соседнюю гостиную: там было попрохладнее. И здесь улыбки и поклоны встретили ее…
– Наталья Ивановна, да что ты, оглохла, что ли, мать моя? Ей говорят здравствуй, а она и ухом не ведет!.. Посиди-ка со мной…
Наталья Ивановна слабо улыбнулась: то была всей Москве известная Марья Ивановна Римская-Корсакова, величавая старуха в важном чепце, полная какой-то ровной и глубокой доброты и достоинства. Ее старый, поместительный дом у Страстного монастыря, пощаженный московским пожаром, славился своим широким гостеприимством и весельем.
– Своих красавиц привезла? – продолжала Марья Ивановна. – Садись, посиди со старухой… Девки мои со мной, а Григорий провалился куда-то… С тех пор как этот зуда Пушкин появился в Москве, все точно в Содоме и Гоморре закружилось…
– Терпеть не люблю!.. – садясь в кресло, сморщилась Наталья Ивановна. – Мы хоть с ними домами и незнакомы, но молва-то идет… Сущий вертопрах!.. Мои мальчишки достали было тут стишки его какие-то скоромные, так я им так по щекам нахлестала, что любо-дорого… А стишенки поганые в печке велела при себе сожечь… Пустой парень…
– Ну, быль молодцу не укор… – примирительно сказала Марья Ивановна. – Кто молод не был? А ты слышала, как государь его на коронации-то принял?.. А после того были мы как-то в театре на «Сороке-Воровке», а он с Соболевским и войди в зал – все про сцену-то враз забыли и все глаза и бинокли на него повернулись… Так Москва одного Ермолова разве встречала… Я двадцать шестого числа вечер для него устраиваю. Вся Москва будет… И ты своих привози: жених хоть куда!
– Ну, ты скажешь тоже, Марья Ивановна! – посмотрела на нее с неудовольствием Наталья Ивановна. – Гол как сокол… И картежник, и юбочник, и с отцом, говорят, ругается насмерть, и фармазон, и будто дурной болезнью болен – адъютант Дибича, этот… как его? – намекал как-то… Какая дура за него выскочит, досыта наплачется…
– Денег-то у него, верно, немного, да зато теперь самому государю известен… – отозвалась Марья Ивановна, которой было неприятно злословие старой приятельницы. – А это при уме даст все… А ума ему, говорят, не занимать стать…
– Да какой же это ум, коли жизнь-то у него дурацкая? – пренебрежительно сказала Наталья Ивановна. – Нет, нет, подальше лучше…
Старичок с белыми и легкими, как пух, волосами, в черных, бархатных – старичка мучила подагра – сапогах, сидевший рядом с Марьей Ивановной, безучастно, казалось, слушал. Это был кн. Голицын, известный всей Москве под кличкой Cosa rara[76]76
Редкая вещица (ит.).
[Закрыть]. Он в свое время поил ежедневно своих кучеров шампанским, зажигал трубки друзей крупными ассигнациями и подписывал векселя, не читая: он считал ниже своего достоинства читать их. И, таким образом, князенька промотал громадное состояние в двадцать две тысячи душ и жил теперь на небольшую пенсию от своих родственников. И, тихонько вздохнув, он сказал:
– Не знаю, а что-то мне грустно на балах этих… Конечно, молодежь всегда молодежь и вся эта sauterie[77]77
Вечеринка (с танцами) (фр.).
[Закрыть] прелестна, но разве вы не находите, что наши балы были как-то… веселее? Помните тот полонез Козловского, которым при матушке открывались все балы, помните те торжественные трубы: «славься сим, Екатерина…» А потом, конечно, англез или контрданс: то Данила Купер, то Prejuge Vaincu, то Березань, то Sauvage, то променад… Вместо теперешней кадрили танцевали мы монюмаск, а то менуэт очаровательный, певучий… Этих теперешних сумасшедших вальсов, – он брезгливо поморщился, – и в помине не было… А потом появились и матрадура, и tempete, и allemande, а потом уже из Польши вывезли краковяк и мазурку… И мы не стеснялись, и не только в каком-нибудь провинциальном городке, но даже и в первопрестольной пройтись и в метелице, и в казачке, и в голубце, и даже просто в русской. Теперь царствующий окцидентальный дух убил эти русские пляски, и скажу прямо: жаль… И всякий бал кончался у нас непременно алягреком, который потом превратился в гросфатера… И вот все ушло. И костюмы не те, и прически, и манеры… Помню, наш парикмахер перед балом двое суток убирал голову покойной княгинюшке: и бастионы тут были, и башни, и ленты, и цветы, и блонды, и пудра – в аршин вышиной сооружал он прическу… А у которых своего парикмахера не было, те по пяти рублей за прическу плачивали…
И он, пожевывая губами, с потухшей улыбкой смотрел перед собой в сумрак былого. А в сияющем зале плыл и ворожил томный вальс…
– Ну, пойдем, посмотрим нынешних-то… – сказала Марья Ивановна своей приятельнице. – Мы сейчас вернемся, князь…
Иогель раскатился по блестящему паркету к раскрасневшейся Наташе и, не спрашивая даже разрешения, взял ее за талию и четко заскользил с ней по зале. И Марья Ивановна – как и все – никак не могла отвести глаз от молодой красавицы. А потом перевела взгляд на Сашу, свою старшую, которая танцевала с молоденьким и стройным гусаром, и успокоилась: нет, и эта лицом в грязь не ударит!.. Да и Катя хоть куда… Обе они были одеты по последней моде и фамильные бриллианты с головы до ног…
– А где же ваш Григорий Александрович? – переведя дух, весело бросил Марье Ивановне оживленный Иогель. – Давно что-то не заглядывал он ко мне…
– Обещался безвременно быть… – ласково отвечала старуха. – Кружит по Москве где-нибудь… А, да вот они!..
По жаркой, блистающей зале прошла волна: в дверях стояли московские львы.
– Пушкин приехал… – восторженно зашепталось все вокруг. – Смотрите: Пушкин! А с ним кто это?.. Ну, конечно, Соболевский… А это Гриша Корсаков… Пушкин, Пушкин!..
Красивые, серьезные глаза Азиньки Гончаровой засияли: она боготворила блестящего поэта…
XL. Львы
Первым делом Пушкина в Москве была просьба к его приятелю Соболевскому быть секундантом в его дуэли с известным «американцем», Ф.И. Толстым. Раз в игре – это было еще до ссылки Пушкина – Толстой, великий авантюрист, передернул. Пушкин сейчас же заметил ему это.
– Да я сам это знаю, – лениво отозвался тот, спокойно поднимая на Пушкина свои маленькие, медвежьи глаза. – Но я не люблю, когда мне замечают это…
Тогда дуэль состояться почему-то не могла, а теперь Толстого в Москве не оказалось. И Пушкин с величайшим одушевлением пустился с Соболевским в шумные водовороты всегда немножко пьяной московской жизни…
Сергей Александрович Соболевский, Mylord Qu’importe, был внебрачным сыном екатерининского вельможи и богача Соймонова и своим всемогущим папашей был приписан к польской дворянской фамилии герба Slepowron. Он был на четыре года моложе Пушкина, но успел уже занять почетное место среди золотой молодежи Москвы. Он блестяще кончил образование и латинским языком владел настолько, что свободно мог переводить на него карамзинскую «Историю Государства Российского». Конечно, это было совершенно ни на что не нужно, но в этом-то и был шик. Зато по-русски все они писали малограмотно. Но так как делать, хоть из приличия, что-нибудь было нужно, то Соболевский в числе других блестящих москвичей поступил в архив Коллегии иностранных дел. Начальство трудами своих элегантных помощников не обременяло. Два раза в неделю они являлись в архив, чтобы разбирать и делать описи древним «столпам», но вместо этого они обыкновенно все вместе сочиняли сказки, что выходило очень забавно. Жалование, чины и ордена, само собой разумеется, им шли как полагается.
Но сказки надоели. Многие начали манкировать. Тот же Соболевский часто рапортировался больным и в то же время на глазах у всех блистал на балах и раутах, устраивал тонкие гастрономические обеды и в короткое время на всю Москву прославился своими любовными похождениями. Пушкин звал своего молодого друга Калибаном, Фальстафом, а то и просто обжорой и даже животным. Ни такими эпитетами, ни такими качествами тогда не оскорблялись и прославляли их даже в стихах – до сих пор сохранилась меткая эпиграмма Соболевского на брата Пушкина, Льва:
Наш приятель, Пушкин Лев,
Не лишен рассудка,
Но с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка!..
Не удовлетворяясь, однако, одной уткой с груздями и шампанским, «архивные юноши», как звала их Москва, посещали литературные и философские кружки, как салон княгини З.А. Волконской, у которой собиралась вся головка Москвы, или прославленный веневитиновский кружок. В нем – по словам современника – господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут иногда читали они и свои собственные философские сочинения, но всего чаще беседовали о творениях немецких любомудров. Особенно высоко ценили московские любомудры Спинозу, писания которого почитались ими выше Евангелия: Евангелие любомудрам казалось пригодным только для народных масс. Однако 14 декабря крепко напугало любомудров, и они торжественно предали огню камина и устав, и протоколы своего общества. Полиция внимательно посматривала за любомудрами и считала их якобинцами, а атаманами их – Полевого и князя П.А. Вяземского, «протектора» его. Соболевский тоже был на очень плохом счету. Но Бенкендорф явно преувеличивал опасность московских якобинцев, ибо вольнолюбивые мечты их неизменно упирались в утку с груздями и шампанское у бешеных цыган в Грузинах, а всех немецких любомудров каждый из них очень охотно отдал бы за бисерный почерк надушенной французской записочки… Тем не менее литературная братия высоко ценила Соболевского. Грибоедов, Баратынский, Дельвиг читали ему свои произведения и дорожили его советами. Пушкин посвящал его во все свои дела, и иногда случалось в трудную минуту, что, за неимением свободных денег, Соболевский давал ему для заклада свое столовое серебро… Известная графиня Е.П. Растопчина считала его русским Ювеналом и уверяла, что на все светское общество он наводит своими эпиграммами страх.
Гриша Корсаков, напротив, шел успешно до сих пор карьерой военной. Несмотря на свою молодость, он был уже полковником лейб-гвардии Московского полка, когда над ним, вскоре после беспорядков в Семеновском полку, вдруг разразилась гроза. На запрос начальника штаба государя, князя П.М. Волконского, из Троппау, кто из офицеров «особенно болтает», командир гвардейского корпуса Васильчиков отвечал, что главными болтунами считаются полковник Шереметев, капитан Пестель и Григорий Корсаков, человек особенно беспокойный. Александр приказал не церемониться с болтунами и перевести их в армию. За ужином на каком-то балу Корсаков чрезвычайно либерально расстегнул свой мундир. Васильчиков, желая использовать случай, послал сказать ему, что он забывается, расстегивая в присутствии своих начальников мундир, что это очень дурной пример для молодых офицеров, и приказал ему оставить гвардейский корпус. Корсаков подал в отставку и, провояжировав три года заграницей, – это спасло его от декабрьской истории – вернулся в дым отечества и жил теперь в Москве, прилично фрондируя и мудро деля свое время между критикой правительства, уткой, цыганами и душистыми записочками.
Иогель мягким, ватным шариком подкатился к львам.
– Eh pien, messieurs, eh pien… – укоризненно обратился он к ним. – Надеюсь, вы приехали сюда не только для того, чтобы острословить?.. Monsieur Pouchkine, вы еще не разучились танцевать? Покажите же пример другим!.. Посмотрите, какой цветник красавиц… Eh pien, eh pien!..
Пошутили, посмеялись, и Пушкин склонился пред Наташей. Она вспыхнула: знаменитый поэт подошел к ней первой!.. И они понеслись в вальсе. Пушкин вальсировал плохо и небрежничал…
С его стороны приглашение Наташи было только маневром. Его сердце в Москве было уязвлено. Наиболее жгучие уязвления претерпел он от Софи Пушкиной, его однофамилицы, полуденной брюнетки с греческим профилем, и Саши Корсаковой: когда он видел Софи, ему казалось, что весь мир в Софи, а когда он, как теперь, вальсируя с Наташей, урывками видел бархатные глаза Саши, он понимал, что перед таким взором и умереть счастье… Красоту Наташи он хотя и заметил, но она была еще слишком девочка…
Вальс кончился, Пушкин отвел Наташу на место, расшаркался и, сопровождаемый ревнивыми глазами Азиньки, направился к Саше. Ее глаза тепло сияли ему навстречу, и он с обычной легкостью вступил с красавицей в разговор… Но им не дали поговорить и минуты: дамы осаждали знаменитого поэта.
– А скажите, правда это, что вы, monsieur Пушкин, собираетесь служить? – говорила одна, смакуя кончиками губ мороженое.
– Как служить? Зачем служить? – ужаснулась другая, обмахиваясь веером. – Обогащайте лучше литературу вашими высокими произведениями…
– И разве к тому же вы не служите уже девяти сестрам, музам? – жантильничала третья. – Существовала ли когда служба более прекрасная?
Саша смеющимися глазами смотрела на эти атаки и на явно польщенного всем этим фимиамом поэта. Но зажигательные звуки мазурки разом оборвали все эти восторги, и Пушкин понесся с Сашей по залу. Чары Софи померкли: он решительно ошибался – только у этих маленьких, беленьких ножек его счастье!..
Марья Ивановна издали следила за парой: конечно, это не граф Самойлов, сватовство которого к Саше расстроилось год тому назад, но Саше ведь уже двадцать два… А Наталья Ивановна смотрела совсем неодобрительно: чистая обезьяна и голоштанник к тому же, и фармазон, и вольтерианец…
Было уже около полуночи. Веселье било белым ключом. Молодежь блаженствовала. Блаженствовали и львы. Но они не были бы львами, если бы они признались в этом хотя бы только себе. Им гримаса была необходима. И потому Соболевский притворно зевнул и лениво проговорил:
– Поедем в Грузины, к цыганам, господа… Мне вся эта преснятина решительно приелась…
– Здесь пресно, поедем на Пресню!.. – сострил Гриша.
И, хотя никому из них совсем не хотелось покидать веселого бала, они, сопровождаемые взглядами всего зала, пошли вон. На пороге Пушкин обернулся, чтобы взглядом проститься с Сашей, но глаза его нечаянно встретили взгляд Наташи, которая, чуть-чуть, очаровательно кося, смотрела на него из-за веера. Она смутилась, потупила глаза, а Пушкин с деланным равнодушием вслед за приятелями спустился в швейцарскую… Еще несколько минут, и бешеная тройка пегих Соболевского – ее знала вся Москва – понесла приятелей темными улицами к цыганам…
Аккуратный Бенкендорф в очередном всеподданнейшем докладе его величеству сообщил между прочим:
«…Пушкин автор в Москве и всюду говорит о Вашем Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью. За ним все-таки следят внимательно…»









































