Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
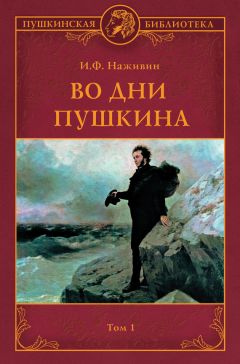
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XLV. Золотые дали
Он попытался взять себя в руки, но ничего не вышло: работа не шла никак. Он и раньше знавал эти полосы творческой засухи, но никогда еще это не изводило его так, как теперь. Он знал, что бунт тут бесполезен, что все придет в свое время, но раз он и тут писать не может, так это его сидение среди сугробов совсем уж никакого смысла не имеет. Он часто бывал в Тригорском – Анна тихо молчала – он ездил в Псков пить и играть в карты, он доводил до икоты ленивого и смешливого о. Иону своими веселыми богохульствами, он жадно читал призывы своих легкомысленных приятелей из Москвы и Петербурга, он томился и рвался в солнечные, теперь ему открытые дали, но ему было прямо совестно: никогда еще не была его осень так бесплодна! И где взять денег? В надежде, что вдохновение вернется, что он свое наверстает, он упорно сидел в деревне…
Были тихие зимние сумерки… На большом столе самовар тянул свою тоненькую песенку. Св. Антоний все корчился в муках при виде тех искушений, которые предлагались ему отвратительными чертями. Пушкин, гревшийся у печки, вдруг рассмеялся.
– Что вы это? – подняв на него от вязанья свои прелестные глаза, спросила Анна.
– Я подумал, что лучше бы ваш Антоний уступил чертям, чем так корчиться и кривляться… – зло сказал он.
Он часто неизвестно почему злился на нее и говорил ей нарочно вещи неприятные.
– Матушки мои! – по-деревенски всплеснув руками, воскликнула вдруг Зина, гадавшая у окна на картах. – Туз червей, три девятки и бубновый король – спор какой-то, досада от речей, обновы и – вот тут – трефовый антирес…
– Антирес… – с укором повторила мать. – На языке девичьей говорить тебе словно бы и не пристало… Ты и с бароном своим так изъясняешься?
– Но неужели, по-вашему, в картах можно сказать интерес?! – живо воскликнула Зина. – Фу!
– Нельзя коверкать язык…
– Я взываю к вам, Александр Сергеевич: можно ли сказать трефовый интерес?
– Да разумеется, нельзя, очаровательница! – отозвался Пушкин. – У вас бездна вкуса…
– Перестаньте, пожалуйста, Пушкин! – недовольно сказала Прасковья Александровна. – Вы совсем ей голову свернете вашими вечными похвалами…
– Это потому вы так говорите, что теперь сами видите, что я права… – сказала Зина. – Не угодно ли: трефовый интерес!
Она звонко рассмеялась, поцеловала мать и, не зная, что делать, остановилась в нерешительности.
– Давайте хоть в дурака играть, Александр Сергеевич… – сказала она. – Или в короли… На орехи… Хотите?
– Отстань ты от него, Зина! – воскликнула мать. – Ты и вчера целый вечер monsieur Пушкина мучила твоими картами. В конце концов, он совсем перестанет ходить к нам…
– Ну, тогда в свои козыри… – сказала Зина. – А то вот в хлюсты тоже очень хорошо: того, кто проиграет, бьют картами по носу… Ужасно весело! Акулька вчера целый день с распухшим носом ходила – вот как ее в девичьей отделали!.. И я вам по носу нахлестала бы, monsieur Пушкин… А?
– Зина!
– Ах, отстаньте, мамочка!.. Тоска какая… Слова не скажи просто, а все с ужимкой… Я не маленькая, за мной сам Вревский ухаживает: целый барон! Еще немного, и я, если захочу, баронессой буду… Вот тогда, действительно, в хлюсты играть будет уже невозможно. Значит, и надо пока пользоваться свободой. А не хотите, не надо – я с Акулькой пойду играть…
– Вы лучше мне на рояле что-нибудь сыграйте… – сказал Пушкин, любуясь хорошеньким чертенком. – Вы давно уж мне ничего не играли…
– Ах, мы сегодня в поэтическом настроении!.. – протянула Зина. – Нам немножко на луну повыть захотелось… Ну, что ж, извольте. Но только чтобы огня не зажигать… Хотя, правда, в темноте мне всегда в углах чертенята чудятся… – Она вдруг завизжала и расхохоталась. – Ужас! Но, надеюсь, с вами не съедят… Пойдемте…
Они вошли в темную гостиную. В окно смотрел алмазный серпик молодого месяца. Где-то осторожно скреблась мышь. Пушкин сел на широкий, старый, пресно пахнущий пылью диван, а Зина открыла крышку рояля. И хорошенькие ручки лениво, задумчиво пробежали по клавишам… И опустились на колени…
– А скажите: правда, что какая-то гадальщица в Петербурге вам предсказала всякие ужасы? – спросила вдруг Зина точно во сне.
– Правда.
– Расскажите мне, как это было…
– Было это очень просто. Звали эту немку Кирхгоф, а жила она на Морской. И вот раз мы – Никита Всеволжский, его брат Александр, Павел Мансуров и Сосницкий, актер, – пошли к ней. И, разложив карты, она вдруг воззрилась на меня: о!.. о!.. И предсказала мне, что я скоро получу неожиданно деньги. Это было приятно: я был совсем à sec[88]88
Без гроша (фр.).
[Закрыть]. И предсказание это оправдалось, в тот же вечер: Корсаков, который потом умер в Италии, выслал мне свой карточный долг, о котором я совсем забыл. Потом сказала она, что мне будет сделано неожиданное предложение – несколько дней спустя в театре Алексей Орлов предложил мне поступить в конную гвардию… Потом сказала она, что я дважды буду сослан. Не знаю, так ли это, ибо если два раза сослан я уже был, то могу быть сослан и еще двадцать два раза, и тогда предсказание будет неверно…
– Не острите. Пока все верно.
– Пока лучше желать нельзя И сказала она, что я буду славен. Это как будто сходится. И, в конце концов, прибавила, что если я на 37-м году не погибну от белого коня, белого человека, белой головы, то я проживу очень долго… Это требует еще доказательств. Но, должен сказать, всякий раз, как мне подают на прогулку белую лошадь, я с некоторым трепетом ставлю ногу в стремя. И из масонской ложи я отчасти ушел потому, что отец масонства, Адам Вейсгаупт, белая голова. И когда я был принят царем в кремлевском дворце, первое, что я, увидав его, подумал: не от него ли я погибну? Ибо он не только белый человек, блондин, но и совершенно несомненная лошадь…
И, обрадовавшись неожиданной остроте, он весело расхохотался.
– Перестаньте!.. – нетерпеливо тряхнула Зина белокурой головкой: она любила слушать, особенно в темноте, всякую таинственную чертовщину. – Ну, и что потом?
– Потом ничего. Подождем… – сказал он с улыбкой. – Позвольте: я сейчас только вспомнил, что у вас тоже белокурая головка. Послушайте, неужели вы меня погубите? Но тогда, пожалуйста, не ждите тридцати семи лет, а приступайте сейчас же…
– Подождите… – невольно улыбнулась она. – Вы лучше скажите мне вот что: неужели же вам не страшно жить… так вот… думая, что где-то ходит белый человек… или лошадь… которые имеют такую власть над вами?.. Я бы от страха заперлась и все дрожала бы… Бррр!.. Как все это странно!..
В окно светил алмазный серпик луны. Где-то скреблась мышь. В столовой зажгли лампу. И чему-то добродушно рассмеялась Прасковья Александровна…
– Но сыграйте же мне что-нибудь!
– Россини?.. Впрочем, нет, я знаю, что вам сыграть, – вдруг оживилась она. – Слушайте…
Она выдержала длинную паузу, и вдруг так знакомо зазвучали струны, и нужный, серебристый голосок запел:
Ночь весенняя дышала…
Он даже вздрогнул: это ее зов, той, колдуньи! Он бурно взволновался: а-а, что он сидит тут, в этой берлоге, когда пред ним столько головокружительных возможностей! Ведь вот эта минута уже уползает в темноту и никто и ничто не вернет ее ему, а он – сидит! Какая слепота! Конечно, надо оставить все эти потуги – раз работа не идет, значит, не идет – и с головой броситься в жарко-пьяный омут жизни, и испить немедленно отравленный кубок ее радостей до дна…
Не мила ей прелесть ночи…
Да, но она, ночь эта, может быть, не только мила, она может быть ослепительной, волшебной сказкой! И, вскочив, он стал взволнованно ходить по гостиной, стараясь не шуметь. И, когда замер в сиянии алмазного серпика нежный голосок, у него уже было готово решение: немедленно в самый омут жизни!.. Они с Зиной вышли в столовую, и на него осторожно поднялись от вязанья строгие глаза: да, он взволнован, та, которая пела тут эту баркароллу, все живет еще в его сумасшедшем сердце! И правдивые, чистые глаза опустились снова на вязанье… Тотчас после ужина он, не сказав ничего о своем отъезде, пошел в Михайловское…
И, когда в звездной вышине увидел он знакомые вершины старых сосен, по душе прошло тепло: он вспомнил встречу с Анной. Но он отмахнулся от воспоминания… Дома сразу начались сборы, и разахалась няня, и забегали девки, а на рассвете, когда у крыльца уже стояла тройка, из Тригорского верховой примчал несколько писем для него. Он быстро пересмотрел конверты. Были письма от Соболевского, от Лизы Воронцовой, от Вяземского и какой-то большой пакет с красной печатью. Он вскрыл его. В нем было письмо от Бенкендорфа.
«Я имел щастие представить Государю Императору комедию вашу о царе Борисе и Гришке Отрепьеве, – читал он канцелярски аккуратный почерк. – Его Величество изволили прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно начертали следующее: «Я щитаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы он с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, на подобие Валтера Скота».
Пушкина перекосило.
– Сами вы скоты, хотя и не Валтеры!.. – зло пробормотал он и, смяв, швырнул бумагу к топившейся печи. – «С нужным очищением»… О, идиоты!..
Но, подумав, поднял письмо генерала, тщательно разгладил его и положил в боковой карман.
– Все ли у вас там готово, мама? – крикнул он, приоткрыв дверь. – Мама!..
– Уложили, выносят…
Он надел шубу, со всеми простился и торопливо пошел к возку.
– С Богом!.. Час добрый…
И заревели полозья – было морозно – заговорили глухари, залился колокольчик… И вдруг показалось ему, что все это уже когда-то, миллионы лет назад, было…
XLVI. Коринна
И снова Москва сразу, без остатка, поглотила его всего. Балы, цыгане, эпиграммы, литературные споры то в кругу сочинителей, то – еще приятнее – в кругу московских красавиц, дикий и страстный картеж, женщины – все это рвало его на части. Остановился он у Соболевского, на Собачьей Площадке, и над своим рабочим столом повесил портрет Жуковского, который был подарен ему поэтом в день выхода в свет его «Руслана и Людмилы» и на котором Жуковский написал: «Ученику-победителю от побежденного учителя»… Время проводили они с Соболевским самым свинским образом: «шпионы, драгуны, бляди и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера» – писал Пушкин одному из своих приятелей в Петербург. М.П. Погодин считает необходимым все эти свинства «свиньи Соболевского» отмечать в своем дневнике, так же, как и «развращенный вид Пушкина». А одновременно с этим оживленные споры о художественной теории Шеллинга, проповедовавшего освобождение искусства, жгучее увлечение Катей Ушаковой, очаровательной блондинкой с пепельными волосами и темно-голубыми глазами, ни в малейшей степени не мешавшее увлечению ни Софи Пушкиной, ни Сашей Корсаковой, беседы со строгим Адамом Мицкевичем, порывы неизвестно зачем в Петербург, раздражающие атаки Ф. Булгарина и вообще «рептилий», и новые ослепительные взрывы всяческих безумств… И среди всего этого самое подлинное ребячество. Раз княгиня Вяземская, жена любимца муз, вернувшись домой, застала Пушкина в дикой беготне со своим маленьким сынишкой Павлом по всем комнатам: они ловили друг друга, падали на пол, барахтались и плевали один на другого. Между княгиней – миловидной, веселой хохотуньей, бриллианты которой ослепляли всю Москву и которую Пушкин звал княгиней Ветроной, – и Пушкиным в Одессе вспыхнула было любовь, но мимолетная связь эта оборвалась сразу, и теперь он сделался у Вяземских, по тогдашнему выражению, еще более коротким, чем прежде…
И хотя сверху по-прежнему частенько напоминали ему, что над ним бдят, – опять вспыхнуло глупейшее дело о стихах в память А. Шенье, которое удалось ему уладить только после всяких негоциаций с начальством – но и Москва уже несколько изменила свое отношение к поэту: стали на ушко поговаривать, что Пушкин слишком уж подмазывается и угодничает перед царем, тихонько обвиняли его даже в наушничестве и шпионстве! А его «Стансы», посвященные Николаю, вызвали ропот даже среди его близких друзей…
К работе же прилежал он об эту пору весьма слабо…
Частым гостем бывал он в это время у прославленной меценатки Москвы, княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белосельской-Белозерской, которая жила в роскошном особняке своего отца на Тверской, против церкви Дмитрия Солунского. Она, уже увядшая красавица, и сама писала и прозой, и стихами и хотела непременно играть в Москве роль какой-то Коринны. В роскошных салонах ее – дом ее насмешники звали салоном Рамбулье – собирались самые лучшие сливки Москвы, чтобы поговорить о литературе и искусстве, послушать итальянской музыки, посмотреть на домашней сцене какую-нибудь пьесу и, конечно, покушать. Она и сама выступала иногда на сцене и раз в роли Танкреда привела всех в восторг своей ловкой игрой и чудесным голосом. Эти ее возвышенные усилия Пушкин, при посылке ей своих «Цыган», вознаградил стихами:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной длани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой…
Конечно, Коринна была сразу взята в плен, и Пушкин сделался ее постоянным гостем, первое место которому в салоне Рамбулье на Тверской было прочно обеспечено. И он, как всегда, проказничал…
Любимой забавой молодежи тогда была игра в шарады. Однажды Пушкин придумал слово, для второй части которого нужно было представить переход евреев через пустыню. Пушкин овладел красной шалью княгини и сказал, что он будет представлять скалу в пустыне. Всеобщее возбуждение: как, живой Пушкин захотел вдруг изображать неодушевленный предмет!.. А он тем временем уже взобрался на стол и покрылся шалью. Все уселись. Представление началось. Один офицер, игравший роль Моисея, с жезлом в руке – роль жезла изображал веер княгини – подошел к скале и коснулся ее этим жезлом. Пушкин вдруг высунул из-под шали горлышко графина – по-тогдашнему карафина – и струя воды с шумом полилась на паркетный пол… Взорвался веселый хохот… Коринна подошла к Пушкину и, взяв его ласково за ухо, проговорила своим прелестным контральто:
– Mauvais sujet que vous êtes, Alexandre, d’avoir represente de la sorte de rocher!..[89]89
Скверный вы шалун, Александр… Представить так скалу… (фр.).
[Закрыть]
Ливрейные лакеи в чулках и башмаках с пряжками уже вытирали лужу…
На второй день Рождества в салоне Рамбулье собралось избранное общество Москвы: к княгине по пути из Киева в далекую Сибирь, к мужу-каторжанину, заехала ее невестка, княгиня М.Н. Волконская, знаменитая fille du Gange. Устав с далекой дороги, Марья Николаевна еще не показывалась в гостиных, но там уже шумели учтивым шумом нарядные московские трутни. Как всегда, весь в звездах, в уголке ораторствовал, окруженный почтительными слушателями, И.И. Дмитриев. Осторожно понижая свой жирный генеральский басок, он говорил о развращенных идеях запада.
– …развращенные нравы, которым нонешние философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды после толикого пролития крови поныне еще во Франции гнездятся… И ежели бы в одной Франции! Заражение умов распространяется повсюду… – Отпив подслащенного кваску, который, зная вкусы старика, княгиня собственноручно приготовила для него, продолжал вельможный старец. – Над Шишковым смеялись, но сколько правды было в его речах! «Почему обычаи и понятия предков наших кажутся нам достойными такого презрения, что вы не можете подумать о них без крайнего отвращения? – спрашивал он нас. – Мы видим в предках наших примеры многих добродетелей: они любили отечество свое, тверды были в вере, почитали царей и законы. Об этом свидетельствуют Гермогены, Филареты, Пожарские, Трубецкие и проч. Храбрость, твердость души, терпеливое повиновение законной власти, любовь к ближнему, родственная власть, верность, гостеприимство и иные многие достоинства их украшали»… Это святая истина. Кто же дерзнет возражать против нее?..
– Да, да, – говорили отменные фраки и ослепительные декольте, сооруженные французскими портнихами. – Увы, в этом много, много правды…
Дмитриев продолжал говорить о всещедрой природе, о врожденной умеренности в желаниях и тихости, о мечтательном умствовании, как вдруг, вся в черном, молодая, – ей только что исполнилось двадцать лет – прелестная, в дверях появилась Марья Николаевна. Разговор разом оборвался, и все почтительно поднялись навстречу этой странной женщины, более обаятельной, чем всякая красавица, добровольно идущей на заклание в страшную Сибирь. И она, испытывая стыд, все же невольно чувствовала себя в своем страдательном положении героиней. Пушкин только молча поцеловал ей руку и отвернулся к огромному окну на Тверскую: теперь и ему было стыдно своих «Стансов». Но он напишет и пошлет с ней послание в Сибирь друзьям своим… Он, собственно, ничей: он поэт, а искусство свободно…
Начался великолепный концерт: Марья Николаевна очень любила музыку. Но когда запели отрывок из «Agnes», она не выдержала, расплакалась и торопливо вышла в соседнюю гостиную. И только когда большая часть гостей разъехалась и остались самые интимные, вышла она оттуда, села около клавикорд и, слушая, все просила: еще… еще… еще…
Пушкин украдкой ненасытно смотрел на очаровательную смуглянку… И вспоминался ему юг, солнечная морская даль и эта резвая девочка с ее пробуждающейся прелестью. Она подметила взгляды знаменитого поэта и невольно старалась показаться ему поэтичной, возвышенной: может быть, когда-нибудь он снова посвятит ей несколько своих чеканных строф, которые уйдут в века…
Было уже около двух. Пушкин с Вяземским, сердечно простившись с Марьей Николаевной, вышли. Внизу, в пышном вестибюле, среди сонных лакеев, белела огромная статуя Аполлона Бельведерского: протянув руку с луком вперед, прекрасный бог с гневным лицом точно грозил всякому, кто захочет покуситься на покой этого прекрасного храма искусств и высоких восторгов и на досуги его прекрасной жрицы… И поэты, подставив лакеям плечи, накинули шубы и вышли на монументальный подъезд.
Неутомимая в делах литературы и искусств, Коринна, в то время как замотавшиеся лакеи прибирали все после вечера, присела в будуаре к своему дорогому, заставленному художественными безделушками столу – она называла его рабочим – и, вынув толстую тетрадь в дорогом сафьянном переплете с золотой монограммой под коронкой, подумав, стала вдохновенно писать:
«О ты, пришедшая отдохнуть в моем жилище! Образ твой овладел моей душой. Твой высокий стан встает передо мною, как великая мысль, и мне кажется, что твои грациозные движения создают мелодию, какую древние приписывали небесным звездам. У тебя глаза, волосы и цвет лица, как у дочери Ганга, и жизнь твоя, как ее, запечатлена долгом и жертвою… «Когда-то, – говорила ты, – мой голос был звучен, но страдания заглушили его…» Как ты вслушивалась в наши голоса, когда мы пели около тебя хором! «Еще, еще! – повторяла ты. – Ни завтра, никогда уже не услышу я музыки!»
И долго так писала она. Мраморный Наполеон, стоявший среди ее безделушек, надвинув треугольную шляпу и скрестив руки на груди, строго смотрел на нее и как бы поощрял к дальнейшим вдохновениям. Он ей был на столе обязательно нужен: c’est grand, c’est tragique, c’est beau enfin!..[90]90
Это величественно, это трагично, это прекрасно, наконец! (фр.).
[Закрыть]
XLVII. В Некрополе
Чаадаев, протрудившись весь день над своими книгами и бумагами и выпив на ночь рюмку какого-то духовитого лекарства для нервического успокоенья, лег в кровать и спустя некоторое время, уснул. Засыпал потихонечку и темный Некрополис. Но в одном окне чаадаевского флигелька, которое выходило в занесенный снегом сад, горел огонек: пристроившись около сальной свечи с какою-то потрепанной уже рукописью, там сидел его благообразный и тихий Никита. Днем он неслышно возился по хозяйству, а ночью урывал часок-другой, чтобы попитать свою душу.
Он внимательно вслушивался в беседы своего барина с гостями, но, хотя говорили они и по-русски часто, он не понимал в их разговорах ничего. Иногда брал он украдкой у барина и книги, но опять-таки они были или совсем непонятны ему, или же были написаны, как книги г. Пушкина, например, несерьезным, «улишным», как выражался Никита, языком, который был ему в книге в высшей степени противен. В книге он любил язык торжественный, важный… Правда, и среди господ попадались иногда люди сурьезные, но не часто. В особенности дорожил Никита знакомством с г. полковником Брянцевым, которое он сделал в одном простонародном трактирчике, у Сухаревой, где собирались хорошие люди послушать охотницких соловьев Антипыча, хозяина, и поговорить по душам о материях серьезных. Но полковник бывал там только изредка, наездом…
Один из дружков Никиты по этому трактиру и дал ему на прочтение это рукописание. Это были творения народного мудреца, Григория Саввича Сковороды, который помер лет тридцать тому назад, но о котором сохранилась благодарная память среди немногих верных и до сего времени. Рукописи его имели великое счастье никогда не видать типографии: они переписывались от руки и распространялись только теми, кому они были действительно дороги… Григорий Саввич поднялся из тех темных низов, которые так далеки и так замкнуты для так называемых культурных классов. Но сам Сковорода – он был сыном простого казака, полтавец – не видел разницы в кости белой и кости черной и на своем образном языке говаривал: «Барская умность, будто простой народ есть черный, кажется мне смешной, как и умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать живых детей? И как из утробы черного народа вылупились белые господа?» Сковорода видел и жизнь угнетенной деревни, и пышного двора Елизаветы, – он был придворным певчим – он прошел дебрями тогдашней семинарии и побывал, благодаря счастливому случаю, и в заграничном университете, но потом он с насмешкой говорил о славных училищах, «в коих всеязычные обучают попугаи». Он не поклонился идолу западной культуры и говаривал, что «не за нужным, а за лишним за море плывут», и в «Жене Лотовой» писал: «Когда наш век или наша страна имеет мудрых людей гораздо менее, нежели в других веках или сторонах, тогда виною сему есть то, что шатаемся по бесчисленным и разнородным книг стадам, без меры, без разбора, без гавани. Скушай одно со вкусом и довлеет».
В молодости Сковорода чуть было не женился. Он стоял уже под венцом, как вдруг рванулся из церкви, убежал от невесты и – пустился в безоглядное странствие на всю жизнь. Он никогда не засиживался долго на одном месте. Серая свитка, чоботы про запас, зачитанная Библия и несколько свитков своих сочинений – в этом состояло все его имущество. Задумавши пуститься снова в странствие, он складывал в мешок эту свою худобу и отправлялся в путь с – флейтой и палкой-журавлем, которые сделал он себе сам. Библию называл он невестою своею: «Сию возлюбих от юности моея… О, сладчайший органе, единая голубица моя, Библия!.. На сие я родился. Для сего ем и пью да с нею поживу и умру с нею…»
Но Библия не была для него фетишем, перед которым можно только слепо падать ниц. Вслед за Оригеном он смело отметал «библейскую ложь».
– Да будет свет! – говаривал он. – Откуда же сей свет, когда все светила небесные показались на четвертый день? И как день может быть без солнца?.. Таким вздором чрез всю седмицу рыгает… Наконец, всю сию Божию фабрику самым грубым юродством запечатлел: «почи от всех дел Своих»… Будто истомлен! Ничего создать не мог уже больше!.. А то бы у нас появились бесхвостые львы, крылатые черепахи, правдолюбивые ябедники, премудрые шпис-бубы, perpetuum mobile и философский камень. Сей клеветник нашепчет тебе, голубица моя, что Бог плачет, ярится, спит, раскаивается. Потом наскажет, что люди преобразуются в соляные столпы, возносятся к планетам, ездят на колясках по морскому дну и по воздуху. Солнце – будто карета останавливается. Горы, как бараны, пляшут, реки плещут руками, волки дружатся с овцами и прочее. Видишь, что «Змий по лже ползет, лжею рыгает…»
Сковорода – вслед александрийской школе – тщится изъяснить все это «в таинственном смысле».
Эта любовь к Библии в углубленном человеке понятна: Библия это микрокосм – вся жизнь в кармане, со всею ее грязью и преступлениями и со всем светом ее. Библия поучительна, как жизнь, Библия – это Голгофа человеческая…
Науки человеческой Сковорода не отвергал, но, свободный ум, он подходил к ней без всякого раболепства. Источники, питавшие мысль Сковороды, это Сенека, Эпикур, Филон, Платон, Аристотель, с одной стороны, и философы из отцов церкви – с другой, как Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник, Августин, Ориген, Климент Александрийский.
О современной ему науке он остро говорил, что она «глинку мерит, глинку считает», а идолопоклонники ее эту глинку «существом считают» и «философствуя о тлени разумом плотским», мучаются «легеоном бесов». Не частные науки, «рабыни», должны быть предметом культа человечества, а сама госпожа, единая и кафолическая всенародная Наука. «Я наук не хулю и самое последнее ремесло хвалю, – говорил он. – Одно то хулы достойно, что, на их надеясь, пренебрегаем верховнейшую науку, до которой всякому веку, стране и статьи, полу и возрасту для того отворена дверь, что щастие всем без разбора есть нужное, чего кроме ее ни о какой науке сказать не можно». И в другом месте: «Всякая мысль подло, как змий, по земле ползет, но есть в ней око голубицы, взирающее выше вод потопных на прекрасную ипостась истины».
«Брось тень, спеши к истине!.. – говорил Сковорода своим слушателям по одиноким степным хуторам. – Оставь физические сказки беззвучным младенцам!» И поясняет: «Мы в посторонних околичностях чересчур любопытны, рачительны и проницательны: измерили море, землю, воздух, небеса и беспокоили брюхо земное ради металлов, размежевали планеты, доискались в луне гор, рек, городов, нашли закомплектных миров неисчетное множество, строим непонятные машины, засыпаем бездны, воспящаем и привлекаем стремления водные, что денно новые опыты и дикие воображения… Боже мой, чего мы не можем, чего не умеем? Но то горе, что при всем том кажется, чегось великого недостает, а что оно такое, не понимаем! Похожы на бессловесного младенца: оно только плачет, не в силах ни знать, ни сказать, в чем его нужда. Сие явное души нашей неудовольствие не может ли нам дать догадаться, что все сии науки не могут мыслей наших насытить? Бездна душевная, видишь, оными не наполняется. Чем изобильнее их вкушаем, тем пуще палит наше сердце голод и жажда»… И он указывает истомленным на мысль, которая «никогда не почивает», которая «продолжает равно молнийное своего летание стремление чрез неограниченные вечности, миллионы бесконечнии», которая «возносится к высшей, господствующей природе, к родному своему и безначальному началу, дабы сиянием его и огнем тайного зрения очистившись, уволнитись телесной земли и земляного тела. И сие-то есть выйти в покой Божий, очиститься от всякого тления, сделать совершенно вольное стремление и беспрепятственное движение, вылетев из телесных веществ границ на свободу духа». Этот покой Божий, вечную Субботу духа Сковорода называет «символом символов».
Все мысли эти свои Сковорода излагал в своих рукописаниях, как «Брань архистратига Михаила с Сатаною», «Пря беса с Варсавою», «Разговор, называемый алфавит или букварь мира», «Израильский Змий», иначе называемый «Икона Алкивиадская, диалог: душа и нетленный дух», «Жена Лотова», «Благодарный Еродий», «Убогий жаворонок» и, наконец, «Потопе Змин», который он «исправил, умножил и кончил» в 1791 году.
Он был не только писателем – философом, но слагателем и исполнителем песен философского содержания, странствующим рапсодом. В народе его песни назывались «сковородинами». И в то время как торжествующий рационализм запада договорился до провозглашения этого мира лучшим из возможных миров, русские сковородины были исполнены глубокой скорби:
Мир сей являет вид благолепный,
Но в нем таится червь неусыпный.
Горе ти, мире! Смех вне являешь,
Внутрь же душою тайно рыдаешь…
Проживи хоть триста лет,
Проживи хоть целый свет.
Что тебе то помогает,
Если сердце внутрь рыдает?
Завоюй земной весь шар.
Будь народам многим царь,
Что тебе то помогает,
Аще внутрь душа рыдает?..
О, покою наш небесный, где ты скрылся с наших глаз?
Ты нам обще всем любезный, в разный путь разбил ты нас,
За тобою-то ветрила простирают в кораблях,
Чтоб могли тебе те крила по чужих сыскать странах.
За тобою маршируют, но достанут ли когда?
Ах, ничем мы недовольны: се источник всех скорбей!
Разных ум затеев полный – вот источник мятежей!..
Аскетом Сковорода не был и за духовной беседой иногда выпивал лишнюю чарку вина. Не ставил он слишком суровых требований и своим ученикам. Но это отдание земле земного не мешало ему иногда воспарять на крыльях энтузиазма высоко над «глинкой». Люди, завязшие в «глинке», не знают этих взлетов, не верят им, но о них говорит не один Сковорода.
– Имея разженные мысли и чувствие души моей благоговением к Богу, – рассказывает Сковорода, – встав рано, пошел я в сад прогуливаться. Первое ощущение, которое я осязал сердцем моим, была некая развязность, свобода, бодрость, надежда с исполнением. Введя в сие расположение духа всю волю и все желания мои, почувствовал я внутрь себя чрезвычайное движение, которое исполнило меня силы непонятной. Мгновенно излияние некое сладчайшее наполнило душу мою, от которого вся внутренняя моя возгорелась огнем, и казалось, что в жилах моих пламенное течет кругообращение. Я начал не ходить, а бегать, акибы носим неким восхищением, не чувствуя в себе ни рук, ни ног, но будто бы весь я состоял из огненного состава, носимого в пространстве кругобытия. Весь мир исчез подо мною, одно чувствие любви, спокойствия, вечности оживляло существование мое. Слезы полились из очей моих ручьями и розлили некую умиленную гармонию во весь состав мой. Я проник в себя, ощутил аки сыновнее любви уверение…
Так, в скитаниях и неустанном горении прошла вся жизнь Сковороды, пришла старость и болезни. Но он продолжал свою проповедь. И по-прежнему девизом дней его были слова, обретенные им у Исайи: Божий есьмь. И пришел он к одному из друзей своих, к которому собрались гости повеселиться и, если удастся, послушать Сковороду. После обеда Сковорода вдруг исчез. Хозяин пошел искать его и нашел его в саду: он рыл себе могилу. Хозяин пытался было отвлечь друга от таких мыслей, но Сковорода говорил, что пора успокоиться, и просил похоронить его здесь, на возвышенном месте, близ рощи и гумна… Он прошел в свою комнату, переменил белье, помолился Богу и, подложивши под голову свитки своих сочинений, милую Библию, невесту свою, голубицу, и серую, старую свитку, помер. И на могилке его, по его завету, написали: «Мир ловил меня, но не поймал»…









































