Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
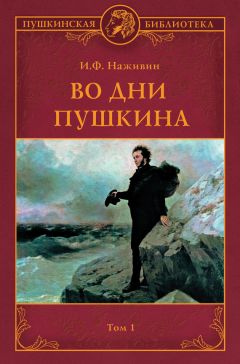
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
L. Под звон цепей
Тотчас после осуждения «декабристов» жены некоторых из них ярко вспыхнули жертвенным огнем: «я должна разделить с мужем его несчастие». И ни в чем не проявилась так тупая, холодная, жестокая душа Николая, как в его отношении к этим женщинам. Он не только сделал все, чтобы заставить их невыносимо страдать, он поставил перед ними бесчеловечнейшую из задач: или муж, или дети. А когда женщины этот подлый вызов приняли и принесли самую страшную для женщины жертву, жертву детьми, этот коронованный зверь, этот нечеловек, боясь общественного мнения Европы, приказал тайно чинить им на их пути на Голгофу всяческие препятствия.
Первою из них, по еще не остывшим следам мужа, бросилась в Сибирь княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая. Отец ее, граф Лаваль, французский эмигрант, начал свою деятельность в России учителем в морском корпусе. Он очень понравился младшей дочери статс-секретаря Козицкого. Мать ее, однако, никак не соглашалась на брак. Смелая девушка опустила жалобу на мать в особый жалобный ящик, который приказал поставить Павел I. Прочитав жалобу, Павел потребовал объяснений. Козицкая – наследница несметных миллионов купцов Мясниковых и Твердышевых, – уже выдавшая старшую дочь за обершенка князя Белосельского-Белозерского, объяснила: 1 – Лаваль не нашей веры, 2 – никто не знает, откуда он и 3 – чин у него небольшой. Сейчас же последовала резолюция его величества: 1 – он христианин, 2 – Я его знаю и 3 – для Козицкой чин его вполне достаточен, а посему: обвенчать. Несмотря на то, что повеление это последовало накануне постного дня, оно было тотчас же приведено в исполнение. Екатерина Ивановна была дочерью храброй девицы. Отец дал ей в провожатые своего секретаря. В Красноярске уже у нее сломалась карета, а ее провожатый заболел. Она пересела в тарантас и только вдвоем с прислугой пустилась в те сибирские просторы, которые наводят ужас даже на карте. Но ей оставалось до Нерчинской каторги уже только 700 верст. Она обратилась к губернатору, Б.И. Цейдлеру, чтобы получить у него некоторые справки, и, если можно, то провожатого. Тот уже получил из Петербурга приказание всячески тормозить проезд жен «государственных преступников»…
– Конечно, я готов всячески содействовать вам, княгиня, – сказал старик. – Но я весьма рекомендовал бы вам еще и еще обдумать ваш шаг… Вы не знаете, на что вы идете… Ведь там сосредоточено до пяти тысяч каторжников, то есть людей, у которых нет ni foi, ni loi[92]92
Ни веры, ни закона (фр.).
[Закрыть], и вам придется жить в одной казарме с ними, в грязи, в насекомых, без всяких удобств, без прислуги…
Некрасивая, лобастая, полная княгиня просияла.
– Благодарю вас, генерал, – своим приятным голосом сказала она. – Но я взвесила уже все и на все готова…
– Хорошо-с… – с удрученным видом сказал губернатор. – В таком случае пожалуйте завтра: я должен навести некоторые предварительные справки в законе. Вы понимаете, что такой случай, как ваш, администраторам приходится решать не часто…
– Так я приду завтра, – сказала она. – Я прошу вас только об одном, генерал: дайте мне возможность скорее выехать на место…
– Сделаю все, что в моих силах, княгиня.
Но, когда на следующее утро княгиня снова явилась в его приемной, генерал, хмуря свои густые брови и стараясь не смотреть на нее, угрюмо сказал:
– Увы, закон неумолим, княгиня! Прежде чем выпустить вас отсюда к кня… к вашему супругу, – поправился он, – я должен буду предложить вам подписать вот эту бумагу…
Княгиня быстро взяла лист, который он протягивал ей, и стала читать. Это была подписка в том, что она добровольно отказывается от своего княжеского титула и от всякого имущества, – а оно у Трубецких было огромно – не только того, которым она владела теперь, но и того, которое могла потом получить по наследству.
– Хорошо. Я согласна… – сказала она. – Вы можете дать мне перо?
Губернатор молча указал на столик, на котором стояла канцелярская чернильница, и княгиня, склонившись, подписала отречение.
– Пожалуйста… – сказала она. – Значит, теперь я могу ехать?
– Извольте-с… – пожал тот сумрачно плечами. – Я сейчас же прикажу заготовить вам подорожную и вообще все необходимые бумаги, а вы будьте любезны зайти завтра…
– Благодарю вас, генерал…
Она вышла, а губернатор, хмуря седые брови и потирая поясницу, тяжело прошел в свой кабинет, долго, насупившись, стоял у своего рабочего стола, а затем вздохнул, медленно разорвал на мелкие клочки бумагу, подписанную княгиней, и бросил ее в корзину.
Но когда княгиня пришла опять на следующее утро, ее встретил адъютант губернатора, молодой офицер с претензиями на столичный лоск и с запахом помады.
– Извините, ваше сиятельство, – склонился он, – но его превосходительство болен и не может принять вас…
– Ах, Боже мой!.. – сразу затуманилась княгиня. – Но, может быть, генерал найдет возможным… Ведь только одной его подписи недостает, кажется…
– Его превосходительство не спали всю ночь, и никто не решится тревожить их теперь… Будьте добры, княгиня, подождите до завтра…
– Делать нечего… – не удержавшись, дрогнула она голосом. – Надо покориться…
И про себя она подумала, что она не княгиня больше, а только жена каторжного и губы ее задрожали… Не слушая молодого человека, она повернулась и, глотая слезы, вышла.
Прятался генерал и на другой день, и на третий, и на четвертый. Княгиня изнемогала. И вот, наконец, старик «выздоровел».
– Все бумаги вам готовы, княгиня… – сказал он, кряхтя. – Но опять извините: чтобы не пугать вас, главного не сказал вам…
– Говорите теперь, генерал…
– Княгиня, я могу отправить вас не иначе, как пешком, с очередной партией каторжан, по канату.
– Как по канату? – не понимая, нахмурила она брови.
– Но… – смутился старик. – Но все каторжники идут прикованными к канату… И я не могу сделать исключения и для вас…
– Я согласна, генерал… – мягко сказала она.
Из глаз старика брызнули слезы.
– Хоро… шо… – с усилием выговорил он хриплым басом и, сердясь на свою слабость, бросил: – Вы поедете… как следует… Я сейчас… все… приготовлю… Присядьте…
И он торопливо вышел. И тотчас в кабинете послышался сердитый звонок.
– Сейчас же подать мне на подпись все бумаги для княгини Трубецкой, – сурово бросил он адъютанту. – И озаботьтесь отправить княгиню как следует… В провожатые выберите людей понадежнее. Я отдаю все это дело на вашу личную ответственность…
Адъютант поклонился и вышел на цыпочках: старик был явно не в духах…
Генерал тяжело задумался у стола. «В Петербурге будут недовольны, конечно. Но… – Старые глаза сверкнули, и генерал загнул крутое солдатское ругательство. – Но… черт их там всех бери! Могли задержать и сами, если угодно… Европы все боятся… А ты возись тут с сумасшедшими бабами!..» Через четверть часа, сердито расчеркнувшись на бумагах, он, хмурый, вышел в приемную. На усталом лице княгини был теперь глубокий покой и какие-то отсветы изнутри. Генерал стал сердито объяснять ей все – он все боялся, что опять разволнуется и тем уронит свое служебное достоинство в глазах этой сумасшедшей.
– Благодарю вас, генерал, от всего сердца. Так я могу завтра на рассвете выехать?
– Можете…
– В таком случае я прощусь с вами теперь же… От всего сердца благодарю вас… Я буду молиться за вас, генерал…
Генерал склонился белой головой к полной руке княгини, набожно поцеловал ее и, не говоря ни слова, твердым, фронтовым шагом, ничего не видя, пошел к себе. «Нет! – думал он все также сумрачно. – Никуда я больше не гожусь, старая ж…»
А княгиня понеслась в страшную даль каторги…
За ней уже готовились и другие – преодолевая страшное сопротивление стариков, раздирая душу в прощании с детишками… И первой вырвалась княгиня М.Н. Волконская, дочь Ганга. И если в салоне возвышенной Зинаиды она невольно кокетничала немного своим подвигом, то, как только вынеслась она из Петербурга в снежные просторы, так в душе ее затеплилась тихая лампада. Для нее подвиг этот был тяжелее, чем для других: князь Сергей Григорьевич был вдвое старше ее, и она вышла за него замуж без любви, покорная воле своего отца, старого героя 1812 года, Н.Н. Раевского. И, когда приехала она в Иркутск, она с изумлением увидела, что к ее кибитке сзади были привязаны маленькие клавикорды: то был подарок утонченной Зинаиды…
По пути и ее всячески стращали, но она, зная, что княгиня Трубецкая чрез все эти мытарства уже пробилась, легче одолевала препятствия, тем более что они становились все слабее и слабее: сибирскому начальству просто-напросто надоело по команде из Петербурга валять дурака.
И так вокруг Благодатского рудника собралось несколько милых женщин. Первое время их жизнь была крайне тяжела. Они узнали и голод, и холод, и грязь. Неумелыми руками они мыли полы, стирали, стряпали, а когда стряпать было нечего, питались хлебом и квасом и за неимением ниток шили рыбьими жилами. Стужа стояла месяцами смертная, сибирская: «как плюнешь, так и покатится», говорили сибирские модницы. Но они твердо несли свой крест. Марья Николаевна даже внешне поддерживала старый тон: всегда была приодета, в перчатках и вуалетке. Для каторжного татарина, невинно осужденного по подозрению в убийстве, она выписывала Коран на татарском языке, для ссыльного еврея из Белой Церкви еврейскую Библию, а когда Вася, брат ее горничной, последовавшей за ней в Сибирь, перестал писать письма сестре, она сама писала эти письма, будто бы от Васи, и в почтовые дни читала их восхищенной Маше…
А на их глазах за высоким частоколом изнывали их мужья. Когда же пытались они приблизиться к частоколу, чтобы видеть их поближе, то иногда получали и удар прикладом от часового. Собственно каторжная работа не так уж больно била по декабристам: им задавали уроки сравнительно небольшие, с которыми они справлялись легко. Иногда и уголовные каторжане, забыв под землей, в неволе, всякое различие между костью белой и костью черной, брали у них молоты и в несколько минут делали за них то дело, которое от них, непривычных, потребовало бы часов, тем более что цепи чрезвычайно стесняли их… Но угнетала их невыносимая теснота, грязь и мучительное чувство неволи. Чтобы забыться, они коротали время в чтении и занятиях. Кто мог, обучал других. Никита Муравьев читал товарищам стратегию и тактику…
С наступлением темноты – свечей иметь не позволяли – они коротали время рассказами или Михайлы Кюхельбекера о его кругосветном плавании, или А.О. Корниловича по отечественной истории: он был перед арестом издателем журнала «Русская Старина». В продолжении нескольких лет он имел свободный доступ в государственный архив, где почерпнул немало запретных сведений, в особенности о царствовании Елизаветы и Анны… Для порядка в своем первое время убогом хозяйстве арестанты избрали «хозяина», и первым был избран И.С. Повало-Швейковский, который первый со своим батальоном вступил в Париж в 1814 году. Единственным событием, которое разнообразило их однообразную жизнь, была церковная служба. И первая пасхальная заутреня – в 1828 году, – когда они после возгласа «Христос воскрес!» бросились один к другому, звеня цепями, на шею, навсегда осталась в их памяти.
Потом, постепенно, с годами, когда острые углы этой страшной жизни пообтерлись, были выписаны лучшие руководства на всех европейских языках по ремеслам, инструменты, чертежи. И они сделались переплетчиками, портными, сапожниками, токарями, слесарями, столярами, часовых дел мастерами, парикмахерами, поварами, плотниками, кондитерами, а один сам смастерил чудесный планшет для топографических съемок.
Сношения их с внешним миром находились под строгой цензурой, но… они получали запрещенные газеты и даже книги: в газеты родные завертывали вещи, а в книгах выдирали страшное заглавие и вклеивали другое: Traité d’archeologie или de botanique[93]93
Руководство по археологии или ботанике (фр.).
[Закрыть], например. И между собой сношения были затруднены. Раз Марье Николаевне нужно было дать знать А.Г. Муравьевой, что скоро их отправят в Читу. Она написала ей письмо, в котором стала описывать ей прекрасные берега Аргуни, которые ей будто бы напомнили известный стих Байрона: in a fortnight we will leave this dreadfull place…[94]94
Через две недели мы покинем это ужасное место (англ.).
[Закрыть]
Подозрительность к ссыльным доходила до того, что им не позволяли самим бриться, не давали иголок из опасения, что они сделают из них магнитную стрелку для бегства, отламывали у щипцов кончики, чтобы они не могли воспользоваться ими, как орудием нападения. Обыски были беспрестанные…
Но тяжкая жизнь эта часто согревалась подвигами самоотречения. Так, когда молодой красавец кавалергард, А.М. Муравьев, окончил срок каторги, – ему Николаем был назначен только один год, – он заявил, что он останется в каторге до тех пор, пока не кончит срока его брат, которому нужно было томиться двенадцать лет…
Конечно, в подземельях или в ночи не раз жгучая слеза туманила душу обреченных, но между собой днем они поддерживали бодрый и даже веселый тон. О процессе не говорили и взаимных счетов не поднимали. Якубович, поведение которого 14-го было так некрасиво, ботвил и строил дурака беспрестанно, и все делали вид, что забыли все. Ни слова упрека не слыхал Трубецкой… И иногда, возвращаясь с прогулки по двору, молодежь разом распахивала двери, и в лихой мазурке влетала одна пара за другой в казематы – под звон цепей.
На зорьке жены издали уже караулили появление их. И тут особенно были они строги к себе, чтобы как не выдать тайного страдания.
Отечество наше страдает… –
в утренней тишине затягивает вдруг своим задушевным тенорком добродушный Одоевский, и с увлечением подхватывает, под перезвон кандалов, хор:
Под игом твоим, о злодей!
И Марсельеза растет, разгорается, тихий Пущин старается петь басом, – ему кажется, это как-то солиднее – Якубович, дурачась, делает грозные жесты, и все гремят:
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей!..
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами,
Вот клятва каждого из нас!..
Караульные солдаты и офицеры бодро маршируют под песнь свободы, а издали слушают огневые звуки и лязг железа жены каторжан, и по истомленным лицам их катятся тяжелые слезы…
LI. За палисадом
Среди этой малоопрятной уже, обросшей волосами, звенящей кандалами толпы «декабристов» держался, как всегда, немножко на отшибе, в сторонке, но как-то просто, естественно, необидно, недавно прибывший на каторгу из Свеаборга Михаил Сергеевич Лунин, в прошлом блестящий гвардеец, адъютант великого князя Константина. Ему было уже за сорок – он родился в бурные годы французской революции, – но все еще не увяла его мужественная красота и, как и прежде, смело смотрели в мир его серо-голубые глаза, то мягкие, точно бархатные, то жесткие, полные стальных отблесков. Он родился в знатной и чрезвычайно богатой семье и никогда не знал школьной тесноты и поравенки. Он воспитывался дома гувернерами-иностранцами, среди которых были англичане, французы, швейцарцы и шведы. И, когда потом, на следствии, генералы спросили его, когда он «заразился» свободомыслием, – в понятиях их превосходительств свободомыслие являлось чем-то вроде неприличной болезни, – недавно блестящий гвардеец надменно, совсем в стиле XVIII века и Руссо, ответил им:
– Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить, укреплению же оного способствовал естественный рассудок…
Но по-русски он до конца дней своих писал плохо и народа, быта, России почти совсем не знал: он, как он думал, знал Человека вообще.
В 1805 году Лунин поступил в кавалергардский полк. В Европе все более и более поднимал голову Наполеон. Лунин предложил русскому правительству послать его к «узурпатору» парламентером с тем, чтобы, подавая ему бумаги, всадить ему в бок кинжал. Кинжал был уже готов у него. Русская «ретирада» произвела на Лунина очень сильное впечатление, а в особенности та ночь, которую после разгрома русских под Фридландом он провел с императором Александром – он был ординарцем при нем – за Неманом. Русская армия была в полном расстройстве. Солдаты уже не обращали на начальство никакого внимания: только бы отдохнуть, поесть и обсушиться. Деревни разбирались на топливо – только одну избушку удалось отстоять для русского царя. Но и у нее ставни были уже сорваны и сени разломаны. Никто не спал. Сидя за перегородкой, Лунин слышал, как Александр утешал совсем раскисшего друга своего Фрица. Генералы то и дело входили в избенку с донесениями: все ждали, что Наполеон двинет войска свои чрез Неман… И вдруг над головами послышался жуткий треск. Лунин выбежал и увидел, что русские солдаты ломали над головой царя крышу: топлива для костров не хватало…
Наполеон ворвался в пределы России. Лунин, как всегда, был в первых рядах. Рано утром, под Смоленском, Н.П. Муравьев встретил раз Лунина с его лакеем. Лунин в своем белом кавалергардском колете шел со штуцером в руках, а лакей за ним нес другое ружье. На удивленный вопрос Муравьева, откуда он идет, Лунин отвечал, что из сражения: вместе с рядовыми он стрелял и двух убил. Опасности для него точно не существовало. Он беспрестанно дрался на дуэлях. Однажды А.Ф. Орлов – тот самый, который атаковал с своими кавалергардами повстанцев на Сенатской площади 14 декабря, – в его присутствии сказал, что «всякий честный человек не может думать иначе».
– Я советую тебе взять эти слова обратно… – спокойно сказал Лунин. – Можно быть вполне честным человеком и, однако, иметь совершенно иное мнение…
Разговор закончился поединком. Условлено было стрелять до трех раз, сближая после каждого выстрела расстояние. Лунин был известен как отличный стрелок, и все считали, что часы Орлова сочтены. Первым стрелял Орлов и пулей перебил перо на шляпе Лунина. Лунин выстрелил в воздух. Сошлись ближе, и Орлов сбил пулей эполет Лунина. Лунин выстрелил в воздух. Орлов опомнился и, бросив пистолет, кинулся к Лунину на шею…
Однажды великий князь Константин в припадке сумасшедшего романовского гнева наговорил кавалергардам таких дерзостей, что все офицеры подали в отставку. Великий князь струсил и, сделав кавалергардам смотр, публично принес им извинения, причем добавил, что он готов дать и личное удовлетворение тому, кому этих извинений будет мало.
– Позвольте мне воспользоваться этой честью, ваше высочество… – выступил Лунин.
– Но вы слишком уж молоды… – улыбнулся великий князь.
И с тех пор у него установились с Луниным дружеские отношения.
С отцом он не ладил, и старик крепко теснил его в денежном отношении. Кончилось разрывом, и Лунин бросил все и почти без денег уехал во Францию. Но он не опустил головы и, как всегда, сыпал, удивляя всех, дерзкими афоризмами. «Бунт – это священнейшая обязанность каждого», – говорил он одному. «Гражданин вселенной! – говорил он другому. – Лучше этого титула нет на свете…» В Париже он стал лицом к лицу с жестокой нуждой. «Я сжег все свечи, – писал он своему другу, – дрова тоже, табак выкурил, деньги истратил, а между тем наступил срок платежей. Вот я в каком положении. Унывать не следует, но подумать нужно…» Он уповал на свой роман «Лжедмитрий», который он писал по-французски. Какой-то француз-поэт сказал, что «сам Шатобриан не написал бы лучше», но… этим сыт не будешь. Тут вмешалась вдруг в его дела судьба: раз возвратившись из своих скитаний по Парижу, – он с одинаковым вниманием слушал на публичных собраниях и декламацию романтиков, и тонкую диалектику иезуитов, и страстную проповедь утопистов, – он узнал, что к нему заезжал сам Лафит, знаменитый банкир. Оказалось, что старик Лунин умер и в руках его романтического сына вдруг очутилось огромное состояние.
Он оставил Париж, своих новых друзей – среди них был и Сэн-Симон, – вернулся в Россию, попал в масоны, попал в Союз Спасения, и на одном из допросов Пестель сообщил, что еще в 1817 году Лунин предлагал организовать покушение на Александра на царскосельской дороге, причем во главе отряда заговорщиков он был готов стать сам.
Деятельность – или, точнее, разговоры – тайных обществ не удовлетворила Лунина, и он отстранился от них, уехал в Варшаву и надел там опять гусарский мундир. У него была огромная библиотека и не менее огромная псовая охота. Жизнь вел он разгульную, на службу обращал внимания весьма мало и еще меньше – на начальство. Из варшавских дней своих – он прослужил там восемь лет – в глубину сибирских рудников унес он одно видение.
«Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду, – рассказывал он в письме уже с каторги сестре. – На ней черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, а на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка, освободителя Вены. Ее девственный взор блуждал вокруг, как будто следил за причудливыми изгибами серебряной тесьмы моего гусарского доломана. Мы шли вдоль галереи молча. Нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы увидели Вислу: ее желтые волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг удар колокола потряс окно, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria, протянула мне руку и скрылась… С этой минуты счастье в мире исчезло также. Моя жизнь, потрясенная политическими бурями, обратилась в беспрерывную борьбу с людьми и обстоятельствами. Но прощальная молитва была услышана. Душевный мир, которого никто не может отнять, последовал за мной на эшафот, в темницу и ссылку. Я не жалею ни об одной из своих потерь. Правнучка воина является мне иногда в сновидениях, и чувство, которое бы ей принадлежало исключительно, растет и очищается, распространяясь на моих врагов…»
Потом надвинулись и на Варшаву страшные дни декабря. Великий князь, надо отдать ему справедливость, дал Лунину все возможности скрыться заграницу, но он не захотел. Уже зная об арестах, он спокойно уехал на медвежью охоту на Силезскую границу, а когда он вернулся, его уже ждал фельдъегерь от Николая. На допросе Лунин держался мужественно и красиво и ни одним словом не изменил ни делу, ни товарищам, ни себе. К начальству он был, как всегда, презрителен, и, когда он сидел уже в каземате и начальник крепости спросил, не нужно ли ему чего, он, указывая на капли, падавшие с сырого потолка, сказал:
– Ничего особенного – разве зонтик…
Таким же он остался и в каторге: держался особняком, постился и молился по католическому обряду – он перешел в католичество еще в молодые годы, под влиянием одного из своих гувернеров, о. Вовилье, иезуита, – и думал свои думы. Одно время он задумал было побег и начал усиленно подготовлять себя для блужданий в страшном безлюдье Сибири, но потом, поняв, что этим он подведет товарищей, мысль эту оставил…
Тихонько напевая что-то молитвенное, Лунин бродил один взад и вперед вдоль палисада… В углу острога, то и дело оглядываясь, Волконский торопливо говорил с женой в щель между бревен. Лунин осторожно покосился на них и – вздрогнул: на него пристально и тепло смотрела Марья Николаевна. Вся душа его взволновалась. Под теплыми глазами девы Ганга в просторах Сибири для него уже давно расцвел никому незримый, но полный прелести неизъяснимой, таинственный цветок. Ему казалось, что в деве Ганга есть какое-то сходство с той, с внучкой Яна Собесского. Может быть, никакого сходства между ними и не было, но ему было так сладко соединить их обеих в одну… Он в поклоне снял перед ней свой сибирский малахай и, звеня цепями, пошел, не оборачиваясь, прочь… А она, говоря с мужем, не отрываясь, смотрела вслед этому орлу с подбитыми крыльями, который взял вдруг здесь, в Сибири, ее душу в сладкий плен… Но в этом она не признавалась даже самой себе…









































