Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
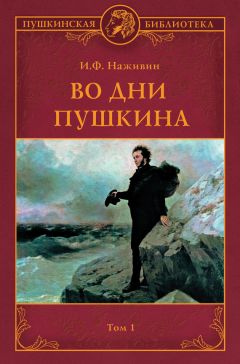
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– А я, друже, все прилаживаюсь, как бы дать стрекача… – сказал Пушкин. – Я не могу отказать себе в удовольствии надуть Белого – так он звал иногда царя – и всех аггелов его…
– Вот именно по этому-то делу я и приехал… – сразу принял озабоченный вид Алеша. – Мне пришла по этому поводу прямо гениальная мысль…
– Да не может быть!.. – захохотал Пушкин.
– Факт. Я поеду за границу и возьму с собой кого-нибудь из слуг. От границы я отошлю его обратно домой, а вы с его паспортом переедете Рубикон…
– Отец!.. Блогодетел!.. – закричал Пушкин. – Век не забуду!.. Но постой: а как же потом ты сам вернешься к Белому? За такие художества он сожрет тебя со всеми потрохами…
– Ну… – пренебрежительно отмахнулся Алеша. – Устроиться всегда как-нибудь можно…
– Няня, Родионовна!.. – завопил Пушкин. – Волоки немедленно шампанского!.. Впрочем, нет: ко мне заезжал недавно Дельвиг, и шампанское мы выдули все… Ну, хоть наливки, что ли, какой… Или бутылочку Бордо, может быть?
– Нет, нет, лучше всего квасу… – сказал Алеша. – Такая жара… Да, a propos: к нам скоро приедет моя очаровательная кузина, Анна Петровна…
– Керн? – сразу просиял Пушкин.
– Да. Она в письме спрашивает о вас…
– Давно не видал я ее… – сказал Пушкин задумчиво. – С тех пор, как встретились мы с ней у Олениных в Приютине… Какая женщина!.. Этот девственный вид ее… и в то же время эти страстные глаза… Когда же у вас ждут ее?
– Чрез неделю или две…
Они уселись в полутемной от прикрытых для прохлады ставен гостиной, надулись холодного забористого квасу, а чрез полчаса на дворе захлопали уже пистолеты: они состязались в стрельбе в цель. Пушкин, как всегда, отличался.
А Иван Иваныч Лаптев уже вернулся к себе в Опочку, управился с домашними делами, всласть попил чайку с пушкинским апельсином, а потом достал синюю, порядочно засаленную тетрадь своего дневника и, надев очки, – больше для важности: он видел хорошо, – начал медлительно вписывать сегодняшние события:
«29 майя в Св. Горах был о девятой пятницы. И здесь имел счастие видеть Александру Сергеевича Г-на Пушкина, который некоторым образом удивил меня страною своею одеждою, а на прим. у него была надета на голове соломенная шляпа – в сицевой красной рубашки, опоясовши голубою ленточкою с железною в руке тростию, с предлинными чор. бакинбардами, которые болие походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим апетитом я думаю около 1/2 дюж…»
XII. Веточка гелиотропа
Пронеслась веселая летняя гроза, освежившая пылающую землю и засыпавшая леса и травы россыпями бриллиантов. Дышалось, как в раю… Крестьяне, как только синяя туча свалила и в небе засияла нарядная радуга, снова бросились в поля, – жатва была в полном разгаре, – и, опаленные солнцем, за страду исхудавшие, они снова с головой ушли в тяжелый труд… А все тригорское общество, под предводительством Зиночки, забрав разномастные корзинки, весело углубилось в душистую прохладу леса по грибы.
Пушкин не отходил от Анны Петровны. Она словно огромила его с первого взгляда. Она очаровательна была и тогда, когда он впервые увидал ее у Олениных, но за эти годы она еще более расцвела, и теперь красота ее была просто мучительна.
Отец ее, малороссийский помещик Полторацкий, вообразил себе, что счастье дочери может составить только генерал. Другим женихам, не генералам, отказывали без всякого разговора. Наконец, генерал явился. Ему было за пятьдесят, но у него были чудесные золотые эполеты. Чуткая и чувствительная Анета с ее удивительными «томными» глазами пошла за эполеты. Но ни красота ее, ни «томность» не подействовали – как это полагается – возвышающим и смягчающим образом на ее генерала: он быль груб, необуздан и ревновал ее ко всем, даже к отцу ее. Промучившись с ним восемь лет, Анета добилась-таки свободы, оставив, однако, за собой генеральский чин. Дочь свою она, чтобы не мешалась, отдала в Смольный, а сама все свое время отдавала поклонникам, над сердцами которых ее томные глаза были всемогущи. Она почувствовала впечатление, которое произвела на молодого поэта, о котором говорила уже вся читающая Россия; между ними сразу началась горячая игра, которую сдерживало только присутствие тригорской молодежи. Да и тетушка Прасковья Александровна сразу насторожилась… Взволнованный Пушкин в эти дни был то шумно весел, то грустен и молчалив, то робок, то дерзок до чрезвычайности, то очень любезен, то томительно скучен… И дома, грызя по своей привычке свои и без того уже изгрызенные перья и совершенно не замечая терзаний бедной Дуни, он все писал стихи, но как только можно было уносился с утра в Тригорское…
– Смотрите: белый!.. – воскликнула Анна Петровна своим певучим голосом. – И какой молоденький!..
Она была вся в белом и только у корсажа был приколот маленький букетик гелиотропа.
– Нет, это подосиновик… – осторожно освобождая гриб из чащи трав, сказал Пушкин. – Посмотрите, какой красавец!..
Грибы не занимали его. Он решил, что сегодня он скажет ей «все». Но вокруг шумела молодежь. Алеша страстно любил ходить по грибы, но он считал это занятие недостойным серьезного человека, который собирается поступить в гвардию, и потому он небрежничал и снисходительно улыбался на одушевление девиц, которые несколько кокетничали своими лесными восторгами. Но когда ему вдруг метнулась в глаза пара крепких, осанистых темноголовых боровиков, важно усевшихся между узловатыми корнями старой сосны, он бросился к ним и, присев, стал осторожно, с восторгом, выдирать их из мокрой, пахучей земли…
– Тише… Ну, куда вы, как козы, бросились?! – строго прикрикнул он на девиц. – Передавите еще все… Они всегда растут семьями…
Не кончив фразы, он бросился в сторону, раздавил сам пару молоденьких светлых белых и присел около крупного, уже распушившего шапку зонтом боровика.
– Каков? – совсем забыв о солидности, воскликнул он. – Настоящий Бова-королевич!..
– А-у-у-у!.. – крикнула вдруг красавица Алина. – Зиночка, где же ты?
– Здесь, здесь я… – отозвалась та из-за густого малинника. – Александр Сергеевич, а-у-у-у!..
Ответа не было. Вдали, среди золотых стволов сосен, играя в светотени, мелькали, то темнея, то вспыхивая, стройные фигуры Анны Петровны и Пушкина, который, потупившись, шел рядом с ней…
– Не до тебя теперь твоему Александру Сергеевичу… – усмехнулась Алина.
Аня, закусив губу, потупилась: ей было больно…
– Анюта, a-y-y-y!.. – крикнула Прасковья Александровна племяннице.
За ней следом шла босоногая Катька с аккуратненькой корзиночкой в руках. Прасковья Александровна концом зонтика указывала ей грибы: Катька отнюдь не смела первая замечать их и, так сказать, подсказывать хозяйке. Прасковье Александровне казалось, что ее гостья повела игру с поэтом слишком уж откровенно.
– Анюта, а-а-а-у-у-у!.. – настойчивее крикнула она.
Анна Петровна сразу опомнилась.
– А-у-у-у-у!.. – пропела она. – Идем…
И она повернула к молодежи, красивой пестрой цепью наступавшей в глубь леса. Пушкин завял. Зина заспорила с матерью.
– Да почему же не брать лисичек?.. Вот странно!.. Вы сами любите их в соусе…
– Конечно… – отвечала мать. – Вот сойдут белые, тогда будем брать и лисички, а теперь, когда… Катька, что же ты рот-то разинула, мать моя? Сорви вон тот подберезовик… А ноги-то я все-таки, красавицы, промочила… Пожалуй, еще насморк все схватим. Это все ты, егоза!.. – с притворной строгостью обратилась она к Зине. – Надо было выждать, пока хоть немного обсохнет…
Но в лесу было так хорошо. Местами блудными косыми полосами прорезывали его душистый полумрак солнечные лучи. И бриллиантами сверкали последние капли дождя, срывавшиеся с ветвей на блаженно размокшую и парившую землю… Алеша под шумок отбился: за темным оврагом было его любимое местечко.
– А вот рыжиков еще нет… – сказала Анна Николаевна, чтобы скрыть грусть, которая захватывала ее. – Разве после дождя пойдут…
– Нет, есть… – отозвалась мать. – Катька нашла три, да никуда не годны, совсем трухлявые… Какие теперь рыжики – вот после третьего Спаса…
Пушкин, ничего не видя, раздавил несколько молодых маслят.
– А еще помещик!.. – сразу взяла его в переплет Зина. – А маслят не видит… Где вы? На Парнасе?..
– А вы едали когда-нибудь похлебку из гречневой крупы с маслятами? – улыбнулся он ей. – Объедение!.. Когда няня наладит мне ее, я пришлю за вами верхового… А посмотрите, как красивы эти красненькие сыроежки на солнце…
– А почему их так странно зовут? – спросила Анна Петровна, так только, чтобы показать еще и еще раз теплую музыкальность своего прелестного голоса.
– Потому, что в народе многие едят их сырыми…
– Да не может быть?! Бррр!..
– Почему же бррр?.. Едим же мы устриц… Посолят и едят, и говорят, очень вкусно…
– Ну, вкусно ли, этого я не знаю, – сказала Прасковья Александровна, – а вот моя Катька большая до них охотница… Ну-ка, Катька, покажи, как ты их ешь…
Катька застыдилась было, но справилась и взялась за красноголовые нежные, рассыпчатые грибки, которые от дождя блестели, как лакированные. Все засмеялись, и Катьке стало стыдно… А Пушкин злился: ему так хотелось быть со своей красавицей наедине. Она видела это и, играя им, нарочно держалась в стайке девушек.
– Ух, какой красавец!.. – вдруг восторженно рванулась вперед Зиночка. – Смотрите-ка!..
И она высоко подняла свою находку – осанистый темноголовый белый с бледно-желтым подбоем.
– Что? – погордилась она перед Пушкиным. – А вам бы только маслят давить… А кстати: знаете вы, как по-нашему, по-псковски, грибы?
– Пожалуйста!.. Сколько угодно!.. – в тон ей, задирая, отвечал поэт. – Грибы по-псковски, сударыня, блицы, а клюква – журавина, а стрекава – крапива… Пожалуйста, пожалуйста!..
– А что такое гульба?
– Картофель. Вероятно, от малоросейского бульба…
– А что такое… ну, упакать?..
– Упакать? Не знаю… Что такое? – заинтересовался он.
– Ага!.. – и она завертелась в восторге волчком. – Упакать, о, поэт, на нашем чудном псковском языке значит уладить… Пчиххх!.. – дурачась, громко чихнула Зиночка.
– Ну, вот… – сразу рассердилась Прасковья Александровна. – Непременно все насморк схватите… Едем домой… Нет, нет!.. – решительно воскликнула она, когда Зиночка заныла. – Если у вас всех носы пораспухнут, что скажут ваши поклонники?
Предостережение о носах сразу сломило всякое сопротивление, и все взялись дружно вызывать Алешу.
– Алеша, а-у-у-у!.. Алеша-а-а!..
И прозрачно, точно флейта, и свежо отвечало эхо: а-а-а… Алеша слышал их, но голоса не подавал: любимое местечко не обмануло его, и он, взъерошенный, промокший в душистой чаще до нитки, с почти уже полным кузовом все лазил за оврагом.
– Алеша, а-у-у-у!..
– Едем, едем… – торопила Прасковья Александровна. – Он придет и один… Вы знаете, какой он грибник… Садитесь… Маша, ты сядешь со мной…
И две коляски, запряженные ладными доморощенными лошадками, покатились по мокрой песчаной дороге к дому. С осиянных солнцем сосен падали, сверкая всеми цветами, последние капли. От запахов леса – мокрой хвоей, грибами – блаженно радовалась душа…
Ночь весенняя дышала… –
вдруг тихонько запела Анна Петровна прославившийся романс слепого Козлова, и все притихли.
– Кто это положил его на музыку? – тихонько спросил Пушкин у Анны Николаевны.
– Это венецианская баркаролла Benedetta sia la madre… – так же тихо отвечала она. И он не сводил горячих глаз с красавицы.
Не мила ей прелесть ночи… –
пела она, и ему чудилось, что она вкладывает в стихи что-то свое, только для него… И голова его кружилась… Потные, опаленные крестьяне, изнемогавшие от солнца, жажды и тяжкого труда, встречали коляски низкими поклонами и снова с серпом в руке склонялись в душистую, поникшую от дождя рожь…
– Вы удивительно поете… – сказал Пушкин. – Ваш голос точно вино!
– Но я не пою даром… – живо отвечала она. – Вы должны мне сегодня же прочесть ваших «Цыган»…
– Хорошо. Но вы споете мне эту вещь с роялью еще, и еще, и еще…
И, когда на широкой террасе, среди вековых лип, кончился чай со всевозможными вареньями и печениями, тут же, среди цветов, в золотой тишине вечера, Пушкин начал читать своих «Цыган»:
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют…
Ни его слушательницы, ни даже сам Пушкин никогда таких цыган не видали, никогда не существовало такого Алеко, ни такой Земфиры, но красивая сказка заворожила всех своими нарядно-поющими рифмами. Прасковья Александровна втайне немножко тревожилась, не слишком ли все это откровенно для девиц? – но ей хотелось быть на высоте века: читают же это все, печатают же… Но все же ей было немножко неловко…
Взгляни: под отдаленным сводом, –
все более и более разгораясь, звенел Пушкин, –
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит –
И вот – уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвля: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Красавица гостья про себя чуть усмехнулась. И ей казалось, что Пушкин вкладывает теперь в свою поэму что-то особенное, ей одной предназначенное, и она волновалась. И все невольно любовались им: он теперь, действительно, был обаятелен.
– Мерси… Прелестно… – пропела красавица, когда он кончил, и протянула ему руку. – Очень, очень хорошо…
Он видел, что она была взволнованна его стихами, и торжествовал. А Прасковья Александровна улыбнулась и уронила:
– Да… Но во всей поэме только один честный человек, да и тот медведь…
Все засмеялись…
– А вы знаете, Рылеев и Вяземский очень сердились, что Алеко не только водит медведя, но еще и деньги с публики собирает… – весело сказал Пушкин. – Рылеев просил, чтобы из Алеко я сделал бы хоть кузнеца, что ли… Но, я думаю, что еще лучше сделать из него чиновника или помещика. Правда, в этом случае не было бы и поэмы, ma tanto meglio…
– Но все-таки это хоть стихи… – авторитетно сказала Прасковья Александровна. – Но зачем вы пишете такое озорство, как эти ваши… как они там?.. «Ах, тетушка, ах, Анна Львовна, Василья Львовича сестра…» Совсем не остроумно…
Пушкин оскалился:
– Я надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу разрешается не всегда быть умными… – сказал он и вдруг захохотал: – Вы не можете себе представить, как разозлился мой дяденька Василий Львович на эти стихи! Мне пишут, что Мосолов, встретив его, поздравил с таким знаменитым племянником. «Есть с чем!.. – сразу разозлился тот. – Негодяй он, ваш знаменитый племянник!»
И он залился своим заразительным хохотом.
– Как у вас тут мило… – все играя, проговорила красавица печально. – И как жаль, что завтра я все это должна буду покинуть…
– Как завтра? – сразу встревожился Пушкин. – Но вы хотели…
– Да, но муж уже на взморье и ждет меня… – сказала она. – Завтра я должна выехать…
– Сегодня, на прощанье, мы поедем после ужина в Михайловское, – сказала Прасковья Александровна, которую немножко коробила смелая игра ее очаровательной племянницы с пылким поэтом, но в то же время и забавляла: эта непременно обработает!.. – Александр Сергеевич, вы ничего против не имеете?
– Но, Боже мой… Я в восхищении…
И, когда все деревни вокруг спали уже мертвым сном и через Сороть лег золотой мост полного месяца, две коляски лунными дорогами покатились в Михайловское. Запахи ночи – то сжатою рожью с посеребренных полей, то сладким духом болотных трав с берегов Сороти, то смолистою лесною глушью, то гелиотропом, свежий букетик которого Анна Петровна снова прицепила к корсажу, – сладко волновали души: хотелось дышать еще и еще, хотелось жить, хотелось быть счастливым во что бы то ни стало и скорее, скорее… И серебристые звезды чрез головы кучеров тихо плыли навстречу…
Старая усадьба спала. Но когда зазвенели в воротах глухари и бубенчики и залаяли по-ночному упорно собаки, в одном из посеребренных луною окон мелькнуло молодое, бледное лицо: неспавшая Дуня увидала в лунном свете две четверки, его – она признала его по соломенной шляпе – и их… И, закусив губу, она застонала тихонько…
– Мой дорогой Пушкин, окажите же честь вашему саду, покажите его госпоже Керн… – сказала Прасковья Александровна.
– С величайшей радостью… – отозвался он. – Идемте…
И он подал колдунье руку. Нежный запах гелиотропа и ее теплая близость пьянили его. Они опередили немного других в этих высоких, полных причудливой игры лунного света аллеях старого, запущенного сада. Светляки нежно сияли в траве. Вверху, над темными вершинами великанов, нежно попискивали летучие мыши…
– Сегодня я вознагражден за нашу первую встречу у Олениных… – сказал он. – Ах, как бесился я тогда, – помните? – когда вы уехали с Александром Полторацким!.. И у вас был такой вид, как будто вы… крест какой невидимый несете…
Она с колдовской улыбкой смотрела молча в это возбужденное лицо и вдруг тихонько зазвенела:
Не мила ей прелесть ночи…
У него в глазах потемнело, он схватил ее теплую руку, и вдруг рядом, за поворотом аллеи, раздался голос Прасковьи Александровны.
– Но Пушкин… Аннетт… Où êtes-vous donc?[28]28
Где же вы? (фр.).
[Закрыть]
Он заскрипел в бешенстве зубами, она серебристо рассмеялась и прелестным движением своей белой на луне руки протянула ему свои гелиотропы…
– Мы тут, тетя… – отозвалась она.
И, когда они уехали, он с пылающей головой бросился к себе, и, не вспомнив даже о Дуне, – она все давилась слезами в лунной мгле девичьей – всю ночь писал, перечеркивал и рвал стихи и – целовал исступленно ее привядшие гелиотропы… Заснул он только под утро, не надолго, а потом вскочил, как всегда, принял в бане ванну со льдом, приказал оседлать себе Малек-Аделя и, позавтракав, среди седых россыпей жемчужной росы понесся в Тригорское. По селам торжественно пел благовест: было воскресенье…
Там все суетилось в последних приготовлениях. Он едва мог уловить минуту, чтобы наедине передать ей с надписью отдельный оттиск второй главы «Онегина».
– It’s very nice of you…[29]29
Очень мило с вашей стороны… (англ.).
[Закрыть] – с улыбкой сказала она, прочитав надпись, и вдруг воскликнула: – А это что еще? Между страницами «Онегина» лежала вчетверо сложенная бумажка. Она развернула ее и с загоревшимися любопытством глазами стала читать:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты…
Она кончила и засияла на него теплыми глазами. Он пъянил ее своим волшебным даром…
– Вы… милый… – дрогнула она голосом. – Я пред вами в долгу…
Она хотела было спрятать стихи в шкатулку, как вдруг он выхватил их из ее рук и спрятал за спину: «Нет, – бешеной молнией пронеслось у него в мозгу, – я чужд ей, и для нее это только один лишний трофей!» Она не поняла, что было в его душе.
– Но это совсем не хорошо с вашей стороны… – опечалилась она. – Я от вас этого не ожидала…
В раскрытые настежь окна уже слышалось пофыркивание лошадей и говор бубенчиков: четверня ожидала у крыльца. А она низким, теплым голосом умоляла его отдать ей ее стихи… И, наконец, не в силах противиться ей, уступил…
Еще немного, и четверня унесла ее с Анной Николаевной и Алешей – он провожал дам до первой станции – в солнечные дали, а он, расстроенный, поскакал домой. Никогда еще не была так тяжка ему его неволя… И чрез несколько дней он писал на взморье Анне Николаевне:
«Все Тригорское поет: «Не мила ей прелесть ночи…» – и это сжимает мне сердце. Вчера мы с Алексеем Николаевичем говорили четыре часа подряд. Никогда у нас с ним не было такого долгого разговора. Узнайте, что нас вдруг соединило. Мука? Сходство чувства? Не знаю… Я все ночи хожу по саду, я говорю: «она была здесь…», камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, рядом с ним – завядший гелиотроп. Я пишу много стихов. Все это, если угодно, очень похоже на любовь, но, клянусь вам, что ее нет. Если бы я был влюблен, мною в воскресенье, когда Алексей Николаевич сел в ее карету, овладели бы судороги бешенства и ревности, а я был только задет. Однако мысль, что я для нее ничто, что, разбудив ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни более рассеянной среди ее триумфов, ни более пасмурной во дни ее печали, что ее прекрасные глаза будут останавливаться на каком-нибудь рижском фате с тем же душу разрывающим сладострастным выражением – нет, эта мысль для меня невыносима!..»
И она, сидя на светлом взморье, повесила голову над его письмом и из глаз ее одна за другой на беспорядочно исписанный листок бумаги, от которого пахло его табаком, капали и капали слезы…
XIII. Се стою у дверей и стучу…
Александр устал – не так, как устает крестьянин на своем поле, который на утро, выспавшись, снова со свежими силами берется за свой творящий жизнь труд, а устал, как загнанная лошадь, которая не понимает, за что ее мучают, и у которой, несмотря на жестокий кнут, нет больше сил идти вперед. Он устал жить. Жизнь опустела. Все человеческое рушилось… Умер на далеком, пустынном острове его соперник, жалкий Наполеон, умерла его дочь от Нарышкиной, Соня, уже невеста, которая готовилась выйти за Шереметева, умер генерал – адъютант Уваров, который с самого воцарения был около него и которого он особенно любил. Все упорнее нарастали слухи о заговорах. И в довершение всего к осени 1825 года здоровье Елизаветы Алексеевны стало внушать самые серьезные опасения, и врачи решили, что ей надо переехать почему-то в Таганрог…
Все человеческое рушилось. Жизнь лежала перед ним печальными развалинами. Царем в ней ему было делать уже нечего. Еще весной этого года Александр сказал посетившему его принцу Оранскому, что он скоро отречется от престола и уйдет… Но куда уйти, как?.. Даже его камердинеру Завитаеву трудно уйти – не выпустят, – но куда денется он, бедный самодержец всероссийский? А больная жена, которую нужно везти на юг? Он чувствовал себя в тонкой, но липкой паутине, и у него уже не было сил одним движением разорвать все путы и освободиться. Чем дальше, тем все больше боялся он действовать, ибо всегда из его намерений, точно по какому-то злому волшебству, получалось совсем не то, чего он хотел. И в эти тяжкие дни и он, и жена все пытались сблизиться, но ничего, кроме тяготы, из этих попыток не получалось.
31 августа, накануне отъезда в Таганрог, – он ехал один, чтобы приготовить все по пути для больной жены, – Александр поехал в Павловск проститься с матерью. Отношения с ней никогда у него не были хороши, она была совсем чужда ему, но так нужно было для людей. После обеда, прогуливаясь по саду, он зашел в Розовый павильон, в котором одиннадцать лет тому назад с таким торжеством было отпраздновано близкими возвращение его, победителя Наполеона, спасителя Европы. Где он теперь, его соперник? Где-то на затерянном среди океане островке, в земле. И это конец всему. Так для чего же так мучили они миллионы людей и себя? И вся жизнь исполнилась для него еще большей торжественности. А со старых деревьев тихо кружились листья и усыпали грустную, затихшую к зиме землю…
Он вернулся в Каменноостровский дворец и глубокою ночью, в четыре часа, без всякой свиты, – это было совсем необычно – отправился в далекий путь. На козлах темнела широкая спина Ильи Байкова, с которым он исколесил всю Европу и Россию.
– В Александро-Невскую лавру, Илья… – поставив ногу на подножку, сказал он.
– Слушаю, ваше величество…
И тройка быстро понесла одинокого и усталого царя темными улицами спящего Петербурга.
В лавре его ждали. Нельзя сказать, чтобы она благоухала подвигами благочестия, – сюда иноки выбирались больше по красоте черных, окладистых бород и по глубокому басу, – но Александр уже не обращал внимания на уродства жизни человеческой. Он поспешно вышел из коляски, принял от митрополита Серафима благословение, в сопровождении братки прошел в соборную церковь и опустился на колени около сияющей золотом раки Александра Невского. Начался напутственный молебен. И из глаз замученного жизнью человека полились слезы.
После молебна, глубоко взволнованный, он попросил проводить его к старцу схимнику. Согбенный, изможденный, весь прозрачный, старец в черной мантии с белыми черепами встретил его благословением на пороге своей кельи. Посреди нее угрюмо чернел в сиянии лампады гроб.
– Не бойся, – сказал схимник. – Это моя постель. И не только моя, но и всех нас… Все мы ляжем в нее и долго, долго спать будем…
Старец шелестящим голосом своим уныло говорил ему о смерти, о необходимости всегда быть готовым к ней, и сладко бередили торжественные слова его исстрадавшуюся душу. Александр тихо плакал. И, снова приняв от старца благословение, он простился с братией, и тройка быстро понесла его в темной ночи вдаль. Когда она вынесла его за заставу, Александр вдруг встал в коляске и, обернувшись, долго смотрел назад, в темный Петербург, над которым стояла светлая муть от фонарей – точно он прощался с этим страшным городом навсегда… Звезды, невидимые в городе из-за фонарей, здесь сразу засияли над его головой, и он, завернувшись потеплее в шинель, стал под ровный шум колес и цоканье копыт думать снова и снова над мучительной загадкой своей жизни, которая чем дальше, тем загадочнее становилась…
Прежде, в молодые годы, вершиной всей его жизни ему казалось то время, когда он, победитель Наполеона, совершал свое триумфальное шествие по Европе. И это казалось не только ему, но и миллионам людей. Но чем дальше, тем яснее чувствовал он, что и он, и Наполеон, и все эти миллионы людей, кровавым, безумным смерчем носившиеся по Европе, были игрушками каких-то таинственных сил, и что совсем не он победил Наполеона, а все как-то само собой кончилось: отгорели вспыхнувшие было страсти и потухли – до новой вспышки… И тем не менее все европейское человечество восторженно благодарило его за то, что он освободил это человечество от мучившего его человечества!..
Россия готовилась чествовать его с необыкновенной пышностью, но Александр воспретил всякие чествования, воспретил через синод священникам воздавать хвалу ему в проповедях, – по словам Карамзина, начиная с Петра «наши первосвятители были только угодниками царей и на кафедрах языком библейским произносили им слова похвальные», и Александр очень хорошо знал это усердие смиренных богомольцев своих – уже воздвигнутые триумфальные арки были сломаны и на медали в память этих страшных лет были выбиты по его приказанию слова: «Не нам, не нам, но Имени Твоему дай славу…» Но фимиам продолжала курить не только Россия, но и Европа. Его звали новым Агамемноном, блестящим метеором севера, благословенным, а старый Державин, бряцая, именовал его не иначе, как кроткий ангел, луч сердец…
В груди Александра – и одного ли Александра? – жили две души: одна была вся еще во власти земной паутины, а другая робко расправляла уже крылья для горних полетов. И, как у всех страстных людей, то побеждала в нем, пленнике земли, одна душа, то другая. Если земная душа доказывала ему, что надо ехать в Вену на конгресс и принимать участие во всем этом праздном и ни на что не нужном шуме, то другая беспощадно раскрывала ему жалкую пустоту всего этого треска и блеска и заставляла все более и более искать уединения. Теперь, под звездами, в одиночестве, когда по сторонам бежали черные леса, вспомнились ему его главные сотрудники, с которыми он решал там мировые вопросы, и бледная улыбка скользнула в темноте по его лицу.
Фриц прусский был очень обыкновенный, немного тупой немец, который принимал себя и все свои деяния с необыкновенною серьезностью. Раз во время войны Александр послал к нему кого-то из своих адъютантов, чтобы получить его согласие на какое-то мероприятие. Несмотря на важность поручения, Фриц не выходил к адъютанту очень долго и не высылал никакого приказания. После настойчивого объяснения, посланного с дежурным адъютантом, появился, наконец, Фриц и объявил с неудовольствием, что он вот уже несколько часов послал к Александру запрос, в какой форме, русской или прусской, быть ему в сражении, и до сих пор нет никакого ответа. Адъютант Александра позволил себе какое-то замечание, и тот вдруг разгневался:
– Прежде всего я должен знать, в каком мундире мне быть… – сказал он. – Не могу же я выехать без штанов!..
К счастью, поджидаемое с таким нетерпением распоряжение было, наконец, получено, и Фриц, надев приличные случаю штаны, тотчас же подписал нужные бумаги.
Добродушный Франц австрийский был прямой противоположностью Фрицу. Его главным занятием в жизни была музыка. О музыкальных увлечениях его ходила масса смешных анекдотов. Раз, в то время как Александр и Фриц распоряжались в бою под Кульмом, Франц в Теплице под отдаленный гром пушек… играл на скрипке. Тотчас по окончании сражения принц Леопольд приехал в Теплиц, чтобы найти помещение для чинов своего штаба. Город был переполнен войсками, и Леопольд явился к Францу с просьбой уступить часть дворца усталым офицерам с поля сражения. Леопольд застал Франца играющим трио в наилучшем расположении духа. Он тотчас же изъявил полную готовность исполнить просьбу принца и сказал:
– И прекрасно… А мы можем продолжать нашу музыку внизу…
Занятия конгресса состояли, главным образом, в бесконечных спорах о том, как поступить с Саксонией, король которой принял сторону Наполеона в его борьбе с Пруссией, Австрией и Россией, и с герцогством Варшавским. Дело запутывалось с каждым днем все более и более. У государей, собравшихся на конгресс, не хватало, по словам Талейрана, мужества, чтобы поссориться, но не хватало и здравого смысла, чтобы прийти к соглашению. Но он ошибался: здравого смысла, действительно, не оказалось, но поссориться сумели настолько, что в воздухе опять запахло кровью. Положение создалось такое: как недавно Александр должен был, по его мнению, спасать Европы вольность, честь и мир от Наполеона, так теперь Людовик XVIII должен был, по его мнению, спасать справедливость, честь и будущность Европы от Александра… И вдруг точно удар грома грянула весть: Наполеон бежал с Эльбы и снова идет на Париж!.. Как только долетел слух об этом до Москвы, там сразу приостановились все постройки: до такой степени была крепка везде вера в счастливую звезду Наполеона… Все ссоры на конгрессе в одно мгновение были забыты и была решена война не с Россией уже, как предполагалось час тому назад, а с Францией…
Наполеон орлом летел на Париж, а Людовик XVIII, – его русские солдаты звали Дизвитовым и презирали его: то ли дело этот черт Бонапарт! – которому только накануне предстояло спасать честь и будущее Европы и справедливость от Александра, бежал из Парижа с такой быстротой, что забыл даже на столе секретный договор, только что заключенный Австрией, Францией и Англией против России. Наполеон, захватив эти бумаги, немедленно отослал их Александру. Александр вызвал к себе Меттерниха и показал ему бумажку:









































