Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
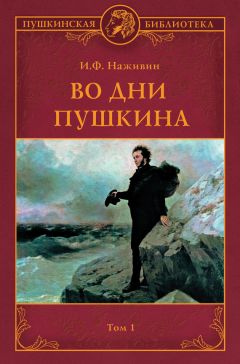
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
После войн с Наполеоном цены на хлеб и всякое сырье русской деревни твердо пошли в гору, вывозная торговля усилилась, и сельское хозяйство стало давать хорошие доходы. Стране, народу от этого, однако, пользы не было: все, что получали помещики за хлеб и сырье, охваченные «сластолюбием», они сплавляли обратно в Лондон и Париж за предметы роскоши. Аракчеев этого «сластолюбия» не одобрял и у себя не заводил. Если у него были свои портные, башмачники, шорники, столяры, каменщики и проч., то не заводил он ни астрономов своих, ни музыкантов, ни псарей, ни актеров, ни танцовщиц. Он, друг государя, муж Совета, стоял выше таких слабостей, он должен был служить примером, сиять, как город на верху горы. Не было у него даже и гарема: он довольствовался одной Настасьей, своей домоправительницей, для которой он расстался даже со своей супругой. Правда, иногда он любил «пошалить» с какой-нибудь дворовой красоткой, но Настасья бдила, и за все эти карамболи его сиятельства расплачивалась не только несчастная красавица, но и он сам в тиши своих приватных покоев.
Впрочем, была у Аракчеева и другая сударушка в Петербурге, на Фонтанке, некая г-жа Пукалова, которая в делах государственных играла не последнюю роль. Так, например, знаменитый сибирский генерал-губернатор И.В. Пестель, управлявший Сибирью из Петербурга, – чтобы его при дворе не подсидели, – весьма ухаживал за г-жой Пукаловой и чрез нее держался в милости у Аракчеева.
И все эти тысячи, как личных рабов Аракчеева, так и военных поселенцев, жили по строжайшему, им самим выработанному регламенту. Регламент этот не только строжайше напоминал мужикам, чтобы они «не обращались в пианстве», но и указывал им, какими именно метлами подметать деревенскую улицу, как должны бабы распределять женский труд по дому и как именно кормить грудных младенцев. «У меня каждая баба, – пишет он в одном приказе, – должна каждый год рожать, и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. А какой год не родит, то представь десять аршин точива…» И его дворецкий, первый министр в вотчине, в рапорте ему писал: «У меня, ваше сиятельство, родилась дочь, и я боялся о том донести, потому что противу желания моего родилась дочь, а не сын…»
У каждого дворового была всегда в кармане «винная книжка», в которую тотчас же вносилась всякая вина его. За людьми его наблюдали шпионы, и он всячески хвалил их и иногда награждал: «Таковая усердная служба и Богу приятна, – писал он одному такому доносчику, – и мною не оставлена будет без вознаграждения». За всякую вину сейчас же полагалось взыскание. Пороли часто и много, и граф, не доверяя палачу, любил сам осматривать избитые зады. Мужики исхитрились потом намазывать их кровью какого-нибудь зверушки, чтобы выглядело пострашнее и чтобы хоть на некоторое время застраховать себя от повторения. За вторую вину полагались палки, которыми били палачи из преображенцев. А за третью били палками уже под окнами барского кабинета, в обстановке особенно торжественной.
За незначительными разговорами – граф, отдыхая, не любил говорить о больших делах – они, обогнув большой парк, снова повернули к дому. Молодой малый, остриженный в скобку, в ярко начищенных сапогах, с исступленным лицом и какою-то бумагой в руке, вдруг выбежал из-за куртины, напоролся на графа и осекся. Это был Гриша, один из конторщиков.
– Что такое? – строго нахмурился граф. – В чем дело?.. Точно сумасшедшие…
Тот весь побелел.
– Я… – споткнулся он языком. – Я… васяся…
– Ваше сиятельство, ваше сиятельство, а что ваше сиятельство, никому не известно… – оборвал его граф, стукнув клюшкой о землю. – Дурак!.. Ну?..
– Я рапорт нес… для васяся… – едва ворочал тот языком. – Для вечернего докладу…
Резким жестом граф вырвал у него лист хорошей бумаги за №, с подписями и печатью и пробежал суровыми глазами по на диво выписанным строкам.
– Не угодно ли-с?! – с язвительной усмешкой передал он бумагу Батенькову. – Вот тут и живи с этим народом!..
Старик охотник Егошка принес его сиятельству на поклон убитого им на осинах огромного глухаря. Допустить мужика к графу не осмелились, конечно, но хозяйственный отдел дворцового управления в тот же день сообщил графу об этом деле бумагой за № 3571. Граф собственноручно начертал на рапорте: благодарить. Резолюция его сиятельства пошла своим путем, а глухарь – конечно, при соответственной бумаге – своим: где нужно было записать его на приход, где в расход и проч. А когда его сегодня передали при соответственном отношении на поварню, оказалось, что он за это время протух. Конторщик нес к вечернему докладу новый рапорт за № 3619 по этому делу. Граф, подозревая злоупотребление – он везде видел злоупотребления, – тут же порешил произвести по этому делу дознание.
– Пошел!.. – буркнул он на белого Гришу. – Нет, как вы с этим народом жить будете, ась? Никакого порядка эти раззявы ни в чем держать не могут… Только с палкой и править можно…
Его настроение испортилось. Заметив это, Батеньков у подъезда хотел-было откланяться, но Аракчеев удержал его:
– Куда ты?.. Пойдем ко мне чай пить. Графа Милорадовича знаешь?
– Имею честь, ваше сиятельство…
– Ну, вот… И потолкуем… А там и в путь собираться надо… И не хотелось бы, да что поделашь? Тяжелые времена, тяжелые времена… Заражение умов генеральное, и того и гляди, что солома вспыхнет… Намедни мне кто-то сказывал, что среди офицеров прусской королевской гвардии открыто говорят, что короли боле не нужны, де, и что состояние мирового просвещения настоятельно требует, де, учреждения республик… И у нас не лутче нисколько… Пойдем…
В вестибюле лакеи снова раздели графа – он, по обыкновению, и не заметил этого, – и оба прошли в большую библиотеку. Немало тут было книг духовного содержания, как «Сеятель благочестия к пользе живых нынешнего и грядущего века, или Высокая христианская нравственность», «Путь к бессмертному сожитию ангелов», «О воздыхании голубицы, или О пользе слез», «Великопостный конфект» и проч. А наряду с ними – граф весьма одобрял такого рода чтение – стояли известные «Любовники и супруги», «Мужчины и женщины и то, и сие», «Читай, смекай, и, может быть, слюбится», «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами»… Даже на посуде в Грузине были весьма откровенные иногда рисунки, как «Любовь в табакерке», «Венера на войне», «Любовь заставляет плясать трех граций»… Суровый граф вообще не пренебрегал эстетикой. В особенности любил он слушать соловьев. И потому в 1817 году им был издан приказ за №… повесить в Грузине всех кошек. Тогда расплодились по амбарам и домам в невероятном количестве мыши. Особым приказом за № кошки были восстановлены в правах, но им строжайше воспрещен был вход в графский парк.
Не успели они сесть в покойные кресла, как явился и другой гость Аракчеева: герой 1812 года, граф Милорадович, генерал от инфантерии и санкт-петербургский военный губернатор, которого Грибоедов прозвал chevalier Bavard. Едва завидел он Аракчеева, как сразу стал сладко улыбаться и расшаркиваться, – Ф. Глинка справедливо писал о нем «корнелиевым выражением»: «В Риме не было уже Рима». Впрочем, до Рима генералу и дела никакого не было: озорник был он чрезвычайный. При Тарутине французские и русские генералы часто выезжали на передовые позиции для разговоров. Мюрат являлся в фантастическом костюме, чем-то вроде павлина – в собольей шапке, например, глазетовых штанах, весь в перьях, – Милорадович никак не хотел уступить ему в пышности и являлся с казачьей плетью в руках, с тремя шалями самых ярких цветов, которые он прикреплял концами к шее и которые развязались по ветру, как знамена. Солдаты прямо животики надрывали, глядя на эти генеральские «приставлешя». Здесь, в столице, он рвал цветы удовольствия направо и налево, выдавал своим дамам курьерские подорожные по казенной надобности и, мотая деньги без счета, заставлял казну платить свои долги. Он был знаменит своим французским языком – как и недавно умерший генерал Ф.П. Уваров. Раз они оба беседовали так при Александре. Тот спросил у Ланжерона, о чем идет у них речь. «Извините, государь, – отвечал француз, – я их не понимаю: они говорят по-французски…»
На большом столе посреди библиотеки был уже сервирован чай. В камине весело урчали толстые березовые поленья. В нагретом воздухе пахло книгами и как будто ладаном. И не успел лакей разнести стаканы и скрыться, как в дверь без стука вошла Настасья, широкая, грудастая баба с смуглым лицом и большими черными, горячими глазами. Одета она была и не по-барски, но и не попросту, а так, на солидной серединке. В отсутствие графа она ловко и толково управляла его вотчиной, что не мешало ей, однако, ни брать взятки, ни даже наставлять рога своему высокому покровителю. Мужики считали ее колдуньей: она знала даже как будто самые тайные помыслы их. Но колдовства никакого тут не было: просто шпионская часть была поставлена у нее образцово. Крестьянка сама, она была настолько жестока с мужиками, а в особенности с дворовыми, что те не раз пытались отравить ее, но из попыток этих ничего не выходило. Несколько дворовых из-за ее преследований покончили самоубийством. В последнее время она привязалась особенно к Пашонке Заваловой, дворовой девушке замечательной красоты: Аракчеев не раз позволял себе с красавицей вольности, и Настасья мстила ей.
Завидев Настасью Федоровну, Милорадович сразу начал очаровательно улыбаться. Это было еще ничего: многие из знати и государственных мужей считали за счастье поцеловать Настасье ручку. Даже сам Александр, когда он навестил своего друга в Грузине, заходил в комнаты Настасьи и пил у нее чай…
– Ты что, Настасьюшка?.. – спросил граф кисло: протухший глухарь отравлял ему все.
– Вы поутру уезжать изволите, ваше сиятельство? – спросила та развязно, но все же на людях титулуя своего друга.
– Да. Припаси там все…
– А как же с Митькой Заваловым-то?
– Ба!.. – воскликнул граф. – А я и забыл было совсем… Так поди, распорядись. Постой: да ведь это в третий раз уж никак? А тогда, как по регламенту полагается, палки у меня под окошком…
И он, положив в большой рот душистого красносмородинового варенья, – он любил с кислинкой – с аппетитом прихлебнул горячего чаю. И тяжело вздохнул.
– Нет, нет, беда с этим народом!.. И как только все еще держится!
– В чем дело, ваше сиятельство? – с полным участием спросил Милорадович.
– А в том, ваше сиятельство, что озорник народ стал… – опять вздохнул с государственно-озабоченным выражением Аракчеев. – Ежели, не дай Бог, возьмут бородачи топоры – и пошла писать!
Батеньков внимательно слушал беседу двух вельмож. Он не загорался несбыточными надеждами либералистов и якобинцев, держась любимых им «неукрашенных выражений», но в то же время и страхи власть предержащих тоже всегда казались ему очень преувеличенными…
Между тем административная машина Грузина была уже Настасьей приведена в движение: в случае расправы с «добрыми крестьянами» машина эта действовала куда быстрее, чем с убитым глухарем. И в этот раз Настасья кроме того проявила и особую энергию: граф при встрече на дворе с Пашонкой – девки подгребали опавший лист – опять ущипнул ее за щеку. Настасья в тот же вечер отхлестала Пашонку по щекам и так, и эдак, Митька, отец Пашонкин, конюх, бывши под хмельком, сгрубил Настасье, а так как его два раза уже за пьянство и за неосторожное обращение с огнем драли, то Настасья подвела его теперь под палки…
И скоро под окнами графского кабинета появились два великана-преображенца, палачи, специалисты по палкам, и хор миловидных девушек, который пел в храме за богослужением и среди которого была теперь и Пашонка, красивая девушка с бледным, строгим и страстным лицом и большими черными глазами. Потом третий преображенец привел спотыкавшегося от ужаса Митьку, щуплого мужичонку с клокатой бородой и дикими теперь глазами. Граф с гостями по приглашению Настасьи, надев шинели, вышли на террасу. Сама она блестела глазами из окна.
– Нехорошо, брат, очень нехорошо!.. – с печалью на лице наставительно сказал Аракчеев виноватому. – Вон уж у тебя седина в бороде, а ты какой пример другим подаешь?.. Опять чуть было всю усадьбу не сожег… Разве можно около сена с огнем зря таскаться?..
– Грах!.. Ваше сиятельство!.. – натужно завопил он. – Вот как пред Истинным, зря клеплют на меня!.. И не был я…
– Не перебивай старших, нехорошо!.. – повысил голос Аракчеев. – Ежели господин твой хочет наставить тебя на путь истинной, то ты должен слушать. Я за тебя перед Господом ответ несу… И разговаривать не о чем: провинился – ложись…
Митька, весь трясясь, бормотал что-то о своей невиновности, призывал во свидетели самого Господа и всех угодников Его, но привычные преображенцы уже сорвали с него все, что полагается, разложили его на козе, и двое, взяв палки, охотницкие, можжевеловые, стали по обеим сторонам его. Граф сам сделал знак хору, и чистыми, красиво подобранными голосами девушки запели:
– Со святыми упокой…
Так в Грузине в торжественных случаях всегда делалось…
И заработали палки…
– …Христе Боже душу раба Твоего… – пели девушки, стараясь покрыть голосами вопли Митьки. – Идеже несть болезнь…
Из огневых глаз Пашонки градом катились слезы. Рот ее кривился в усилиях удержать рыдания. Она была так хороша, что ни Милорадович, ни Батеньков не могли глаз оторвать от нее. Настасья из окна смотрела на нее, и ноздри ее раздувались… Палки мерно работали… «Ах, не забыть бы приказать нарядить следствие насчет глухаря…» – подумал Аракчеев и баском с чувством пустил:
– …несть болезнь, ни печаль, ни воздыхания…
XVII. «Земля скорби и крови»
Утром, – было туманно, тихо и печально – после сытного завтрака, Аракчеев, Милорадович и Батеньков выехали в ближайшие к Грузину военные поселения. Дорога была изумительна, ибо в Грузино ездили не только высшие чины государства Российского, но и великие князья, и даже сам государь император. Четверка неслась бурей. Впереди и сзади мчались местные власти и адъютанты. Встречные крестьяне испуганно шарахались в стороны и, стащив шапку, долго смотрели вслед экипажам, чесали затылок и спину и вздыхали… Граф Милорадович продолжал льстиво ухаживать за диктатором, но тот отвечал скучливо и односложно: ночью на прощанье у него была Настасья, и он, как всегда в таких случаях, чувствовал отвращение ко всему…
Он тяжело задремал… Милорадович умолк и тоже насупился. Батеньков все обдумывал, как бы поскладнее заговорить с чертом – так звал он про себя Аракчеева – насчет отставки: старик может обидеться и напакостить. Но, достаточно уже потершийся в чиновном мире, он чувствовал, что эти дни в его сторону определенно потянуло холодком: Клейнмихель, значит, старался. И, может быть, не только не обидится, но даже будет доволен…
Они примчались в то поселение Высоцкой волости, где Батеньков возводил постройки. Аракчеев сразу ожил. Хотя самая мысль поселений принадлежала не ему, а Александру, хотя он на первых порах даже противился ей и предлагал государю вместо сложной реформы этой просто сократить срок военной службы до восьми лет, тем не менее с первых же шагов государь передал все дело в его руки и оно стало его любимым детищем: «Я не имею ни столько разума, ни слов, чтобы объяснить, батюшка, ваше величество, своей благодарности», – писал он по этому поводу царю. Он взялся за гуж со всем своим усердием и, свирепый службист, бешеный поклонник фронта, с первых же шагов убил все, что в этой мысли было доброго. Его помощники, стараясь перед ним выслужиться, еще более изуродовали первоначальный замысел Александра, и очень скоро военные поселения превратились, по выражению одного современника, в «землю скорби и крови».
Прежде всего чинуши-автоматы должны были найти подходящие места для поселения полков. Иногда для этого чиновникам нужно было согнать с насиженных мест крестьян. Конечно, это ничуть их не смущало. Для поселения Елецкого мушкетерского полка могилевских крестьян погнали в Харьковскую губернию; только немногие из них дошли до места, а большинство умерло еще в пути от голода, тоски и пьянства. На очищенное таким образом место сажали полк. Если мужик мог половину своего времени отдавать барину и был жив, то точно так же мог он поэтому вместо барина отдавать свое время и силу фронту. И он отдавал. Когда великий князь Николай, наследовавший от своего отца любовь к игре в солдатики и его жестокость, увидел на царском смотру новгородских поселенцев, он восторгался их муштрой и уверял, что и в гвардии он не видал такой выправки… Казовая часть хозяйственной жизни поселян была поставлена тоже образцово, так что Карамзин, знаменитый историк, приходил в изумление от успехов Аракчеева… Но… все это было только новое издание старых потемкинских деревень.
Крестьяне военных поселений были подчинены управлению офицеров и военным законам. Земля и движимое имущество оставались им «в полную собственность», но батальонный командир мог у них эту полную собственность всегда отнять, если они будут вести себя недостаточно, по его мнению, хорошо. И если помещики могли в административном восторге доходить до регламентации кормления младенцев, то в военных поселениях женщины, чувствуя приближение родов, должны были спешить в… штаб! Пары для брака намечались по жребию или по усмотрению начальства. Вообще поселенцы могли дышать только с разрешения администрации, вооруженной шпицрутенами, – так назывались тогда толстые, но гибкие лозовые прутья длиною в сажень. Ослушника, по живописному тогдашнему выражению, «рубили в мясо». Часто запарывали людей насмерть…
Зато когда приезжал посмотреть военные поселения какой-нибудь иностранный принц или вообще высокие особы, то гости видели красивые прочные дома, все одного типа – каждый на четыре семьи, – вытянутые по шнурочку, видели изумительные дороги на многие версты, фонари, госпитали, школы, богадельни, заводы, заемные банки. Даже нужники, и те были устроены, по выражению одного восхищенного современника, по-царски. На все это Аракчеев не жалел никаких денег: за пятнадцать лет на военные поселения затрачено было около 100 000 000 рублей, цифра по тем временам оглушительная, и к этому времени уже посажено было на землю в этих условиях около 1 000 000 человек.
Когда Александр посетил новгородские военные поселения, то, заглянув в обыденное время в дома, он увидел довольные семьи поселян за столом, а на столе – символ крестьянского благополучия – жареного поросенка. Так как свиньи очень портили аракчеевский порядок и производили нечистоту, то поселянам было запрещено держать их, но для высокого гостя поросенок был привезен со стороны. А пока царь милостиво беседовал с обедающими, ловкие люди того же самого поросенка переносили задами в следующую избу, и так далее, и, таким образом, царь и Аракчеев – его обманывали не меньше царя – могли своими глазами убедиться в сытом благополучии военных поселян. При отъезде же высоких посетителей им неизменно вручалась местная газета, «Семидневный листок военного поселения учебного батальона гренадерского графа Аракчеева полка».
Но как только коляски с высокими гостями исчезали вдали, сразу же наступали печальные будни: у поселенцев часто не было для стола даже соли, и когда роты собирались для учения на три дня в штаб, то питались воины-земледельцы только хлебом, без всякого приварка. Целые дни, с самого рассвета, их дрессировали и так, и эдак, а в промежутках между учениями они мели улицы и вообще наводили всякую чистоту; ночью же плели лапти для следующего дня. Домашнее хозяйство их было тоже расписано по часам, и если рожь переспела и потекла, а по расписанию стояла побелка домов, то дома белились, а рожь текла… И потому были поселяне изнурены и «более похожи на тени, нежели на людей». Иногда они восставали, и против них высылалась тогда и кавалерия, и артиллерия, и инфантерия, огнем и шпицрутенами их приводили в повиновение, а затем начиналась эпидемия самоубийств «по неизвестным причинам». Вообще смертность в поселениях превышала рождаемость всегда, даже без помощи артиллерии…
Были люди, которые видели правду и осмеливались говорить о ней. «Вместо чаемого благоденствия – говорил, например, Барклай, – поселенцы подпадают отягощению в несколько раз большему и несноснейшему, чем самый беднейший помещичий крестьянин… Нельзя ожидать ни успокоения воинов, ни улучшения их состояния, а в противоположность должно опасаться упадка военного духа в солдатах и жалобного ропота от коренных жителей». Но и смелые голоса эти, и «жалобный ропот» коренных жителей тонули в хоре восторженных хвалителей. Даже Сперанский, отведав ссылки, восторгался теперь «чудесными» поселениями. Аракчеев же не очень и тревожился о бедности военных поселян. «Нет ничего опаснее богатого мужика, – говаривал он. – Он тотчас возмечтает о свободе и не захочет быть поселянином…» Но при виде того, что делалось на каторжных работах этих, у многих рождалась даже мысль о цареубийстве: «Как может государь допускать все это?» Но ни Александр, ни Аракчеев не обращали на это «петербургское праздноглаголание» никакого внимания: люди не понимают тяжести того, что было до этого…
На околице поселения, где под фонарем стояла пегая будка часового, уже собрались для встречи Аракчеева все начальствующие лица поселения, затянутые в мундиры, в блестящих ботфортах. Тут же протянулся, как по линейке, почетный караул. И как только подлетела четверня Аракчеева, почетный караул брязгнул ружьями, все вытянулось и замерло. Он принял от батальонного командира рапорт, прошел, косясь на солдат, по фронту и остался доволен: они не дышали. Это был идеал.
– А теперь покажи нам твои постройки… – обратился он к Батенькову. – Ты, граф, все это видал уж, – обратился он к Милорадовичу, – так, может…
– Но я почту за щастие, ваше сиятельство… – изогнулся тот. – Я не устаю любоваться вашим детищем… Еще несколько лет, и Россию узнать будет нельзя: у нас будет всегда готовая громадная армия, которая даст нам возможность держать Европу в повиновении, и богатый народ… Говорят, ваше сиятельство, что капитал военных поселений уже достигает двадцати миллионов?
– Нет, государь мой, уже превысил тридцать два… – отвечал самодовольно Аракчеев. – Мы уже субсидируем военное министерство…
– О!.. – поразился Милорадович, очень хорошо знавший это и раньше. – Какая гениальная мысль!.. Имя государя императора будут благословлять века…
Аракчеев только глаза почтительно прикрыл…
– В таком случае приступим к обзору… – сказал он. – Ну, веди нас, полковник…
И все пошли специально для начальства устроенным тротуаром. Рядом с ним бежал другой, для поселян. Вдоль тротуара тянулись, все в осеннем золоте, березки, посаженные с изумительной аккуратностью в линию… Встречные поселяне блистательно отдавали честь. Люди военного возраста были одеты в солдатские мундиры, а старше сорока пяти лет в кафтаны крестьянского покроя, но с погонами, в серые штаны и в фуражки с козырьками. Все были стрижены и бриты. Бороды полагались только с пятидесяти лет. Много раскольников, не желая снимать бород, – ибо бритых святых не бывало – покончили с собой, другие с семьями ушли «во мхи», то есть в лесные болота, и там погибли голодной смертью. Даже карапузы, тоже одетые по-военному, молодцевато отдавали честь. Граф милостиво отвечал на приветствия.
– А ну, взойдемте-ка вот в этот дом… – вдруг сказал он, уверенный, что такие внезапные ревизии самая важная вещь. – Здравствуй, красавица!.. – милостиво ответил он рябой девке в новых лаптях на ее поясной поклон. – А ну-ка, покажи нам, как вы живете…
Замирая от ужаса, девка бросилась вперед и широко распахнула дверь. Горница была чиста, как стеклышко. В углу стояли иконы с засохшей вербой, справа от них был портрет государя и государыни, а слева – Аракчеева. В простенке пестрел вид Святогорского монастыря, принесенный с богомолья. В левом углу пряла худая старуха в повойнике. И она отвесила молчаливый поклон сиятельным гостям.
– Ну, как живешь, бабушка?.. – щеголяя умением обращаться с народом, спросил Аракчеев.
– Слава Богу, кормилец, батюшка, ваше сиятельство… – зашелестела старуха беззубым ртом, подымая на графа свои потухшие глаза. – Живем твоей милостью… Дай тебе, Господи, доброго здоровья на многие лета…
– Да верно ли, что ты довольна, старая?
– Да как же, родимый, батюшка, ваше сиятельство, не быть довольной? Ведь все глазыньки выплакала я, как сына-то в солдаты угнали. А теперь он дома и мнучки все круг меня… Только и спокой я узнала, как свел ты нас всех вместе. Слов нет, иной раз и тяжеленько… – вздохнула она и вдруг увидала бешеные глаза батальонного, устремленные на нее. – Ну, что ж ты будешь делать?.. – сбилась она со страху. – Господь терпел и нам велел… Спасибо, кормилец…
И она снова низко поклонилась Аракчееву.
– А ну, покажи-ка нам, что у тебя в печи есть… – сказал Аракчеев, но только было рябая девка открыла заслонку, как вдруг за окном послышался поскок лошади, тревожные голоса и какая-то суета.
Все насторожились.
– А ну-ка, узнай, что там такое… – приказал Аракчеев батальонному.
Но по лестнице уже зазвенели шпоры адъютанта. В дверях вдруг показалось его бледное лицо. Аракчеев встревожился.
– В чем дело? – сурово спросил он.
– Пакет от Его Величества…
Аракчеев хмуро принял пакет от адъютанта и, отойдя к окну, тотчас же сломал большую печать, развернул бумагу и, хмуря брови, стал читать. Лицо его омрачилось еще более. Он значительно пожевал губами.
– На сей раз нам осмотр твоих построек придется оставить… – сказал он Батенькову. – Прикажи подавать сейчас же лошадей, – сказал он адъютанту. – Прощай, бабушка, помолись за меня…
И он пошел тяжелыми шагами из избы. Все понимали, что им получены какие-то чрезвычайно важные известия, но все знали, что старик будет молчать, пока сам сперва не переварит полученных новостей.
– Ты со мной сядь, граф… – сказал он, подходя к коляске. – А ты поезжай с адъютантом, – прибавил он Батенькову. – Мне с графом переговорить надо… Садись, граф. Нам надо поторапливаться…
Сопровождаемый поклонами, поезд понесся к Петербургу. Аракчеев долго молчал и вздыхал. Потом поднял на Милорадовича тяжелые глаза и проговорил:
– Его величество позанемог что-то, ваше сиятельство… Но ты пока об этом не очень распространяйся…
– Понимаю, ваше сиятельство…
Но по Петербургу, когда они приехали, уже прошла волна тревоги: о болезни Александра там знали. И не успел Аракчеев, отдохнув с пути, собраться к своей сударушке, госпоже Пукановой, как вдруг из Грузина прилетела страшная весть: Настасью зарезали дворовые. Аракчеев бросил все и помчался в Грузино…









































