Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
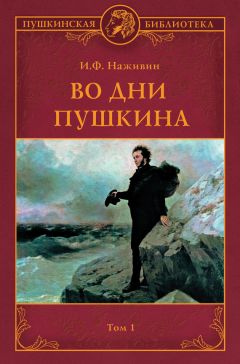
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXXV. Старый масон
Среди бесконечных хвойных лесов, которыми легла на Сибирь страшная Владимирка, – может быть, самый страшный и самый скорбный из всех путей человеческих, – точно спряталось от мира большое имение Ивана Степановича Акимова, Дедново. Хозяин его, старый холостяк, жил настоящим затворником и почти не выходил из своей огромной библиотеки, проводя время за неторопливым, вдумчивым чтением или за письменными работами. В настоящее время он писал, во-первых, историю своего шестисотлетнего рода, а, во-вторых, собирал материалы для обширной записки об уничтожении крепостного права, которую он собирался лично представить государю императору. Приезд его единственного брата, мечтателя и перекати-поле, который всю жизнь, благодаря бешеному, сумасбродному Павлу, прожил под именем полковника Федора Брянцева, на некоторое время всколыхнул было эту жизнь-созерцание, но очень скоро все опять вошло в свою колею и оба старичка, чистенькие, тихие, вежливые, утонув в креслах, целые дни проводили в библиотеке, изредка обмениваясь немногими фразами или знакомя один другого с удачной вычитанной мыслью…
Так было и теперь, в эти первые дни сентября, когда в больших окнах дома стояли золотые отсветы старого парка и тихий дождь шептал по опавшим листьям. Уютно и дремотно урчала большая изразцовая печка. Полковник внимательно читал замечательный труд Вольнея «Les ruines», но потом оставил книгу, закрыл глаза и снова и снова стал думать о той величавой драме, которая разыгралась на его глазах ночью на берегу моря, в Крыму, и закончилась в Таганроге под печальный перезвон колоколов. А Иван Степанович, тщательно выбритый, в беличьем халатике, сидел за своим огромным рабочим столом и неторопливо, внимательно подбирал материалы для своего исторического труда…
Иван Степанович был с молодых лет масоном. В это время масонство в России почти умерло – не столько потому, что на все тайные общества покойный государь стал смотреть косо, сколько потому, что оно разваливалось от внутренних причин.
Первоначальный замысел масонства был прекрасен: объединение людей для самосовершенствования, для борьбы со всяким деспотизмом, для жизни добродетельной и для дел любви. И если были ложи, которые с первых же шагов отмежевались самым решительным образом от всякой политики и не хотели «иметь никаких таинств перед правительством», – законы «Астреи» – если такие ложи утверждали, что «в торжественных случаях, в честь монарха совершаемых, усладительно говорить о достоинствах и качествах, украшающих нашего возлюбленного государя», если в песнях своих они распевали:
Где к добру единодушны,
Законам там всегда послушны:
Монарх есть нам земная власть,
Он наш отец, наш покровитель,
Он блага нашего зиждитель,
А чтить его есть наша честь… –
то были и другие, «столь гибельные ложи или столь пагубный состав системы и направления, что коварные умыслы вольнодумства под ними скрывались», те ложи, в которых пели:
У нас и царь со всеми равен
И нет ласкающих рабов! –
те ложи, из которых потом выросли разные тайные общества с уже явно политическими задачами. И по составу своему ложи различались все более и более: если в ложе «Трех венчанных мечей» – масоны очень любили эти выверты в названиях лож – были больше всего аристократы-либералисты, как Никита Муравьев, Лунин, Муравьев-Апостол, – то в ложе «Александра к Венчанному Пеликану» были больше всего, по выражению одного масона, «ремесленники и всякая французская сволочь». Масоны в массе старались жить в мире с господствующей церковью, но были среди них и такие, которые весьма враждебно смотрели на православное духовенство. Московский масон Невзоров писал кн. А.Н. Голицыну: «Духовные сделались совершенными торгашами, стараются только умножить свои доходы отдачею в наймы домов, подвалов, огородов и подобного. Свидетельством тому служат подворья архиерейские и монастырские в Москве, составляющие гнезда трактиров, харчевен, постоялых дворов и лавок, к единой роскоши служащих. Религию же Христову и богопочитание они заключают только в умножение золота и парчей, и жемчугов церковных, почему явные грабители, делающие в монастыри и церкви вклады, становятся у них лучшими Христианами; истинные же поклонники Иисуса Христа, старающиеся о распространении истинного духа евангельского, почитаются от них безумными и фанатиками и подвергаются гонению. Всего же чуднее, что начальствующие монахи ныне начали явно говорить, что они не монахи, а начальники и правители церкви, а постригаются в монахи только для поддержания религии». Другой известный масон, Виельгорский, занес в свою записную книжку такую мысль: «В первые годы христианства сосуды были деревянные, а попы были золотые, а ныне сосуды золотые, зато попы деревянные». Православное духовенство с своей стороны ненавидело масонов и обвиняло их в ереси: их чрезвычайно оскорбляло то, что масоны высших степеней сами совершали таинство причащения, тамплиеры посвящали в первосвященника, а в Иванов день, праздник масонов, масоны иногда публично приносили в своих ложах покаяние.
И если среди масонов были такие сердобольные люди, как художник Олешкевич, который считал грехом раздавить блоху или клопа, если они торжественно заявляли, что отечество каменщика это вселенная, если князь Баратаев в своей речи, произнесенной в основанной им ложе «Ключ к Добродетели», – у себя в имении, в Симбирской губернии – с гордостью вопрошает: «слово чужеземец не исключено ли из словаря свободного каменщика?», если в числе семи обязательных для масона добродетелей была любовь к человечеству, то все же в этом направлении масоны остановились на полдороги и до прямого отрицания войны не дошли, хотя и протестовали против этих кровопролитий и называли героев войны разбойниками. Масоны в России не поднимались даже до сознания недопустимости крепостного права. «Простолюдины, в особенности дворовые люди, – записал себе Виельгорский, – не имея никакого понятия о существе нашего ордена, весьма его любят, предполагая по названию свободных каменщиков, что наше братство старается сделать их вольными, в чем они весьма ошибаются, ибо мы стараемся свергнуть с себя оковы не мнимые, но истинно тяжкие, а именно оковы греха, ада и смерти. Сие исходит одно из другого. Человек, освобожденный от сих оков, везде велик, везде равнодушен, везде одинаков, одним словом, везде счастлив, даже под самым деспотическим правлением. Но сие благо будет постепенно и на них разливаться».
Совершенно невозможно дать одну общую характеристику миросозерцания масонов. В ложах сходились всякие люди: и заядлые крепостники, и туманнейшие мистики, и прогрессисты, и просто любопытные. Кроме того, в каждой группе шла все время идейная работа, которая вела к расколам, отходам, новым союзам, протестам и проч. И в довершение всего, несмотря на все предосторожности, в масонство, в конце концов, влилось то, что для всякого идейного движения страшнее всего: улица.
И очень быстро под напором улицы оно стало вырождаться. «Есть ложи, – пишет Римский-Корсаков, – в коих все масонское знание ограничивается искусством в праздновании торжественных лож и банкетов, точности в финансах и красивости в письмоводстве, а нравственность братьев заключается в подаче нескольких денег в день собрания в кружку бедных. Есть братья, коих прилежность доказывается тем только, что, будучи тунеядцы и празднолюбцы, они не пропускают собираться в назначенный день, дабы между собою увидеться, поговорить пред работами и после оных о профанских материях и вместе посидеть у эконома. Есть братья, коих стремление сделаться лучшими и совершеннейшими состоит в том, чтобы облечься многими безжизненными степенями и занимать значущие места в ложе, не понимая ни степени, ни важности места. Есть братья, коих усердие к распространению масонского света заключается в торговле оным, принимая, повышая и наставляя втайне за хорошую плату. Есть братья, коих связь и дружба имеет единственной целью получить в профанском быту чин или прибыточное место и тому подобную профанскую выгоду приобресть». Штейнгель, декабрист, говорил, что масоны делятся на обманывающих и обманываемых. И грубоватый, но правдивый Вигель записал, что сперва масонство его «некоторым образом заняло, но скоро наскучило и даже огадилось…»
Правительство деятельно помогало разложению, устраивая в рядах масонов своеобразный естественный отбор, ссылая масонов, «найденных в противном расположении духа», в отдаленные губернии. А оставшиеся мелели все больше и больше. «Мы садимся, встаем, зажигаем и гасим свечи, – пишет один из масонов, – слышим вопросы и ответы, мы баллотируем и принимаем в масоны непосвященных, т. е. не масонов, и, наконец, мы собираем несколько рублей для бедных» – и это все. Да и сборы для бедных были ничтожны: в ложе «Елизаветы к Добродетели», в Петербурге, за последний отчетный год ложи было роздано бедным всего около двух тысяч рублей на ассигнации, хотя среди членов ложи были лица, владевшие тысячами рабов…
«…Среда. Полночь, – писал в своем дневнике Н.И. Тургенев. – Третьего дня были мы в ложе «des Admirateus de l’Unuvers»[66]66
«Почитателей Вселенной» (фр.).
[Закрыть]. В 6 час. начался банкет и продолжался к нашему большому удовольствию до 11 час. Многие из братьев пели своего сочинения куплеты, забавные и остроумные, но не всегда масонические. Было весело. Подлинно нигде нельзя наслаждаться более истинным удовольствием, как среди масонов. Из ложи пошли мы в кофейную и пили пунш. Тут тоже пели и говорили беспрестанно каламбуры. При прощании тоже слышны были куплеты…»
И постепенно все хорошее, что было в рядах масонства, отошло в сторону. Одни говорили: «Смотрите, во что превратилось масонство – значит, никуда не годилось оно и в самом замысле!» Другие, очень немногие, говорили: «Как прекрасно задумано было дело и до чего мы его довели…» И, оставшись верными масонской идее, они уже втайне продолжали служить ей, совершенствуя себя в добродетелях и стараясь по мере сил совершенствовать и жизнь вокруг себя.
К таким вот масонам принадлежал и Иван Степанович. Он оставил Петербург и свою ложу «Умирающего Сфинкса» и уехал в деревню. Хозяйство его было поставлено хорошо, жизнь вел он не только простую, но почти суровую, к крестьянам относился мягко, и они у него богатели. Но барина своего втайне они считали маленько тронувшимся, так, чем-то вроде блаженненького. Наибольшие заботы свои, однако, отдавал он своему внутреннему миру, внимательно обозревая его и устрояя неустанно. И все свободное время проводил он среди своих книг, которые тысячами теснились вокруг него до самого потолка.
Тут были труды по всем областям знания и литературы: по богословию, юриспруденции, философии, педагогике, политической экономии, статистике, естествознанию, математике, военным наукам, изящным искусствам, литературе, истории, географии, оккультизму и проч. на языках русском, французском, немецком, английском, итальянском, греческом и латинском. Было тут почти все, что читали передовые люди того времени: Монтескье, Филанджиери, Ж.Ж. Руссо, де Лольм, Бенжамен Констан, Биньон, г-жа Сталь, Беккария, Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Рэналь, Вейс, Адам Смит, Сэй, Байрон, «История» Карамзина, «Теория налогов» вовремя убравшегося заграницу Н.И Тургенева, Шиллер, Гетэ и проч., и проч., и проч.
Он устал от своих старых рукописей и всякого рода истлевших документов и, откинувшись на высокую спинку своего дедовского кресла, посмотрел на тихое, умиленное лицо брата, который, закрыв глаза, сидел в своем кресле у большого окна с золотыми отблесками осени… И ему не в первый раз бросилось в глаза некоторое сходство брата, когда не видно было нижней части лица, с покойным императором Александром Павловичем…
– А я читал книгу господина Шопенгауэра, которую вы передали мне, братец… – сказал он тихо. – Действительно, книга силы исключительной. Редкие дарования обнаруживает сей ваш немецкий знакомец…
На губах полковника заиграла слабая улыбка.
– Да, но… – сказал он. – По его мнению, весь мир это только воля и представление за исключением, однако, Фихте, Гегеля и Шеллинга, которые нас чрезвычайно сердят… Впрочем, немка еще была одна, с которой господин Шопенгауэр подрался, потому что она осмелилась сесть в его передней… И, когда в последний раз я беседовал с ним, он все время очень сердито ловил моль. Меня в этом немецком любомудре удивляло всегда одно: мыслью он открывает бездны, но мысль эта у него так мыслью и остается, а жизнь сама по себе… Наши староверы, которые при Петре сжигали себя в срубах, были последовательнее…
Помолчали, каждый о своем… В окне заиграл бледный луч солнца.
– Э-э, да, кажется, разгуливается?! – встрепенулся полковник. – Надо пройтись, подышать немного… Вы хотите прогуляться, братец?..
– Нет, братец, благодарю… – отвечал старый масон. – Я хочу до обеда поработать. А вам пройтись следует. Смотрите, только ног не промочите – это самая каверзная вещь…
Полковник пошел было к дверям и вдруг остановился.
– А я все хотел спросить вас, братец, опять относительно ваших крестьян… – проговорил он, оборачиваясь. – Вы уже в годах, у вас больше двух тысяч крепостных, – может быть, время было бы подумать о их освобождении?.. Кто знает, как будет им, когда нас не будет?..
– Ох, давно уж я думаю об этом, братец, и все не знаю, как лучше поступить!.. – отозвался старик. – Конечно, я давным-давно отпустил бы их с вашего согласия на волю, но старики противятся… Покеда ты, говорят, жив, мы за тобой, говорят, как за каменной стеной, а как не будет у нас защитника, одолеет нас крапивное семя… Увы, это верно! Хорошо писал покойный Рылеев:
Когда от русского меча
Легли монголы в прах, стеная,
Россию Бог карать не преставая,
Столь многочисленный, как саранча,
Приказных род в странах ее обширных
Повсюду расселил,
Чтобы сердца сограждан мирных
Он завсегда, как червь, точил…
– Так, братец… – подтвердил полковник. – Но мы должны все же помнить о наших годах.
– Верно, братец… Давайте соберемся как-нибудь вечерком, со стариками вместе, и обдумаем сие дело еще раз. Общее освобождение, конечно, неминуемо, но когда-то оно еще будет!.. Если бы даже государь император и сочувствовал этому делу, а он, как говорят, сочувствует, то он наткнется на жестокое сопротивление. Еще когда я ездил в останный раз в Петербург, мне пришлось быть свидетелем спора на этот счет между несчастным Пущиным и старым адмиралом Шишковым. Надо было послушать, как выходил из себя старик, когда Пущин стал излагать свой женерезный проект освобождения крестьян с землей! Громоздя один софизм на другой, старик договаривался до вещей невозможных!.. «Что вы мне все поете: в России продают людей, как скотов! Их продают, как людей, а не как скотов! И почему это нельзя продавать крепостного без земли? По моему рассуждению, это даже для человека уничтожительно, когда его судьба так связана с землей, когда полагается, что без земли он не человек и должен быть, как бы дерево, посажен в оную, дабы пребывать в ней неподвижно… И что такого ужасного в разлучении семей при продаже порознь? Разлука ближайших родственников одно из самых неизбежных зол в жизни…» И его очень поддерживали…
– Все это верно. Но мы должны сделать свое дело…
– И это верно. Вот надо собраться и все обсудить хорошенько…
– Отлично. Ну, я пошел, братец…
– С Богом, братец… – отозвался старый масон и склонился над пахнущими пылью, мышами и тленом бумагами своего огромного родового архива. Он развернул полуистлевший лист с казенными печатями. Это была, по-видимому, опись какого-то имения. «Во оном дворе, – читал он бледные строчки, – дворовых людей: Левоний Микифоров 40 лет, по оценке 20 рублей, у нево жена Марина 25 лет, по оценке 10 рублей, а у них дети: сын Василей одного году, по оценке полтина, и двух лет девочка Аксинья полтора рубли…» И так шло на протяжении трех страниц. Он вздохнул, погладил себя по темени, отложил лист в сторону и взялся за другой, темно-коричневого цвета, с краев подъеденный мышами. Это было письмо его деда в эту деревню, торжественно озаглавленное: «Верноподданным моим подлецам». А дальше шло отеческое внушение бурмистру: «Проснись, отчаянной, двухголовой архибестия, торгаш и промышленник, озорной и явной клятвопреступник и ослушник, смело-отчаянной Блинов! Ребра в тебе, ей-же-ей, божусь, не оставлю за такие паршивые малые выходы, за торги и промыслы с озерами и за явную такую ослушность и клятвопреступство, и хотя о тебя десять голов на плечах было у смело-отчаянного сквернавца Блиненка, то истинно, за все такие вышеписанные дуркости и ослушности, все головы твои посломаю и, как рака, раздавлю и вечно в навоз, как каналью, ввергну…» И разгневанный владыка «душевно скорбел», что за дальностью расстояния он не может сейчас же произвести соответствующую экзекуцию: «Чтобы руки мои не оставили на голове твоей ни одного волоса, а спину твою сделали мягче брюха». Впрочем, он утешал себя мыслью, что время это не за горами, а пока честил своего верного слугу «извергом человечества, в высшем градусе злодеем» и прочими крепкими наименованиями… Старый масон, сдерживая невольную улыбку, отложил письмо деда в сторону и взялся за следующий документ. Это был, по-видимому, черновик какой-то духовной. Многого в ней прочесть было уже невозможно. Сверху можно было различить только год: 1627, а в третьей строке одно слово: «аминь». А потом, пониже, шло: «…и сирот моих, которые мне служили, мужей их и жен и вдов и детей, чем будет оскорбить во своей кручине боем по вине и не по вине и к женам их и ко вдовам насильством, девственным растлением, а иных семи грехов своим и смерти предал, согрешил во всем и пред ними виноват: простите меня, грешного…» Далее шло неразборчиво, а потом, внизу страницы: «також крестьяне моих и крестьянок, чем кого оскорбил в своей кручине, лаею и ударом и продажею по вине и не по вине, во всем перед ними виноват: простите меня и благословите и разрешите мою грешную душу в сем веце и в будущем…»
XXXVI. Путь в Беловодию
Полковник ходить любил и ходил много, большего частью один: братец ногами были слабы. Он любил разговаривать со встречными и поперечными, а так как одевался он весьма просто, то никто его не дичился. И он все замечал, во все вникал и много размышлял среди безбрежных лесных пустынь, среди которых там и сям подымались тихие кресты ветряков. И каждый день почти приносил он с собой домой хоть какой-нибудь «улов», как выражался он. Особенно любил он ходить вдоль по страшной Владимирке и утверждал, что ни Сорбонна, ни Геттинген, ни Берлин не дали ему для познания жизни и сотой доли того, что дала эта страшная дорога…
Он прошел старым садом – там снимали теперь наливную, душистую, мокрую от росы антоновку – и вышел в сельскую улицу. Стройка была ладная, крепкая. Золотые скирды князьями стояли по гумнам и говорили о мужицком довольстве. Старые, все в золоте деревья придавали селу уютный, обжитой вид. В обвешавшихся красными гроздьями рябинах цокали и перелетывали жирные дрозды… Пользуясь разгулявшейся погодой, мужики одни затопили овины, а другие возили из лесу дрова: одни, налегке, рысцой, гремя колесами, уезжали в лес, а другие с огромными, благоухающей мокрой хвоей возами ехали уже из лесу. И крестьяне просто и весело приветствовали старого барина, сообщали ему свои соображения о погоде и хвалились умолотом.
– Ай пройтитца вышел? – кричал ему его приятель, лысый пчеляк Егорыч. – Ничего, погуляй, промнись маненько: седни гоже…
И, действительно, было гоже: тихо, мягко. И в влажном воздухе стоял приятный запах: деготьком, дымом от овинов и хвоей… Миновав старинную, белую с зеленой кровлей церковь, – тут, под ее стенами, лежали и родители его, и деды, и прадеды – полковник свернул в хвойный лес, в котором он бегал еще мальчуганом, и знакомой дорогой – в колдобинах ее светилась вода – тихонько пошел в сторону Владимирки. В лесу было тихо, как в покинутом храме – только синички попискивали где-то в елях. По веткам качались начавшие кунеть белки. И так отрадно дышалось свежим воздухом, пахнувшим то сыростью, то хвоей, то грибами…
А вот и Владимирка – широкий тракт, уходящий обоими концами в глубокие, синие русские дали. Летом по обочинам дороги в изобилии цветут всякие цветы – нарядный поповник, колокольчики синие, малиновая смолевка, золотой зверобой, на сыринках незабудки голубенькие, – но теперь все это уже отошло, и золотые шапки последней пижмы подчеркивали унылые и суровые тона этой бездонной картины. Но старик любил эти угрюмые лесные шири с малых лет…
– Здравствуй, батюшка, кормилец…
Он обернулся. На сером стволе старой, поваленной бурей ели, на опушке леса, сидели две богомолки: пожилая, степенная женщина с хорошим добродушным лицом и другая, по-видимому, ее дочь, красивая молодуха, исхудалая и блудная, с большими голубыми глазами, в которых страшно смешивалось черное горе с каким-то чистым, детским выражением. За спиной у них были холщовые сумки, в руках ореховые подожки, а на ногах белые онучи и новые лапотки.
– Здорово, тетушка… – отвечал полковник. – Куда это вы по такой грязи собрались? Словно поздно бы на богомолье-то…
– К Боголюбимой, родимый, в Володимер, в село Боголюбово… – отвечала та. – Известно, не время бы теперь, да что ж ты поделаешь?.. Неволя заставляет… – глубоко вздохнула она и опечалилась.
– Издалека вы?
– Из села Болдина. Пушкина господина, Сергея Львовича… – отвечала она. – Сами-то мы родом скопския, ну, только барин перевел моего хозяина сюды, в Мижгороцкую…
Полковник присел рядом с ней на ель.
– Что же, или горе какое у вас стряслось? – посмотрев на скорбную молодуху, участливо спросил он.
– Да и горе-то еще какое!.. – вздохнула мать, и глаза ее наполнились слезами. – Вот, посмотри на нее – краше ведь в гроб кладут. И сказать, чтобы ума решилась, нельзя – что ты ее ни спроси, на все тебе ответ даст разумным порядком, а не спросишь – будет сидеть вот эдак целый день, глядеть перед собой да плакать…
– Что же у нее за горе?
– Да что, добрый человек, правды скрывать нечего: самое, можно сказать, простое горе наше бабье… – опять вздохнула мать. – Молодой господин наш побаловал с ней, а как пришло время родить, известное дело, бросил… Ну, разродилась она и словно маненечко ожила: за ребенка сердцем уцепилась… Хозяин мой, отец ейный, требовал, чтобы ребенка в шпитательный отправить, а она никак: отымете дитю, жизни себя решу!.. Ну, отступились, оставили ей мальчонку ея… А она, маленько сгодя, опять за старое взялась: исходит тебе слезами и хоть ты што!.. И я уговаривала, и отец, осерчавши, постегал было, и молебны служили – нет, ничто не берет ея горя!.. И прямо стало страшно одну и покидать ее: того и гляди, над собой чего сделает… Вот добрые люди и надоумили к Боголюбимой сходить: авось, пообдует ветерком-то да помолится как следует, оно и полегчает… Хотели было мы в Саров сходить, да один человек разговорил: непременно идите, грит, к Боголюбимой. Она, грит, великая помощница и скоропослушница…
Полковник, потупившись, слушал. Старое сердце заныло. Эта странная встреча оживила в душе одну яркую страничку из его прошлого, которая до сих пор мучила его…
– Про какого же Пушкина говоришь ты, тетушка? Не про Александра ли Сергеевича? – захотелось ему удостовериться.
– Про него про самого, батюшка… – отвечала мать. – И словно бы и человек-то не злой, а гляди, какой беды наделал!..
Красавица точно пробудилась из своего столбняка и тяжелыми глазами своими, из которых побежали слезы, посмотрела на полковника.
– Дедушка… барин!.. – вдруг с рыданием вырвалось у нее. – Может, ты знаешь его… А?.. Ежели знаешь, пожалей ты мою бедную головушку… Скажи ему… напиши ему… что места мне в белом свети не стало… Знаю, знаю, что не нужна уже я ему… знаю… ну, пусть хошь весточку… какую… о себе пришлет…. что помню-де… Все сердечушко мое по нем выболело… О-хо-хо-хо…
И, заломив руки назад, она закатилась истошными, мучительными рыданиями, упала лицом в влажный, пахучий мох, и душунадрывающе завыла: у-у-у… у-у-у… И мать, и полковник всячески утешали ее, но ничто не помогало… Потом потихоньку утихла, и когда они подняли ее с мокрой земли, она уже снова была в своем жутком столбняке… Мать оправила ее, стряхнула с нее желтые листья и иглы, дала ей в руки подожок ее и взяла под руку…
– Ты уж проводи нас маненько, барин хороший… – сказала она. – Боюсь, не попритчилось бы опять с ей чего… Сделай милость, батюшка…
– Ну, само собой разумеется… – отвечал взволнованный старик. – Пойдемте потихоньку…
И все трое пошли широкой лентой дороги к Владимиру… Навстречу им вдали двигалась какая-то большая толпа. Сырой осенний ветер доносил оттуда порывами обрывки унывной хоровой песни. Мать Дуни – ее звали Аксиньей Стегнеевной – насторожилась.
– Что это, отец? – испуганно спросила она.
– Каторжане… – затуманившись, отвечал он. – Много, много проходит их тут в Сибирь…
Все ближе и ближе надвигалось страшное шествие. Песня оборвалась, но все громче и громче доносился невыносимый для сердца переливчатый звук цепей. И, наконец, серая толпа – нестерпимой вонью несло от нее по ветру чуть не на версту – в лязге железа надвинулась, как туча, вплотную. По бокам, с саблями наголо и напряженно зверскими лицами, мотались конвойные. Слышался надрывный плач ребеночка… Как ни привычен был полковник еще с детства к этому зрелищу, он оцепенел, испуганно, во все глаза смотрела на партию Аксинья Стегнеевна, и только Дуня одна словно и не видала ничего… Бородатые, измученные лица, безобразные, на половину обритые головы, серые, рваные, вшивые лохмотья на плечах и этот рвущий душу нарядный, переливчатый звон цепей… И в особенности поразила обоих стариков шедшая с краю бледная, стройная молодая женщина с когда-то, видимо, красивым, а теперь изуродованным, в шрамах, лицом. Она точно не видела ничего вокруг, и черные, огромные глаза ее были полны бешеного огня. Это была красавица Пашонка, из-за которой брат ее убил полюбовницу аракчеевскую, Настасью Минкину. И брат, и отец ее, и жених, конторщик Гриша, умерли под палками, а она выжила и в кандалах шла в далекую Сибирь…
И один из кандальников, звеня цепями, направился к пешеходам и на ходу стащил с обезображенной головы серую шапку-блин.
– Ради Христа… несчастненьким…
Полковник уже приготовил свое подаяние, как вдруг увидел, что Аксинья Стегнеевна, прежде чем подать свое, истово, с глубоким чувством перекрестилась. Его глубоко взволновала красота жеста. И он, торопливо сняв шапку, набожно перекрестился и вслед за Аксиньей Стегнеевной подал арестанту ассигнацию.
– Дай вам, Господи… Спаси вас, Господи…
И арестант исчез в страшной, серой и вонючей толпе… За кандальниками шел целый обоз с женщинами и детьми. Аксинья Стегнеевиа снова взялась было за свой платок, в уголке которого у нее завязаны были деньги, но полковник остановил ее.
– Постой, тетушка, постой… – сказал он. – Это сделаю я… А тебе самой на дорогу пригодится…
И, торопливо подойдя к головной телеге, он стал по очереди, вдоль всего обоза, оделять всех деньгами, приговаривая тихонько: разделите… разделите… С возов женщины кричали ему слова благодарности и крестились. Одна дряхлая старуха издали перекрестила его самого… И, когда он отдал последней телеге остатки, он, снова вспомнив жест Аксиньи Стегнеевны, снял шапку и истово перекрестился…
И каторжные в синие дали востока, а они, взволнованные, потрясенные до дна души, на запад, разошлись…
– Горя-то, горя-то, горя-то!.. – вздохнула Аксинья Стегнеевна. – И откудова его столько берется?..
– Много горя, много горя… – в тон ей ответил полковник. – Много горя!..
Дуня, вся в себе, шла, потупившись, рядом с матерью. И так, молча, прошли еще версты две. Мать посмотрела участливо на дочь.
– Думаю, все теперь. Бог даст, обойдется… – сказала она. – А тебе старые ноги трудить нечего, батюшка… Спасибо, родимый, что не покинул…
– Ничего, ничего, не на чем… – отвечал старик. – Вон навстречу идут какие-то двое – с ними попутчиком и пойду… Ничего… А вот хотел бы я вам на дорожку помочь, да все роздал…
– Что ты, отец? Бог с тобой!.. – воскликнула Аксинья Стегнеевна. – Мы и сами с сетью… Отец-то наш у Пушкина господина за управляющего… Покорно благодарим, ну, только ты лучше которым нуждающим помоги… А нам имячко твое святое скажи: я за твое здоровье у Боголюбимой просвирку велю вынуть…
– Вот спасибо, милая… Зовут меня люди Федором…
– Значит, за здравие раба Божия Федора… Будем помнить… Вот и твои попутчики подходят – иди теперь с Богом… Спасибо тебе, родимый!
– Счастливого пути вам… Будьте здоровы…
Встречные мужики – один высокий, рыжий, с веселыми, хитрыми глазами, а другой маленький, уютный, весь в морщинках старик – сняли шапки.
– Мир дорогой!.. – проговорили они.
– Мир дорогой!.. – отвечал полковник. – Примите и меня в попутчики…
– Милости просим, добрый человек… – отвечал старик. – Пойдем… Ты что, из здешних будешь?
– Здешний… Вот там за лесом живу – во-он белая колоколенка-то маячит!.. Село Дедново называется…
– Что же, али сродственников на богомолье провожал?
– Нет, это так, чужия… К Боголюбимой пошли…
– Доброе дело…
– А вы куда же путь держите на осень глядя?..
– Мы-то?.. Мы так… по морскому делу… вроде ходателев… – уклончиво отвечал старик и сразу переменил разговор: – А разгуливается погодка-то. Гоже мужикам молотить будет!..
– Да, слава Богу…
Понемногу разговорились. И, слово за слово, старик, споро перебирая по грязной дороге своими ловко прилаженными лапотками, рассказал, что оба они владимирские, Алябьева барина, что барин у них богатый и карахтером ничего бы, да ни в какия дела не вникает, все с собаками по полям больше скачет, все дело препоручил управителю, а тот… – он махнул рукой.
– Да… Живи, не тужи, как говорится, помрешь – не убыток… – сказал он. – Толковали было, когда Наполиен приходил, что он волю мужикам даст, – не вышло дело, потом зашептались, что Миколай Павлыч мужиков ослобонит, – продолжал словоохотливый старик, – ну, а как видится, толков не жди и от его… А делать что ни то надобно… Угодья-то и у нас не хуже ваших, а народу ни вдыхнуть, ни выдыхнуть… Да… Вот думали мы думали, гадали мы гадали да и…
Дюжий спутник его осторожно кашлянул.
– Ничего, Семен, полно-ка!.. – сказал ему старик. – Чай, мы не на разбойное дело вышли… А старичок душевный – может, чего и присоветует. Да… Вот и порушили мужики ходоками нас послать, про Беловодия эту самую проведать. Сказывали нам умные люди, что лежит та Беловодия на восход солнца, за Амур-рекой, и что ежели пешкой, то ходу до нее будет года три. И живут там будто мужики на всей своей воле, а земли сколько хотца, – и пашни, и лесов, и покосов, и рек да озер рыбных, чего только душе твоей взглянется… И, главное, никаких там над мужиком мучителей нету…









































