Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
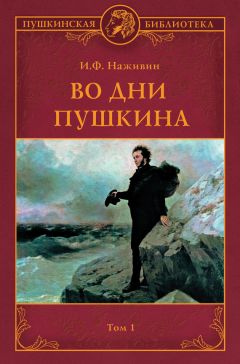
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXXIII. Чад
Николаю казалось, что он не только победил, но и втоптал в грязь своих врагов. Муки уцелевших в казематах и вопли их семей не смущали его покоя нисколько: это – государственная необходимость. Он нашел в себе мужество – говорил он близким – не послушать голоса своего сердца, принести его в жертву России, и вот враги уничтожены и Россия под державным водительством его может смело глядеть в будущее. Но у его окружения такой уж полной уверенности в его державном водительстве и в победе не было, и тайным агентам был дан приказ собрать по всей России сведения о том, как отнеслась страна к страшному действу 14 декабря 1825 – 13 июля 1826 года. Агенты не замедлили откликнуться, и Бенкендорф, генерал с добродушным немецким лицом и еще более добродушной лысинкой, который с одинаковой верностью служил бы своему делу, если бы на месте Николая оказался Пестель, некоторые из этих донесений захватил с собой к высочайшему докладу.
– Все? – выслушав доклад своего верного слуги, посмотрел на него своими холодными голубыми глазами царь.
– Если угодно, все, ваше величество… – почтительно сказал генерал. – Разрешите только оставить вам несколько агентских донесений… Есть любопытные. Особенно вот это… Настоящий писатель и большой оригинал! А кроме того, есть письмо от крестьян Нижегородской губернии, которое, по моему скромному мнению, может быть интересно вашему величеству…
– Хорошо… Я просмотрю…
Генерал низко склонился пред своим повелителем… И, когда прием должностных лиц кончился, Николай по своей привычке, вспоминая, потер свой большой, белый лоб:
– Ах, да!.. Донесения…
Он взял положенную Бенкендорфом сверху бумагу, пропустил первые вступительные строки и взялся прямо за дело.
«…Казнь и протчия наказания преступникам. Очистительное Молебствие, фейерверк на Острову Елагином, предстоящее Высочайшее Их Императорских Величеств отбытие в Москву, все его вместе делало минувшую неделю Колосальною, и потому суждения и толки были слишком многообразны…
Здесь донесутся только более достойные уважения.
Казнь, слишком заслуженная, но давно в России не бывалая, заставила кроме истинных Патриотов и Массы Народа, Многих, особливо женщин кричать: Quelle horreur!.. et avec quelle précipitation! etc…[63]63
Какой ужас… и какая спешка… и т. д. (фр.).
[Закрыть]
Очистительное Молебствие, совершенное с необыкновенным благочестием, произвело уже щастливый оборот умов, но прочтение и разбор Превозходного Высочайшего Манифеста от 13-го сего июля, в коем прямо Отечество любящий Монарх призывает сынов России к воспитанию не чужеземному, но к Отечественному, Природному, и, наконец, Манифест сей заключается прямо Божественными чувствами к Нещастным родным, от коих Члены преступлением отрываются… Все ето в истинных Патриотах умножило восторг благоговения; Колебавшихся обратило на сторону Правого дела, но закоренелых болтунов, немогущих никоим в мире правительством быть довольными все не уняло повторять хотя шепотом: quelle horreur! etc… Особливо женщин, из коих первый разряд: сто двадцати одного Преступника Жены, Сестры, Матери, родственницы, приятельницы et les amies de leurs amies…[64]64
Приятельницы приятельниц (фр.).
[Закрыть]
Второй разряд: Красавицы, потерявшие и тень надежды, кроме правоты прозьб, чем-либо успеть у юного Самодержца, как чистое Небо чистого и верного достойнейшей державной супруги…»
Под пышными, красивыми усами царя пробежала невольная улыбка, и он веселыми глазами продолжал чтение:
«Третий разряд: Пожилые Мотовки, не имеющие дерзости надеется, чтобы, по заслугам отцов или дедов их, Правосудный Монарх мог потом и трудами Поселян вносимые в казну суммы жертвовать на возвращение ими промотанного имения и часто на возобновление новых прихотей, нового мотовства их. Вот три главные причины, что в больших кругах дамы шепчут, что будет строгое царствование, воскреснет Царь Иван Васильевич Грозный, и даже выдумали какое-то будто давнее уже Пророчество что после Царствования, войнами самого блестящего, и после мгновенного вспыхнувшего бунта, из вне совершенно спокойное, но внутри, хотя правосудное, но слишком грозное. (Justice et terreur ensemble![65]65
Справедливость и террор вместе (фр.).
[Закрыть])
О казни и вообще о наказаниях Преступников в простом Народе и, в особенности, в большой части дворовых людей и между Кантонистами слышны также для безопасности Империи вредные выражения: «Начали Бар вешать и ссылать на каторгу, жаль, что всех не перевесили, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поравняли; да долголь, коротколь, им не миновать етого…»
«Манифестом Майя 12-го очень недовольны и до сих пор толкуют что ето Господа припудрили Царя издать оный; по шестимесячным повсеместном сего Манифеста чтении они толкуют, что только 6-ть месяцев Господа будут владеть нами, а там мы опять будем вольные; вить уже сколько лет Цари не дарят ни одной души Господам, стало все мы будем царские и будет нам воля. Посему то истинные Патриоты и осмеливаются желать, чтобы для искоренения етой непокорности мысли Е.И. В-во хотя малую часть крестьян из беднейших Белорусских губерний соизволили раздать кому заблагорассудит в вечное и потомственное впадиние.
Но в то же время, как простой Народ так сильно негодует против дворянства, тот же народ и особенно из разных губерний временно здесь жительствующий, сильно полюбил нового Самодержца. Собственный некоторых из них слова: «Етот Царь смышлен; он наш Батюшка, не только солдат муштрует, но и Суд и правду судить и за неправду не потакнет и знатному Боярину да и все у него по Божью, все с хозяюшкою да с детушками… – Николай опять подавил улыбку. – Видно сам Господь в нем и он будет любить Русь Святую…»
Белое лицо Николая приняло важное выражение.
«Купечество 3-й гильдии, мещане, ремесленники и их работники, – продолжал он, заинтересовавшись, – прежде крайне роптавши на тяжкие меры, кои местные Начальства принимали по манифесту 14 Ноября 1824-го года, ныне, как от Бога ожидают от Правосудия Монаршего себе спасения изменением постановлений о гильдиях и ети уже благословляют милосердие и правоту Самодержца, издающего уже указ о свободе Торговли Внутренней…
Вчера начавшийся печататься указ о повсеместном (кроме двух столиц) дозволении Винных откупов всех благонамеренных привлекает к Отцу Монарху, который блюдет Великое достоинство Царское и не себе, а торгашам-откупщикам предоставляет производить сие неизбежное зло, источник всех развратов. Народной нищеты и ужасных смертей насильственных. Но Виц-Губернаторы с своим многосложным причетом верно сему не будут рады (кроме некоторых, известных и в самой корыстной должности неколебным бескорыстием)…»
Николай слегка нахмурил брови: ему почудилась какая-то ерническая ухмылка за этими выспренно-почтительными излияниями. «Кто этот сукин сын? – подумал он. – Выражается, как сапожник, но французские слова ввертывает…»
«…Патриоты не могут и не должны скрыть от Самодержца, что Всеобщая Безнадежность, нищета у многих и у некоторых совершенная невозможность существования – имеет свою опасность. Голодный превращается в зверя, и никаких способов к пропитанию неимущие могут решиться резать и грабить тех, кои имеют что-либо. Самая Столица наводнена людьми, которые проснувшись совершенно не знают, чем пропитать себя… И пропитываются низкими или преступными средствами… На сие необходимо нужно обратить особенное внимание. Но деятельная Верховная Власть верно искоренит и ето зло, качав истреблением роскоши, так давно и так несчастно во всех теперь сословиях вкравшейся; с истреблением роскоши уничтожится и множество мнимо-необходимых нужд. Наше Отечество избыточествует всем необходимым. На святой Руси еще никогда никто не умирал с голоду и никогда никто не будет ни голоден, ни наг, ни бос, будее все большие и малые члены Правительства станут содействовать отеческой о всех попечительности Монарха, от которого при помощи Божией Святая Русь верно получит прочное счастье…
Еще говорят в городе что Преступников до такой степени хорошо содержали в крепости, что когда жена Рылеева – ныне, говорят в безумие впавшая – прощалась с мужем, то после тяжких терзаний такового прощанья Рылеев укрепился и, подавая жене апельсин, будто бы сказал: «отнеси ето дочери и скажи ей, что по милости Царя, из Крепости Отец ей с благословением может еще послать и сей подарок лакомства…»
Он опять почувствовал ерническую ухмылку, а в голове какой-то чад. Он вообще плохо разбирался в явлениях жизни, а в бумагах – в особенности. Ему в этом донесении чувствовалась какое-то двоедушие, двуязычие и точно какая-то ядовитая насмешка. Он отбросил его, досадуя на тупого Бенкендорфа, и взялся за другие. В них был сплошной колокольный звон. Это было приятно и успокоительно, и он, читая малограмотные бумаги эти, укреплялся в мысли, что все теперь обстоит благополучно и что пред ним ровный и гладкий путь к небывалому торжеству… Разорванная было бунтовщиками паутина лжи энергично исправлялась пауками-добровольцами…
Под бумагами сыщиков лежало письмо крестьян-нижегородцев. Лист дрянной бумаги был весь измят и кляксы, старательно слизанные, распускали, как кометы, свои хвосты по безграмотным каракулям.
«Милостивай и Гасударь Миколай Павлавич, – прочел царь, – ваше Анпираторская виличиства, просим мы вас отгоспод нельзели аслабадить, господ всех нажалованя посадить а на нас всю землю подушам разделить а потом просим Вас Ваше анпираторская Виличиства нельзели какнибуть солдатства аслабадить нас прощайте Миколай Павлавич дай вам Бох щастлива оставаца пращай радимай наш залатой…»
Уверенность, что пред ним ровный путь к торжественным апофеозам, померкла. Он бросил грязную бумажонку под стол, но сейчас же нагнулся, вынул ее из корзины и снова положил к донесениям: пусть там Бенкендорф все разберет. И опять, вспоминая, потер лоб. Да: военные поселения!.. Сегодняшний доклад Бенкендорфа был посвящен им. Он был составлен в осторожных, но весьма энергичных выражениях. В самом деле, брат наделал чепухи. Иметь под самой столицей огромную армию недовольных, с оружием в руках, это чистое безумие. И по мере посадки на землю следующих полков эта мужицкая армия с ружьями и всяким запасом в руках, – это может повести к такой катастрофе, что и подумать страшно!.. Необходимо – Бенкендорф совершенно прав – немедленно военные поселения уничтожить. Но надо сделать это так, однако, чтобы это не было похоже на уступку обществу. Ведь и мятежники требовали уничтожения военных поселений – правда, по другим причинам… Нет, трудного впереди еще много…
Приближенные убаюкивали его сказками. Но когда несколько дней спустя он осчастливил своим высоким посещением первый кадетский корпус, то кадеты на его медно-трубное приветствие «здорово, дети!» ответили глубоким молчанием, а в коридоре Морского корпуса какой-то неведомый мастер выставил для Высочайшего удовольствия миниатюрную виселицу с пятью повешенными на ней мышами… И все старания всполошившегося начальства открыть виноватых не привели ни к чему: мальчишки держались героями… Потом Дибич осторожно доложил ему, что офицеры держат от себя доносчика Шервуда в отдалении и его новое имя Шервуд Верный переделали в Шервуд Скверный, а другие между собой зовут его просто Фиделькой. Все его перуны как будто не привели ни к чему и заражение умов продолжалось. И только переварил было он эти грязные истории, как ему донесли новенький фактик: один из сторожей Петропавловки послан был закупить осужденным кое-каких припасов. Между прочим, приторговал он им корзину яблок.
– Только дорожишься ты очень, купец хороший… – сказал он торговцу. – Не для себя ведь я забираю твои яблоки…
– А для кого же? – заинтересовался торговец.
– А для тех, что в Петропавловку посажены…
Купец посмотрел на него.
– А коли так, бери все, милый человек, даром… – сказал он и досыпал корзину яблоками доверху.
– Черт бы всех их, сволочь, подрал!.. – пробормотал Его Величество и, резко встав от рабочего стола, железными шагами своими направился в гардеробную одеваться к завтраку.
XXXIV. «Пророк»
Казнь его приятелей, как громом, пришибла Пушкина. Он понял одно: шутить, в случае чего, не будут и с ним. Вокруг него уже шарили какие-то невидимые щупальца. Тайные агенты были посланы Бенкендорфом и в окрестности Михайловского. Они опрашивали и всюду слышали только одно: живет тихо и скромно, бывает только в Тригорском да изредка в монастыре, у о. игумена. А игумен, о. Иона, позевывая, сказал: «Ни во что решительно не мешается, – живет точно красная девка…» Трактирщик же в Новоржеве удостоверил, что он не раз слышал от г-на Пушкина такие уверения: «Я пишу всякие пустяки, которые в голову придут, а в дело ни в какое не мешаюсь. Пусть кто виноват, тот и пропадает, я же сам никогда на галерах не буду…»
В Петербурге все это было принято с полным удовлетворением, хотя и с некоторым разочарованием. Правда, в донесениях из Псковской одно сомнительное место было. Оказывалось, что иногда поэт, приехав куда-нибудь верхом, приказывал своему человеку отпустить свою лошадь одну: всякое животное имеет право на свободу… Николай резко отчеркнул эти две строки красным карандашом, но по зрелому размышлению решил оставить это без последствий: поэт на то и поэт, что иногда он должен сбрехнуть что-нибудь эдакое завиральное…
И Пушкин лениво работал над «Онегиным», писал свои записки и, как всегда, то, как искрами, брызгал яркими мелочами, то гремел – словно неожиданно для самого себя – строфами чеканки бесподобной. И, как ни старался он укротить себя, подчиниться, все же иногда срывался в свое бунтарство и недавно написанного «Пророка», например, весь трепеща от гнева, с раздувающимися ноздрями, заключил бешеными строками по адресу Николая:
Восстань, пророк, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди и с вервием вкруг выи
К убийце гнусному явись!..
Как всегда летом, много времени проводил он в Тригорском, куда приехал на лето его приятель Алексей Вульф и где часто бывал его соперник около Зизи, Борис Вревский, теперь офицер лейб-гвардии Финляндского полка и масон. Все более и более расцветавшая Зина варила жженку – она была великая мастерица этого дела – и серебряным ковшичком на длинной ручке сама разливала им ее по стаканам, и пела им, а они взапуски ухаживали за ней и в своих стихах воскуривали ей фимиам:
Вот, Зина, вам совет: играйте, –
писал ей Пушкин в альбом, –
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец…
А ночью, когда он оставался в тиши своего старого дома один, ему мнились иногда те, погибшие и погибающие, и он не находил себе места от ярости, стыда и тоски. И раз, в задумчивости, он нарисовал на рукописи пять виселиц с повешенными и подписал: «и я мог бы также…» И тяжело вздохнул…
Так проходило это страшное лето. Осень была уже совсем близко, и Пушкин с удовольствием предвкушал уже ее непогоды и свое бурное осеннее творчество… Стояло нарядное бабье лето, и, пользуясь последними солнечными днями, молодежь в Тригорском особенно веселилась. Часто, чтобы продлить радость быть вместе, девушки ночью провожали поэта до его уединенного домика, а потом, не в силах расстаться с ними, он опять провожал их в Тригорское – как полагается…
И вот, когда он раз вернулся так ночью домой, на столе своем он с удивлением увидал чье-то письмо без марки. На маленьком, изящном конверте женской рукой – знакомой – было написано: «Александру Сергеевичу Пушкину – в собственные руки». Он вскрыл и, подсев ближе к лампе, начал читать:
«Я больше не могу. Я должна сказать Вам все. И то, что я хочу сказать Вам, я не могу лучше выразить, как целиком переписав письмо Вашей Татьяны к ее ужасному Онегину. Когда я перечитываю его, мне делается страшно: как могли Вы угадать так хорошо то, что происходит в моей душе? Я ни слова не могу убавить из того, что сказала она тому ужасному человеку, и не хочу ни слова прибавить: там, в ее письме, все… И зачем, зачем пишу я Вам эти бессмысленные строки? Ведь я же знаю, что и Вы мне ответите так же, как ответил он ей в четвертой главе… Другого вы ничего сказать не можете… Как и он. Вы не добры: ведь я знаю о бедной Дуне все!.. У Вас сердце не то что пустое, а на корню иссохшее… Бога в нем нет и нет ничего святого… И вот тем не менее пишу, потому что то, что я ношу в сердце моем, убивает меня и мне кажется, что, если я выскажу все это, мне будет легче… И помню Аню Керн, и эти Ваши глаза, которыми Вы всегда на нее смотрите… Ужас, ужас!.. Я хотела молить Вас: уезжайте отсюда совсем и навсегда, но я знаю, что, во-первых, Вам нельзя уехать, а во-вторых, и главное, что у меня нет никакого права обращаться к Вам с такою просьбой… Что мне делать, что делать, что делать?.. Помогите мне… Пожалейте меня!.. А.».
Письмо было от Анны. Милая, бедная девушка!.. Но, действительно, – он усмехнулся, – он ничего не мог бы ответить ей, как то, что ответил Онегин Татьяне. Вот игра жизни!.. И он, подойдя с письмом в руке к окну, сел на подоконник и задумался. Где-то за Соротью лаяли собаки. В Михайловском разгулявшаяся молодежь хороводы водила… И он с удовольствием вслушивался в веселый, почти плясовой лад песни:
Не летай, соловей,
Не летай, молодой,
На нашу долинку…
И вдруг ему почудилось, что в веселую мелодию за спящим садом как будто вплетается какой-то посторонний звук. Он вслушался – несомненно, это был колокольчик… Кто мог бы быть так поздно? Нет, он ошибается, это в печке, затопленной няней, – звездные ночи всегда заканчивались теперь ядреными утренничками – дрова урчат… И вдруг колокольчик сразу вырос и покрыл собой хоровод. Что такое?! Колокольчик нарастал, послышался быстрый бег тройки, собаки взбеленились на дворе. Неужели это за ним?!
Он похолодел…
Колокольчик смолк. Собаки просто из себя выходили. Послышались голоса дворовых, разгоняющих их, и чей-то посторонний бас. Он соображал, как всегда в таких случаях, где и что запретное у него лежит. Сердце неприятно билось. И вдруг на пороге выросла фигура испуганной, полуодетой няни.
– За тобой какой-то офицер приехал… – испуганно уронила она и перекрестилась истово. – Бает, сичас увезет тебя…
– Иди, иди к нему… – зашептал он. – Скажи, что я сейчас… И постарайся задержать его там как-нибудь…
Няня вышла, а он кинулся к столу и стал бросать в печь свои бумаги: записки, «Пророка», письма… Из одной пачки писем выпала засохшая веточка гелиотропа, но он не обратил на нее внимания и затоптал ее в своей поспешной работе. Бросил в огонь и письмо Анны… Печь выла. Оглядевшись, он застегнулся и быстрыми шагами вышел в слабо освещенную прихожую: пред ним стоял фельдъегерь. В дверях виднелись заспанные и напуганные лица дворни. Усатый фельдъегерь с суровым, запыленным и вместе измученным лицом сделал под козырек и отрубил:
– По высочайшему Его императорского величества повелению вам вменяется сейчас же выехать со мной в Москву в распоряжение дежурного генерала…
– В Москву? – поднял брови Пушкин. – Зачем?
– Не могу знать.
– Сейчас? В ночь?
– Так точно…
– Собирай, мама… – с отвращением и бессильной злобой в душе сказал он няне. – Поскорее, старая…
Старуха разразилась рыданиями. Послышались испуганные всхлипывания и среди дворовых: молодого барина, который решительно ни во что не мешался и всем предоставлял жить, как им угодно, любили.
– Да будет тебе, мама!.. – обняв ее за плечи, проговорил тронутый Пушкин. – Полно!.. Везде жить можно… Ведь жил же я в Кишиневе, в Одессе! Ну, и теперь опять прокатят куда-нибудь… Не плачь…
– Имею честь доложить, что ехать вы можете в собственном экипаже, не как арестованный… – вмешался фельдъегерь, шатаясь от усталости. – Но только в моем сопровождении…
Закипели приготовления… И чрез какие-нибудь полчаса коляска под громкий плач и причитания Арины Родионовны скрылась в звездной ночи…
В душе Пушкина было исступленное бешенство, от которого он буквально слеп. Он решил, что если все это в связи с делом 14-го, то он напоет им как следует: если погибать, то с честью!.. И он плотнее закутался в шинель, – было очень прохладно – и в его мозгу ярко вспыхивали картины финальной катастрофы: как его, арестованного, введут куда-то, как будет дежурный генерал его допрашивать и как он, высказав все без колебаний, швырнет им, а, может быть, и самому царю своего «Пророка» в лицо… Нет нужды, что он сжег его, – на первой же станции он запишет его снова…
На козлах, рядом с верным Петром, покачивался в тяжелой дремоте замученный фельдъегерь…
Еще затемно, проплакав всю ночь, Арина Родионовна бросилась старыми ногами своими в Тригорское. Запыхавшись, с седыми космами, рассыпавшимися по лицу, отчаянным плачем своим она сразу подняла весь дом. Прасковья Александровна и заспанные, испуганные, полуодетые девицы окружили ее.
– Что такое?.. Что случилось?..
Няня, то и дело обрываясь, вся в слезах, поведала все: как пришел Пушкин из Тригорского, как сидел у окна с каким-то письмом в руках, как вдруг прискакал какой-то не то солдат, не то офицер, как Пушкин сжег все свои бумаги, как вышел к солдату и как тот по царскому повелению сейчас же увез его с собой в Москву. Глаза округлились. На всех лицах был испуг. Анна, быстро одевшись, одна, вся в слезах, ушла в глубь пылающего осенними огнями и залитого росой сада…









































