Читать книгу "Во дни Пушкина. Том 1"
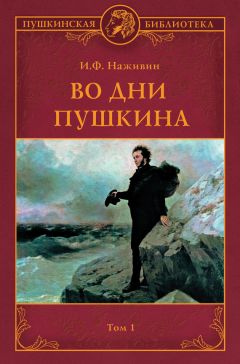
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Вам известно это?
Пойманный на месте, тот молчал.
Александр молча бросил бумаги в огонь камина – Наполеон ошибся в своих расчетах.
Очень устав от всех этих подлостей, преступлений и бессмыслицы, Александр ничем не проявил своего неудовольствия или раздражения к людям, участвовавшим в этой низости: он старался все сводить на нет.
– Вы были втянуты в это, я понимаю… – сказал он баварскому королю, который хотел перед ним оправдаться. – Я уже не думаю больше об этом…
Так же поступил он и с другими – только Наполеону, этому «всесветному смутьяну», не мог он простить, несмотря на все его заверения, что он признан самими республиканцами за своего повелителя, что цель его теперь – мир, что он считает Александра своим лучшим другом и пр. Против него была двинута гигантская союзная армия в 860 000 человек. Но прежде чем русские войска успели дойти до Рейна, грянуло Ватерлоо и судьба Наполеона была решена. Благодаря ему, так долго ссорившийся венский конгресс быстро пришел к соглашению: Россия получила герцогство Варшавское, Саксония почти вся перешла Пруссии, Людовик снова вернулся для блага человечества в Париж, и снова «citoyens» приветствовали Александра как своего избавителя…
Но он устал, он изнемог. Страсти увлекали его иногда и теперь: он мог поддаться очарованию женщины, он мог порисоваться пред людьми своим блестящим положением «Императора Европы», он мог быть тщеславен, легкомыслен, груб и теперь, но все острее ощущал он теперь горечь земных обманов…
…Тяжело вздохнув, он поднял глаза в звездные бездны, которые в пахучей прохладе осенней ночи тихо плыли ему навстречу из-за широкого, темного силуэта Ильи, и проговорил про себя:
– Божией милостью, или, как у них, волею народною, – какая нелепость, какая издевка!.. Божиим попущением, как наказание, – да…
XIV. Зарницы
Торжественно-грустное настроение не покидало Александра всю дорогу. Во время этой поездки не было ни обычных смотров, ни приемов. На всех остановках он сам заботливо осматривал помещения для следовавшей за ним больной жены. Вокруг него расстилалась во всей своей пестрой и грустной осенней красе русская земля, – стояло тихое и яркое бабье лето – бежали мимо города, деревни, реки, леса, поля; люди, встречая его, исполнялись и какого-то священного ужаса, и любви необыкновенной, но все это было теперь где-то в отдалении. Он с усилием разрушал те пестрые миражи, которые владели им всю жизнь и которые скрывали от него что-то важное и огромное, как эти вот пестрые облака закрывают закатное, за ними сияющее солнце… Он проводил глазами стройный ключ гусей, которые в пестрой бездне неба тянулись над лесами на юг… И мысль снова вернулась на старый след…
«…И почему, почему тогда, когда мы устилали землю бесконечными тысячами трупов, они приветствовали и его, и меня, как каких-то богов, но стоило мне ужаснуться пред всем этим, отступить, начать искать путей к спасению, как они сразу приходят в бешенство?.. Почему так возмущает их идея Священного Союза? Раньше мне казалось, что благо людей заключается в свержении безумца Наполеона, залившего кровью всю Европу, но средства для достижения этого «блага» оказались настолько ужасны, что у меня волосы стали дыбом: мы растерзали миллион людей, мы довели их до людоедства. Да и этой ценой чего же мы достигли? Что странного, что преступного в том, что при виде всех этих кошмаров в душе моей родилась мысль о христианском, братском союзе всех народов? И мы обязались управлять нашими народами на заповедях святого Евангелия, которые должны руководить не только жизнью отдельных людей, но и волею царей. Что тут преступного? Да те же масоны, разве не к этому же они стремятся? Разве не об этом молятся церкви? Правда, что первые же шаги и на этом поприще привели опять к насилиям, кровопролитию, вражде, но, Боже мой, разве я виноват в этом? Я искренно хотел людям добра…»
Прекрасные пожары неба потухали. Только на западе пылали еще вишневые и золотые облака. Над черными лесами зажглась зеленая Венера. Стало свежо… Он закутался поплотнее в шинель и, опустив голову, продолжал пересматривать свою жизнь. В глубине души, чувствовал он, зажигаются и все более и более разгораются какие-то светильники, и, осиянная ими, ярче виднелась ему его жизнь со всеми ее заблуждениями и грехами…
То же было и в русских внутренних делах. Он вступил на престол революционером. Но на первых же шагах Франция дала ему оглушающий урок. Казалось бы, что может быть прекраснее лозунгов ее революции. Но к чему эти светлые лозунги людей привели? Сперва невероятные ужасы отвратительного революционного террора, а в конце опять и опять – vive l’Empereur! Так для чего же нужно было все это нечеловеческое воодушевление и все эти страдания, если пылающие звуки марсельезы сменились – и башмаков еще износить не успели – осанной в честь удачливого проходимца?..
И вывод ясен: раз стада человеческие не могут подняться на высоту идеала, который грезится им, так пусть уж лучше сидят смирно – по крайней мере, не будут рубить один другому голов… Следовательно, от этого революционного яда нужно предохранить прежде всего молодые поколения, надо поставить науку так, чтобы христианское благочестие было основой просвещения… И если опять разные карьеристы, все эти маленькие домашние Меттернихи и Талейраны, сделали из его идеи уродство, то разве же он виноват в этом?..
То же и с военными поселениями. Их, сказывают, устраивали уже в древности римляне по берегам Рейна и в Паннонии, дабы защитить империю от вторжения варваров. Ныне в Венгрии, вдоль Дуная, по границе поселены храбрые сербские полки… Над ними думала уже его бабка, Екатерина, которая, в конце концов, побоялась, однако, дать ружья мужикам. Думал его отец, думали в Польше… Война зло, это он сам видел, но зло, по-видимому, неизбежное. А раз так, нужно его народу облегчить. За время войн с Наполеоном русское крестьянство выставило более 1 200 000 солдат, и даже этого не хватило, и в некоторых губерниях забрали даже мальчиков до 12-летнего возраста, чтобы послать их в военные воспитательные дома. Служба продолжалась двадцать пять лет, то есть всю жизнь, а вернувшись под старость домой, больной, израненный воин не находил ни кола, ни двора, ни одного близкого человека. И, чтобы облегчить солдату тяжесть того государственного креста, который так давил его, полки были посажены на землю и солдаты могли оставаться в своих домах, со своими семействами, при всех домашних занятиях.
Он так верил в благодетельность своего проекта для крестьянской Руси, а она, слепая, не могущая во всем объеме охватить всю тяжесть, всю огромность жертвы, которую приносила она Молоху военщины, встретила его мероприятие бешеными бунтами. Он видел в этом только слепоту, невежество, косность, он хотел облагодетельствовать ее вопреки ее желанию, вопреки ее мольбам «защитить хрещеный народ от Аракчеева». Разве на его глазах не применялись насильственные меры по всей Европе для введения картофеля, против которого население устраивало кровавые бунты?..
Но бесплодные усилия эти становились ему все тяжелее, все несноснее, и все более и более искал он уединения. Постепенно все дела по управлению Россией перешли в руки Аракчеева, который был, по крайней мере, истинно предан и не изменит ему. Он кое-что слышал о его жестокостях, правда, не всегда доходивших до трона, но… не все ли, в конце концов, равно, кто будет вести толпы: Наполеон, Людовик, Талейран, Меттерних, Фриц, Франц, Павел, Екатерина, Аракчеев или он сам? Кто бы во главе ни стоял, жизнь людей была и будет одним сплошным кровавым безумием. Да и кого, кого, в самом деле, поставить к делу? Тот ветрогон, тот карьерист и мошенник, тот тупица… Вот на днях представился ему Карамзин – казалось бы, человек выдающийся, а сколько времени потратил он, чтобы добиться этой аудиенции, которая была нужна ему только на то, чтобы выпросить себе шестьдесят тысяч за свою «Историю» да чин!.. Сперанский обращается с унизительным прошением о принятии его вновь на службу, и, хотя несочувствие его военным поселениям известно, он, чтобы понравиться, рисует царю блестящее будущее этих поселений… Адмирал Мордвинов слыл за величайшего филантропа и мнениями, которые подавал он в Государственном Совете, приобрел себе славу русского Аристида, но, когда Александр, путешествуя по Крыму, проезжал Байдарами, на дороге его со слезами и воплями встретило все население местности, более двух тысяч человек, жалуясь на притеснения своего помещика, адмирала Мордвинова…
– Славны бубны за горами… – сказал Александр с горечью.
Отвращение к людям, ко всей жизни и делам ее поднялось в нем мутной и горькой волной. И, колеблясь, усталыми ногами он повернул и пошел в бездорожной тьме к Богу. И он был не один: многие в ту тяжелую эпоху повернули на этот путь. А за ними, из подражания, из моды, потянулись и все. То, что у Александра было величественной трагедией, то в обществе, в толпе, которая одинакова во дворце и на базаре, легко и неизбежно выродилось в мистическую «вздорологию» и «затмение свыше»…
– Ты не очень устал, Илья? – мягко спросил он кучера.
– Помилуйте, ваше величество!.. – повернув к нему вполоборота свое бородатое лицо, отвечал тот. – Пора и привыкнуть…
– Ты что говоришь? – приставил Александр руку к уху: в последнее время он стал глохнуть.
– Говорю, что ничего, ваше величество, привык… – громче повторил Илья.
– Ну, еще немного и отдохнем… – сказал царь. – Меня и то езда что-то утомила уже…
Зарницы вздрагивали за черными лесами. Звезды ласково теплились в вышине. И Александр чувствовал, что в душе его согревается и точно светает… Сзади него, на запятках, качался, изнемогая от усталости, лейб-егерь…
XV. Итог
Отдохнув два часа в каком-то черном городе, где по маршруту была остановка, он еще затемно выехал дальше. Ему казалось, что так, спеша, он скорее прибудет не только в Таганрог, но и к той своей тайной цели, от которой он был теперь, как ему казалось, совсем уже близко…
…Сдав постепенно все Аракчееву, он сам, точно спасаясь от своих дум, от своих страданий, начиная с 1816 года бросился в путешествия без конца. Москва, Киев, Урал, Крым, Финляндия, Чернигов, Белое море – все это сменяло одно другое, как картины в волшебном фонаре. Всюду бросалась в глаза бедность крестьянства и общее неустройство, неуют и какая-то нелепость всей жизни… Только изредка мелькали счастливые островки, вроде благоустроенных селений молокан и духоборов. Но тут же, точно для того, чтобы не дать ему обманывать себя, пред ним вставали картины разоренного Крыма, где к этому времени из прежнего, при завоевании, четырехсоттысячного населения страны осталось всего сто тридцать тысяч. А тут вскоре раскрылась ужасная правда о положении дел в Сибири, где губернаторы представляли из себя одну сплошную шайку казнокрадов и негодяев первой руки. И всюду полное бессилие правосудия, подкупы, беззаконие. На выборах апатия: все даровитое отходит прочь, а вперед лезут бездарности и карьеристы. Как при всем его могуществе помочь всему этому гниению и развалу?
В беседах с людьми искренними, которые не искали у него ничего, он все усиливался понять, ухватить смысл деяний людских. Он смело срывал покровы с своей души в беседах с посетившими его квакерами, которых он принял, как друзей и братьев, и которым прямо заявил, что согласен с большею частью их учения и что вызвал он их в Россию для того, чтобы их истинное благочестие, их честность и другие добродетели послужили для народа примером: видимо, цену всем этим Фотиям да и вообще батюшкам он знал хорошо.
С полной откровенностью и сердечностью рассказывал он этим добрым людям, как стремления к Богу и чистой жизни были у него еще в детстве и в юности, что не раз случалось, что горячее раскаяние в грехах поднимало его ночью с постели и бросало на колени, чтобы просить у Бога прощения и сил для большей бдительности над собой на будущее время. Мало-помалу, при отсутствии нравственной поддержки со стороны окружающих его лиц, эти душевные порывы в нем заглохли и только 1812 году снова разбудили его… Он рассказывал квакерам – они находят войну для христианина недопустимой и потому в армии не служат, – как сильно была всегда проникнута его душа желанием навсегда уничтожить на земле войну, как целые ночи не спал он, раздумывая над этим, как у него возникла, наконец, мысль о Священном Союзе, который должен был слить все народы в одну семью…
– Мой замысел вызвал грубые подозрения, – прибавил он, вздохнув, – но только теплая любовь к Богу и людям была побуждением, руководившим мною…
Решение уйти от всего зрело в душе его. Еще в 1819 году он говорил сперва брату Николаю, а потом и Константину, что он решил сложить с себя бремя власти.
– Я предупреждаю тебя для того, – сказал он Константину, наследнику, – чтобы ты подумал, что тебе надо будет делать в этом случае…
– Тогда я буду просить у вас места второго вашего камердинера, – отвечал Константин, и раньше заявлявший, что он царствовать не хочет и не будет, – и я буду чистить вам сапоги… Когда бы я теперь это сделал, то почли бы подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу вам преданность мою к вам…
Александр крепко обнял его и поцеловал, как не целовал за всю жизнь…
Путешествия продолжались, неожиданные, бесконечные, точно он боялся оставаться в привычной обстановке, перед лицом Рока. Вот он плывет прелестным проливом от Сердоболя к суровому Валааму, беседуя с настоятелем монастыря.
– И ныне я замечаю, – говорит он, – что, трактуя с опытными и знающими людьми, полагаем план, по нашему разумению человеческому…
И он забирается в непроездную глушь Финляндии, он терпит всякие лишения и неудобства, но он отрезан бурными реками, непроходимыми болотами, дремучими лесами от своей мучительной жизни, и он дышит. А там, вдали, в Германии, Занд убивает Коцебу, начинаются волнения среди немцев, заволновалась Испания, Италия, поднялась Греция… А дома зловещий бунт в Семеновском полку. Вообще недовольство в стране растет, вызванное тем, что он не хочет объявить войну Турции, чтобы вступиться за Грецию, что русские войска должны идти на помощь Австрии для подавления революции в Пьемонте…
И, когда он, вернувшись с конгресса из Троппау, узнал страшную весть, что в России открылся заговор против него, что имена всех заговорщиков известны, он долго оставался задумчивым, а потом сказал:
– Милый Васильчиков, вы, находясь при мне с самого вошествия на престол, знаете, что и я разделял и поощрял все эти иллюзии и заблуждения…
И после долгого молчания прибавил:
– Не мне карать!..
Генерал-адъютант Бенкендорф – твердо, как немец, уверенный, что то, что он, Бенкендорф, знает, то он знает, и то, что он делает, это лучше всего, – подал ему подробную докладную записку о заговоре. И долго думал над ней Александр. Цель тайных обществ, неуклюже писал Бенкендорф, большой любитель дам, промотавший уже не одно состояние, есть введение «такого образа правления, под которым своеволие ничем не было бы удерживаемо, а пылким страстям, неограниченному честолюбию, желанию блистать была бы предоставлена полная воля. Разумеется, вместе с ним надеялись занять высшие места в новом правительстве… С поверхностными, большею частью, сведениями, воспламеняемые искусно написанными речами и мелкими сочинениями корифеев революционной партии, часто не смысля, как привести собственные дела в порядок, мнили они управлять государством. Для прикрытия сколько-нибудь своего невежества бросились они в изучение политических наук и стали посещать часто преподаваемые курсы, где поверхностно ослепляли их блеском выражений и глушили громкими, но пустыми словами…».
На уже поблекших губах Александра появилась бледная улыбка. «Ну и наши знания тоже большой глубиной, судя по результатам, не отличались, – подумал он. – И громкими словами и мы людей глушили не меньше…»
Среди тяжелой душевной смуты он был совершенно одинок. Он ясно чувствовал, что близкие не были с ним в его страданиях и совсем не понимали его. Они пожимали все плечами и с удивлением повторяли: «Чего ему еще надобно? Он стоит на высоте могущества…»
1824 год открылся для него тяжелой болезнью: он сильно простудился на крещенском водосвятии. Этой болезнью воспользовался архимандрит Фотий, бешеный и ограниченный изувер, чтобы, пуская в ход все средства, свести счеты с ненавистным ему князем А.Н. Голицыным, министром духовных дел и председателем ненавистного Фотию Библейского Общества. Князь был взят ко двору еще Екатериной. Она любила его за ловкость, веселость, а в особенности за искусство передразнивать всех. Озорство его доходило до того, что он раз на пари дернул Павла за обедом за косу. Уже будучи обер-прокурором, он ловко изображал иерархов, заседающих в синоде. Придворный ветреник этот был человек простой, добрый, но в вере обнаруживал великие шатания. То увлекался он мистицизмом и подвергал себя аскетическим упражнениям, то предавался разврату. Набожность его доходила до того, что любимая собачка его кушала из тарелки с священными изображениями. Словом, как говорили современники, «пустая камергерская голова». И потому он ведал всеми духовными делами в России, но не так, как, по мнению Фотия, было нужно ими ведать, и за это бешеный поп возненавидел его. В изуверстве своем Фотий дошел до того, что предал Голицына анафеме, и, предав, «скача и радуяся, воспевал песнь: с нами Бог…».
Едва встав, Александр снова бросился в длинное путешествие: сперва по белорусскому тракту до Смоленской губернии, а затем на восток до самого Урала. Потом Петербург постигло жестокое наводнение, во время которого погибло более пятисот человек и сильно пострадал город и флот. Он был сильно потрясен бедствием. Как только вода спала немного, он поехал по городу. Страшная картина разрушения развернулась пред ним. Он вышел из экипажа и, не произнося ни слова, только плакал. Народ с воплями обступил его.
– За наши грехи Бог нас карает… – сказал кто-то из толпы.
– Нет, за мои… – с грустью отвечал он.
И Шервуд, унтер-офицер уланского полка, сын англичанина-механика, подал ему донос о военном заговоре, охватившем чуть не всю Россию. Но опять, ко всеобщему удивлению, он приказал – не торопиться…
…Над черными лесами черкнула золотая полоска зари: был близок рассвет. И в последнем внутреннем усилии могучий царь, повелевавший миллионами, высказал себе твердо ту последнюю правду, которая назревала в нем с 1812 года:
«Все это химеры… Общее благо недоступно потому, что его вообще не существует… Я измучил людей и измучил себя… И потому мне нужно прежде всего уйти…»
И радостный свет залил всю его душу. Было и страшно, и стыдно, и блаженно. Он глядел на встающее над просинившими лесами солнце и – плакал тихими, умиленными слезами…
XVI. В Грузине
Графу Алексею Андреевичу Аракчееву, неограниченному владыке всея России, давно уже нужно было бы быть, по случаю отъезда его величества в Таганрог, в Петербурге, но солнечное и теплое бабье лето удерживало его в милом его сердцу Грузине, которое пожаловал ему его благодетель император Павел I и которое было знаменито тем, что именно тут апостол Андрей водрузил для бедных язычников крест. Впрочем, и дела по ближним военным поселениям требовали его присутствия тут. Из Петербурга то и дело летели в Грузино фельдъегеря, неслись на поклон высшие чиновники, министры, представители знати, так что казалось, что центр жизни всей необъятной страны, ее столица переместилась теперь в эту красивую усадьбу, затерявшуюся среди лесов Новгородской губернии, на берегу славного Волхова.
Сын небогатого дворянина Новгородской губернии, Аракчеев любил говорить о себе своим новгородским говорком: «я человек необразованной, бедной дворянин», но в то же время он охотно давал понять, что теперь «Аракчеев есть первой человек в государстве». Свое учение начал он, как и многие дворяне того времени, у сельского дьячка, и потому до конца дней своих писал он по-русски, как сапожник или как русский аристократ того времени. Потом он поступил в Артиллерийский и инженерный шляхетский корпус в Петербурге. Розги считались там самым верным воспитательным средством. По окончании курса он попал в Гатчину, где сделался правой рукой Павла и очень скоро дослужился до чина генерал-квартирмейстера. Он мучил подчиненных ему солдат и офицеров непосильными занятиями, и генеральская трость его редкий день не гуляла по рядам. В наказаниях он не знал никакой меры, и десять тысяч палок было при нем делом обычным. Часто он впадал в ярость, в строю вырывал у солдат усы, раздавал пощечины офицерам, и раз, на первом смотру Павла, он даже откусил ухо у одного гвардейца. «Только то и делают, – угрюмо говаривал он, – что из-под палки…» Уставший от жизни Александр постепенно передал ему все дела по управлению. Аракчеев пользовался его неограниченным, казалось, доверием: на бланках с подписью государя, которые он имел у себя, он мог вписать и то, что данное лицо лишается всего и ссылается в Сибирь, и то, что лицо это награждается чинами и орденами. У него в глазах Александра было не мало достоинств: во-первых, он был честен среди всеобщего казнокрадства, во-вторых, никогда ничего для себя не просил и всю жизнь довольствовался своей сравнительно небольшой грузинской вотчиной, и, в-третьих, был искренно, по-собачьи, не рассуждая, привязан к своему повелителю… Когда в 1812 году многие сановники просили его воздействовать на Александра, чтобы он удалился из армии, доказывая, что в противном случае отечество окажется в опасности, он искренно воскликнул:
– Что мне Отечество!.. Скажите, не в опасности ли государь?..
Аракчеев отлично знал, что его ненавидят все яркой ненавистью. До него доходили не только едкие эпиграммы Пушкина, но и те смелые стихи Рылеева, над дерзостью которых ахала вся Россия:
Надменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей…
По тогдашней моде совсем еще зеленый Рылеев напоминал ему времена Рима:
Тиран, вострепещи!.. Родиться может он:
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей, Катон…
А если бы Брута или Катона не оказалось, то он грозил графу судом потомства:
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь:
Твои дела тебя изобличат народу,
Познает он, что ты стеснил его свободу.
Налогом тягостным довел до нищеты.
Тогда вострепещи, о временщик надменный:
Народ тиранствами ужасен разъяренный!..
Аракчеев все это презрительно выслушивал и, ничуть не смущаясь, шел своей дорогой… Большим доверием у царя не пользовался, казалось, никто, но тем не менее сыщики следили за каждым шагом всемогущего графа – столько же для его охраны, сколько и для наблюдения за ним…
Прием у временщика кончился. По прохваченной утренничками, сухой и звонкой дороге в буре колокольчиков и бубенцов в Петербург неслась целая лавина чиновников, генералов, фельдъегерей, адъютантов, попов, барынь… Аракчеев, кряхтя, встал от рабочего стола и потянулся. Это был человек среднего роста, немного сутулый, с темными и густыми, как щетка, волосами, низким лбом, небольшими мутными и холодными глазами, толстым носом и плотно сжатыми губами, на которых никто, казалось, никогда не видал улыбки. Острословы находили, что он был похож на большую обезьяну в мундире. Он задумчиво потер себе поясницу и тяжелыми шагами направился в огромный вестибюль: перед чаем он всегда немножко гулял. Несколько лакеев в ливреях, заслышав тяжелые шаги, вытянулись. В глазах их стоял страх, который они напрасно старались скрыть под почтительностью. Но он только скользнул по ним безразличным взглядом и подставил им молча плечи. И сразу на нем оказался беличий тулупчик, а в руках любимая дубовая клюшка, с которой было знакомо все население Грузина. И, поправив на груди портрет императора Павла, который он носил всегда, он надел свою генеральскую фуражку с большим козырьком.
– Скажите там… того… – не глядя ни на кого, своим суровым басом на «о» проговорил он медленно, – подполковнику Батенькову, что я пошел…
– Его высокоблагородие уже поджидают, ваше сиятельство… – дохнул старый лакей.
Граф, тяжело двигая старыми ногами, вышел на большое, с колоннами, крыльцо. Все вокруг было в осеннем золоте: и облака, и богатый храм с золотыми крестами, вкруг которых кружились вороны и галки, и старый парк, и службы. Было свежо, ядрено, приятно. И чудесно пахло дымком от овинов, яблоками, соломой – осенью…
– А, математик!.. – с суровой ласковостью приветствовал граф гулявшего по усыпанной золотыми листьями дорожке подполковника Батенькова, здоровяка лет тридцати, с тяжелым, умным лицом и проницательными глазами. – Ну, пойдем, промнемся маленько…
Сын небогатого офицера, Гаврила Степанович Батеньков успел уже продрать довольно пеструю карьеру. Он принимал участие в войнах с Наполеоном и сделал заграничный поход, из которого принес большое количество ран. На войне он вел себя блестяще. В одном сражении он командовал двумя орудиями и был окружен сильным французским отрядом. Он защищался отчаянно и, раненный, пал со всею командою. В донесении сказано было: «Потеряны две пушки со всей прислугою от чрезмерной храбрости командовавшего ими подпорутчика Батенькова». По замирению в 1816 году он перешел в ведомство инженеров путей сообщения и в качестве «беспокойного человека» – он хотел работать по-настоящему – был отправлен в Сибирь. Но и здесь он не сошелся с властью и готовился уже уехать, как туда приехал М.М. Сперанский. Этот сразу оценил умного и деятельного чиновника, приблизил его к себе, и Батеньков ревностно взялся за дело. Его, по его словам, более всего занимал «рациональный, отчетливый, живой и широкий строй государственных и общественных установлений, дело и приложение к нему математического метода в мышлении, ясность не украшенного, но простого выражения». Он представлял Сперанскому одну записку за другой, то служебного, то научного характера: о сухопутных сообщениях Сибири, об учреждении этапов, о ссыльных, об инородцах, о сибирских казаках, о приведении в известность земельного запаса Сибири и проч. Он изыскивал пути вокруг бурного Байкала. Он учредил первую ланкастерскую школу в Сибири, что было настоящим подвигом: для этой школы на всю Сибирь нашли только десять аспидных досок, а учебники пришлось составлять и печатать самому. Его геометрия была потом признана весьма замечательным руководством. А попутно он исследовал вопрос о путях к Великому океану и в Томске основал масонскую ложу Великого Светила, принадлежавшую к союзу великой ложи Астреи…
Уезжая из Сибири, Сперанский взял его с собой в Петербург. За свои разносторонние труды Батеньков получил от государя десять тысяч рублей и место делопроизводителя в Сибирском Комитете. Заинтересовался умным чиновником и Аракчеев, и Батеньков, сохраняя свою должность, стал и членом совета военных поселений. Но тут его возненавидел ближайший помощник Аракчеева, граф Клейнмихель, тупой и злой немец, и интриги его до такой степени надоели Батенькову – он любил дело для дела, – что он уже готовился просить об отставке и выбирал только время, чтобы сказать об этом очень его ценившему Аракчееву.
Большую часть этого лета Батеньков провел в Грузине. Он занимался здесь устройством училищ кантонистов и постройками по военным поселениям. В минуты отдыха он читал Байрона, а во время вечерних прогулок, когда графа не было, он обдумывал план государственных преобразований в духе конституции, основанной на двух палатной системе и родовой аристократии. Он видел, что дела в России идут плохо, и думал, что перевороты снизу, от народа, опасны, и что лучшее средство спасти положение – это овладеть самым слабым пунктом в деспотическом правлении, то есть верховною властью, употребив для этого интригу или силу… И иногда этот положительный человек, любивший во всем «ясность не украшенного, но простого выражения», ловил себя на мечтаниях о том, как он будет депутатом русского парламента, а то так даже, пожалуй, и верховным правителем…
– Ну, как дела? – спросил граф. – Нет, нет, пойдем в парк: я сегодня что-то устал и никого не хочу видеть. Был сегодня в поселениях?
– Нет, ваше сиятельство… – попадая в ногу, отвечал Батеньков. – Нужно было закончить одну записку для Сибирского Комитета…
– И хорошо. Завтра я поеду в Петербург, и заедем вместе по дороге, посмотрим, что ты там у меня настроил…
Они обогнули мрачное каменное здание, которое владелец называл «Эдикулом» и которое служило тюрьмой и застенком для крестьян. У дверей с тяжелыми засовами в большой кадке с рассолом мокли запасные розги. Затем они свернули к парку и пошли его опушкой. Поля, устланные серебряной паутиной, блестели на вечернем солнце розовым блеском. Стая куропаток с веселым треском взорвалась на жнивье и, чиркая, полетела к курившимся овинам. Дымки были кудрявые, столбиками – верный признак, что хорошая погода постоит…
Строжайший во всем порядок был прямо мучителен: подчищенный и ухоженный парк, безукоризненные дорожки, мостики, столбики, сияющие в некотором отдалении избы правильно распланированного села, во всем этом было что-то военное, строевое. Чувствовалось, что на достижение всей этой прямолинейности, чистоты, строгости затрачивалась огромная энергия. Но лица людей были все точно потушены…
Грузино было сравнительно небольшим имением, и Аракчеев стремился сделать его образцовым. Но он был плохим хозяином. Он был прежде всего чиновник, бюрократ, а сельский хозяин, имеющий дело с живыми людьми, с живыми животными, с живой землей, может быть всем, чем угодно, только не бюрократом. Он неустанно гонялся за всякими мелочами. Он собственноручно отмечал у себя, где и когда была куплена всякая вещь, и люди должны были особыми рапортами доносить ему о сохранности этих вещей. С годами бережливость превратилась у него в скупость, и среди государственных дел огромного значения он находил время сам заботиться о продаже старого фрака. Известный путешественник по России, барон Гастгаузен, рассказывает, как один немец, Пирх, женившись на русской помещице, вступал в управление ее вотчинами. Он первым делом созывал сход, а затем обращался к крестьянам с речью: «Я – ваш господин, а мой господин – царь. Царь может мне приказывать, а я должен ему повиноваться. Но в моем имении я царь, я ваш земной Бог, и я должен отвечать за вас перед Богом. Нужно десять раз вычистить лошадь железной скребницей, прежде чем чистить ее мягкой щеткой. Мне придется крепко почистить вас скребницей, и кто знает, дойду ли я когда до щетки. Как Бог очищает воздух громом и молнией, так и я в моей деревне буду очищать его грозой…» Аракчеев никогда не унизился бы до таких речей: у него все это разумелось само собой. И, придавив собой, как могильным камнем, всю жизнь своих рабов, он был уверен не только в том, что делает это для их же пользы, но даже в том, что он «любит своих добрых крестьян, как детей».









































