Текст книги "История России в современной зарубежной науке, часть 3"
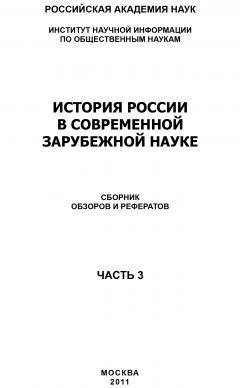
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
И хотя к началу 1990-х годов СССР занял восьмое место в мире по производству легковых автомобилей, однако неспособность командно-административной системы отвечать на нужды миллионов их владельцев вела к разочарованию в советском социализме, заключает автор (с. 254).
О.В. Большакова
Все было навечно, пока не кончилось: Последнее советское поколение
(Реферат)
Юрчак А.
Yurchak A
Everything was forever, until it was no more: The last Soviet generation. – Princeton: Princeton univ. press, 2006. – X, 331 p
Книга Алексея Юрчака (Калифорнийский университет, Беркли) представляет собой пример социально-антропологического подхода к изучению эпохи позднего социализма. Она базируется на материалах, собранных автором во время «полевых исследований» в Санкт-Петербурге в 1994–1995 гг. и включающих в себя, с одной стороны, интервью с представителями «последнего советского поколения» (т.е. людьми, родившимися в 1960– 1970 гг.), с другой – предоставленные этими же людьми дневники, письма, любительские фильмы, магнитофонные записи «времен застоя». В дополнение к этим источникам, отражающим, соответственно, ретроспективное восприятие происходящего и «взгляд изнутри», А. Юрчак использовал официальные документы, газетные статьи, карикатуры 1960–1985 гг.; он также иллюстрирует свои выводы эпизодами из популярных фильмов этого времени, таких как «Ирония судьбы» или «Сталкер».
Алексей Юрчак называет в качестве главной цели своего исследования анализ причин парадоксальной ситуации, отмеченной, в частности, многими его респондентами: коллапс «вечного» советского государства казался немыслимым, пока он не начался, но когда он случился, это не вызвало удивления (с. 2). Этот парадокс, как центральная тема книги, отражен и в ее названии. Другой, хотя не декларируемой открыто, целью книги является полемика со стандартным образом советской эпохи и советских людей, который по сей день бытует в западноевропейской и американской историографии. Общепринятое суждение относительно «советского режима», тиражируемое в научных и публицистических работах, сводится к тому, что этот режим был «плохим» и «аморальным», что его аморальность была очевидна всем, в том числе «советским людям», и именно она привела к его крушению. При таком подходе все реалии советской эпохи описываются в терминах бинарных оппозиций: «принуждение – сопротивление», «рабство – свобода», «государство – народ», «официальная культура – контркультура», «правда – ложь» и т.д. А. Юрчак, однако, указывает, что в подобных априори заданных бинарных категориях невозможно объяснить тот объективный факт, что «для множества советских людей фундаментальные ценности, идеалы и реалии социалистической жизни (равенство, товарищество, альтруизм, дружба, безопасность, творчество, учеба, работа, вера в светлое будущее) сохраняли первостепенную значимость, несмотря на то, что многие их повседневные практики нарушали или переосмысливали некоторые нормы и правила, представленные в официальной идеологии советского государства» (с. 8). Для многих «социализм» как система общечеловеческих ценностей и реалий повседневной «нормальной жизни» означал нечто принципиально отличное от того социализма, который декларировался на государственном уровне. Для того чтобы понять и исследовать механизмы, порождавшие эту парадоксальную ситуацию, подчеркивает А. Юрчак, необходимо выработать язык, более подходящий для ее описания, чем язык бинарных оппозиций. Исходной посылкой при этом выступает признание того, что «советский социализм, как и западная демократия, являются принадлежностью периода модерности» (с. 10), соответственно, к его анализу могут быть приложимы некоторые концепции, выработанные исследователями этой эпохи.
Одним из существенных для предпринятого анализа концептов является так называемый «парадокс Лефора»33
Клод Лефор (1924–2010) – французский левый политический философ, известен как исследователь тоталитаризма.
[Закрыть]. Суть данного явления может быть описана как постоянно существующее расхождение между идеологическими декларациями, отражающими, в целом, идеалы эпохи Просвещения (свобода, творчество, человеческое достоинство) и идеологическим правлением, отражающим практические нужды государства. Для того чтобы преодолеть это расхождение и успешно исполнять свою политическую функцию воспроизводства власти, идеологический дискурс должен претендовать на то, что он выражает некую «объективную истину», лежащую вне его; однако из того факта, что истина находится «вне» дискурса, логически следует неспособность этого дискурса отразить ее полностью, что в итоге ставит под сомнение его легитимность и, соответственно, легитимность той власти, которую он поддерживает. Это противоречие может быть разрешено, как утверждает Лефор, только при наличии некоего «учителя», который предстает как находящийся вне дискурса знаток объективной истины. В государствах, построенных на коммунистической идеологии, замечает А. Юрчак, парадокс Лефора проявлялся в том, что в них декларировалось в качестве цели полное освобождение общества и индивида, но в качестве средства достижения этой цели предлагался жесткий контроль над ними со стороны партии (с. 11). По мнению исследователя, понимание того, что этот парадокс существовал и осознавался государством на протяжении всей советской истории, необходимо для понимания природы позднего социализма.
В качестве второй отправной точки для описания и объяснения позднего социализма А. Юрчак использует концепцию «перформативных высказываний», предложенную Джоном Остином44
Джон Остин (1911–1960) – английский философ, известен как создатель теории речевого акта.
[Закрыть]. Остин указывает на то, что помимо высказываний, констатирующих конкретные факты (скажем, «сегодня холодно»), в языке существует целый ряд высказываний, которые производят некое действие в социальной реальности55
Примером такого высказывания может служить «виновен!», произносимое судьей, или клятва свидетеля.
[Закрыть]. Первый тип высказываний Остин называет констативными, второй – перформативными. Констативные высказывания передают некий смысл и могут быть истинными и ложными; перформативные несут в себе действие; они не могут быть истинными или ложными, но могут характеризоваться как уместные или неуместные. Он указывает также, что перформативность высказывания обусловлена не намерениями говорящего, а принятыми в обществе конвенциями: когда соответствующее лицо в соответствующих обстоятельствах произносит соответствующее высказывание, это служит достижению установленных результатов. Природа перформативных высказываний была исследована с разных точек зрения Ж. Деррида и Р. Бурдье. Синтезируя их подходы, А. Юрчак указывает, что перформативная сила речевого акта складывается из двух элементов: делегированной власти внешних социальных контекстов и институтов (Бурдье) и семиотической способности дискурса порождать новые неожиданные смыслы в новых контекстах (Деррида).
В качестве следующего шага в построении своей концепции и методологической базы А. Юрчак, ссылаясь на труды Дж. Батлера и А. Холливуда, указывает на возможность отнести высказанные выше утверждения не только к словесным, но и к любым ритуальным актам. Он также считает более уместным говорить не о констативных и перформативных актах, а о констативной и перформативной составляющих каждого акта. При этом «относительная важность той и другой составляющей в ходе истории может меняться» (с. 22).
В самых общих чертах концепция А. Юрчака выглядит следующим образом. Отмечаемая многими исследователями «ритуализация» жизни советского общества в эпоху позднего социализма является следствием того, что советская идеология в поисках выхода из ситуации «парадокса Лефора» в 1950-е годы пришла к гипернормализации официального дискурса, который свелся в итоге к бесконечному повторению речевых и ритуальных актов. В этих условиях перформативное измерение авторитетного (официального) дискурса стало превалировать над констативным, которое со временем становилось все более расплывчатым и все менее важным. Однако это не означало, что ритуальные акты становились полностью бессмысленными, или что остальные смыслы в жизни общества формировались путем давления или жестких ограничений. Напротив, участие в перформативном воспроизводстве форм, ритуалов и речевых актов (достаточное для воспроизведения себя как «нормального» советского человека) открывало возможность для возникновения разнообразных, непредсказуемых смыслов в повседневной жизни, в том числе и таких, которые не соответствовали констативным смыслам авторитетного дискурса. В более конкретном виде идея А. Юрчака может быть выражена следующим образом.
«Перформативный сдвиг, происшедший в период 1950– 1960-х годов, позволил советским людям сформировать неоднозначный, дифференцированный подход к идеологическим представлениям, нормам или ценностям. В зависимости от контекста, они могли отвергать одни представления, оставаться безразличными к другим, активно поддерживать третьи и творчески переосмыслять четвертые. Эти диспозиции не были статичными, а развивались и менялись. Единодушное участие советских граждан в перформативном воспроизводстве речевых актов и ритуалов авторитетного дискурса порождало общее ощущение монолитности и неизменности системы и одновременно позволяло самым разным, неожиданным смыслам и стилям жизни пробиваться повсюду в ее толще. Парадоксальным образом неизменные и заданные аспекты государственного социализма и заключенные в нем неожиданные творческие возможности были обязаны друг другу своим существованием» (с. 29).
Таким образом, первая глава книги А. Юрчака посвящена подробному рассмотрению изложенных выше теоретических положений. Остальные шесть глав, в которых исследуются и осмысляются разные стороны жизни «последнего советского поколения», призваны проиллюстрировать высказанные тезисы и наполнить схему живым содержанием.
Глава вторая носит название «Гегемония формы: Сталин и непредвиденное (uncanny) смещение парадигмы»; она посвящена анализу процессов, приведших к гипернормализации авторитетного дискурса в эпоху позднего социализма. Свои теоретические положения А. Юрчак подтверждает и иллюстрирует фрагментами из речей партийных лидеров, выдержками из газетных и научных статей, а также цитатами из интервью с составителями речей, консультантами, работавшими в ЦК КПСС, и художниками, создававшими плакаты для наглядной агитации. Возвращаясь к описанному в первой главе «парадоксу Лефора» А. Юрчак указывает, что до 1950-х годов роль независимого внешнего канона, в соответствии с которым оценивался и выверялся авторитетный идеологический дискурс, исполняла марксистско-ленинская догма; в роли «учителя», стоящего вне дискурса и обладающего знанием (или правом интерпретации) этой догмы, выступал Сталин. Однако в конце 1940-х – начале 1950-х годов сам же Сталин инициировал принципиальный сдвиг в существовавшей парадигме, радикально изменив критерии, по которым проверялась точность дискурса: в рамках «борьбы с идеализмом» прежний критерий «партийности» был заменен критерием «научности». Другими словами: место «марксистско-ленинского учения» заняли «объективные научные законы». Эти законы не были известны априори, а постигались постепенно в процессе научного познания, и, соответственно, они не могли исполнять роль «внешнего» канона. Переход к новой модели, принципиально отвергавшей возможность для кого-либо обладать всей полнотой знания, а также развенчание культа личности Сталина привели к утрате внешнего мерила каноничности. Единственной возможной формой существования авторитетного идеологического дискурса в этой ситуации становится бесконечное повторение и тиражирование уже апробированных форм – языковых, визуальных и ритуальных (с. 46). Этот процесс А. Юрчак называет «гипернормализацией» авторитетного дискурса. Он выделяет также два основных дискурсивных принципа, на которых строилась гипернормализованная структура «авторитетного языка». Первый состоял в том, что любой авторский голос трансформировался в голос передающий (а не создающий) некое знание. В соответствии со вторым время дискурса всегда сдвигалось в прошлое. На уровне конкретных практик эти принципы воплощались в бесконечном взаимном цитировании статей, речей и документов, копировании образцов и стандартов, создании клишированных текстов для разных ситуаций, что и порождало в итоге «ритуальность», ставшую характерным признаком «эпохи застоя».
В третьей главе «Идеология наизнанку: Этика и поэтика», построенной в основном на материалах из интервью, А. Юрчак анализирует, каким образом представители последнего советского поколения участвовали в воспроизводстве норм авторитетного дискурса в комсомольской организации и как они осмысляли свою деятельность. Главными «героями» этой главы являются представители нижнего звена комсомола – комсорги и секретари местных комсомольских организаций. Из представленных А. Юрчаком материалов ясно видно, что у этих работников, как и у рядовых комсомольцев, достаточно быстро вырабатывалось умение проводить различие между деятельностью, которую они характеризовали как «чистую формальность», и «осмысленной работой», и одновременно понимание того, что исполнение формальностей создает возможность для творчества и инициативы в осмысленной деятельности. Так, по словам одного из респондентов Юрчака, бывшего секретаря районного комитета комсомола, он в советское время прекрасно понимал, что составление отчетов по нужной форме, проведение комсомольских собраний и другие вещи такого рода не имеют сами по себе смысла, но являются необходимым условием для «работы со смыслом» – например, создания музея Великой Отечественной войны. «Отношение молодежи к советскому социализму, – подчеркивает автор, – не сводится к бинарной оппозиции “мы” (обычные люди) и “они” (партия, государство), оно представляет собой внешне парадоксальное сочетание приятия и неприятия, включенности и отстранения, осмысленной деятельности и пустых формальностей, ритуальных актов и всех тех ценностей, подходов и идентичностей, которые были неотъемлемой частью «нормальной» жизни – творческой, нравственной, привлекательной и достойной того, чтобы в ней участвовать» (с. 78).
А. Юрчак подчеркивает также, что исполнение ритуалов способствовало формированию особой социальной общности советских молодых людей, которую респонденты характеризуют словами «свои» или «нормальные люди». Как объясняла бывшая рядовая комсомолка: «Мы сдавали комсомольские взносы, поскольку не хотели подводить комсорга. Мы же свои». Противоположность «нормальным», «своим» людям в воспоминаниях респондентов составляли «активисты» и «диссидентствующие». Характерным признаком тех и других, замечает автор, является то, что они в большей степени, чем «нормальные люди» обращали внимание на констативное измерение дискурса, видели в нем описание реальности и оценивали его в категориях «правды» или «лжи». Соответственно, «нормальные люди» отличались от них тем, как они «почитывали» авторитетные тексты и ритуалы. Как пишет А. Юрчак, «свои – это аудитория, к которой были обращены ритуалы и лозунги, но не отождествлявшая себя с ними» (с. 102). Например, для многих из респондентов Юрчака участие в праздничных демонстрациях становилось поводом для встречи с друзьями, с одной стороны, и подтверждением принадлежности к общности «своих» – с другой.
С формой социальной общности «своих» связано еще одно определяемое А. Юрчаком понятие – «нормальная жизнь». Совершение ритуалов обеспечивало не только возможность «осмысленной работы» в рамках комсомольской организации, но и – для большинства людей – возможность «нормальной жизни», интересной, относительно свободной, полной и творческой, отнюдь не сводившейся к идеологическому автоматизму, мимикрии под принуждением или идеалистическому «активизму».
В рамках этой главы А. Юрчак вводит еще одно важное для его дальнейших рассуждений понятие – «детерриториализация». Этим термином он называет радикальное изменение внутренней структуры без изменения внешней формы объекта.
«Позднесоциалистическая система стала детерриторизованной… Она менялась изнутри в сторону непредсказуемых, творческих и разнообразных форм “нормальной жизни”, которые никому не внушали опасения. Это детерриториализующее движение было движением в сторону большей свободы, но при этом не кодировалось в эмансипационной риторике “главных нарративов” (скажем, “жить по правде”)» (с. 125).
Глава четвертая «Жить “вне”: Детерриториализованные среды», построенная в основном на материалах интервью и опубликованных мемуарах, описывает феномен «бытия вне», которое автор определяет как возможность «быть частью системы, но не следовать ее параметрам, находиться в определенном контексте, но не помнить о нем, погрузившись в свои мысли» (с. 132). Для позднего социализма, замечает А. Юрчак, характерно распространение различных стилей жизни, которые протекали одновременно и внутри, и вне системы. Они порождали многочисленные новые пространственно-временные континуумы, социальные отношения и смыслы, которые далеко не всегда отслеживались государством или расценивались как угроза. «Жизнь вне», утверждает автор, несмотря на существование таких экстремальных ее форм, как хиппи или представители «поколения дворников и сторожей», отнюдь не была исключительным явлением, среди привилегированных групп (ученые-физики, деятели культуры) она становилась скорее правилом. Эта среда не поддерживала официальный дискурс, но и не противостояла ему; хотя интересы ее представителей лежали далеко за границами советской действительности (древние языки, античная философия, средневековая история, буддизм, поэзия Серебряного века и пр.), они широко пользовались реалиями этой действительности – от финансовых субсидий до коллективной этики и культурных ценностей. А. Юрчак останавливается также на специфическом для эпохи позднего социализма феномене «общения», который «представлял собой одновременно процесс и социальность, которая формируется в этом процессе, обмен идеями и информацией, и пространство для проявления чувств и ощущения общности» (с. 148). Общение, пишет автор, не могло протекать в авторитетном дискурсе, но могло иметь место в том числе и в контекстах, где этот дискурс создавался (например, в райкоме комсомола). Благодаря этим практикам пространственно-временной континуум, социальные отношения и идентичности государственного социализма переформировывались, переосмысливались и изменялись. Но сама практика «бытия вне», подчеркивает А. Юрчак, была возможна только в рамках государственного социализма.
Следующая, пятая глава «Воображаемый Запад: Тридесятое царство позднего социализма» посвящена исследованию одного из самых значимых «воображаемых миров», существовавших одновременно внутри и вне советской системы. А. Юрчак подробно рассматривает различные составляющие «дискурсивной формации» (термин М. Фуко), в которой «воображаемый Запад» возник как неотъемлемый элемент советской системы: западная музыка, фильмы, пресса, транзисторы, мода, фирменные лейблы, фотографии и артефакты, «иностранные» прозвища и слова. Сама возможность появления и существования «воображаемого Запада» обеспечивалась изначальной двойственностью, характерной для отношения официального дискурса к западной культуре, которая могла быть «хорошей» («культурой трудящихся») и «плохой» (буржуазной). Анализируя карикатуры и фельетоны, бичующие «стиляг», «любителей рок-н-ролла», «модников» А. Юрчак замечает, что во всех них присутствовала «лазейка», позволявшая «нормальным» молодым людям, имевшим помимо интереса к «западному» высокие духовные запросы и ценности, не отождествлять себя с невежественными и аморальными «героями» этих произведений. В сознании представителей последнего советского поколения «западные» культурные символы и связанные с ними фантазии не входили в противоречие с насущными задачами советского государства и социалистическими ценностями. Так, одна из респонденток А. Юрчака, иностранка, учившаяся в СССР в начале 1980-х годов, вспоминает, как ее поразила комната ее соседа по общежитию, главное украшение которой составляли пустые банки из-под американского пива и кока-колы, мирно сосуществовавшие с бюстами Маркса и Ленина. Семиотическая «пустота» многих из этих символов и артефактов (пустые банки из-под пива, стихи на непонятных языках, неизвестные фирмы) только придавала им дополнительную силу при сотворении воображаемого мира. Их притягательность для советских молодых людей заключалась в возможности сотворить на их основе свой собственный живой мир, который не был ни советским, ни «западным» (в буквальном смысле слова), но был при этом прочно вплетен в советскую действительность. Они служили «автографами» этого далекого мира, и их оторванность от реальных смыслов, которые они имеют в западном контексте, делала возможным их сосуществование (скажем, в одной комнате) с символами классической русской культуры и советской идеологии. «Эти две знаковых системы, – пишет А. Юрчак в завершающей части главы, – не вступали в противоречие, а были взаимно обусловлены. Без гегемонии авторитетной риторики “воображаемый Запад” не мог бы существовать, и наоборот, без таких воображаемых миров гипернормализованный авторитетный дискурс не мог бы воспроизводиться. Однако этот процесс не был циклическим и не был безобидным: все большее распространение “воображаемых миров” в ткани социалистического общества постепенно меняло саму культурную логику советской системы, приводило к ее детерриториализации и увеличивало несоответствие между системой и тем, как она описывала сама себя» (с. 204–205).
Главы шестая («Истинные цвета коммунизма: Кинг Кримсон, Дип Пёпл, Пинк Флойд») и седьмая («Смертная ирония: Некроэстетика, стёб и анекдот») носят более частный характер. В шестой главе автор продолжает тему «воображаемого Запада». Первая ее часть посвящена анализу дневников и писем Андрея, секретаря комитета комсомола, интервью с которым использовалось в третьей главе. Будучи комсомольским деятелем, Андрей также являлся большим поклонником западной рок-музыки и принимал активное участие в создании любительской рок-группы. Материалом для второй части главы послужила переписка двух друзей, которых объединял, в частности, интерес к коллекционированию магнитофонных записей и пластинок западных исполнителей. Основной интерес для автора в этих документах представляют эксплицитно выраженные суждения по поводу взаимоотношений «западных культурных влияний» и коммунистических ценностей в жизни людей последнего советского поколения. Западная музыка, оторванная от буквального смыслового наполнения (текст не был понятен), особенно хорошо подходила для творческого осмысления жизни. Эта жизнь могла быть отнесена в воображаемые миры, но могла также соотноситься с будущим, в том числе с к коммунистическим будущим. «Такого рода эстетика, – заключает А. Юрчак, – позволяла даже самым “идейным” юным советским коммунистам создавать более творческие и космополитические интерпретации коммунистических идеалов, чем те, которые предлагались авторитетной риторикой партии» (с. 223).
В седьмой главе рассматривается эстетика иронии, юмора и абсурда: анекдоты, стишки-страшилки, абсурдистское творчество таких художественных сообществ, как «митьки» и «некрореалисты». А. Юрчак полемизирует с традиционным восприятием этих эстетических форм как проявлений протеста или, наоборот, подчинения анонсируемым целям государства (например, «митьки» с их эстетикой «непротивления»). По его мнению, эстетика абсурда и юмора была «одним из культурных принципов, посредством которых происходила и осмыслялась детерриторизация поздней советской культуры» (с. 32).
В заключение А. Юрчак возвращается к парадоксу, отмеченному им в начале книги, и дает ему объяснение, а также кратко развивает свои идеи применительно к событиям эпохи перестройки. В течение многих лет, замечает А. Юрчак, советской системе удавалось совмещать в себе несовместимые качества: нерушимость и неуклонный упадок, расцвет и увядание, приверженность высоким идеалам и бегство от них. Ни одно из этих бинарных качеств, подчеркивает исследователь, не было видимостью или маской. Они взаимно формировали друг друга. Парадокс позднего социализма проистекал из того факта, что чем более широко и повсеместно воспроизводились формы авторитетного дискурса, тем в большей степени происходило замещение внутренней сути системы. Это замещение, в свою очередь, становилось возможным благодаря массовому участию людей в воспроизводстве авторитетных форм и образов системы, поскольку именно в силу этого другие формы и смыслы «нормальной жизни» не воспринимались как альтернативные и могли относительно свободно развиваться.
М. Горбачёв, начав перестройку, неосознанно нарушил структуру авторитетного дискурса. Адресовав вопрос о том, как можно исправить сложившуюся ситуацию, не только партийным лидерам, но и «управленцам, специалистам, простым гражданам», он вернул в авторитетный дискурс голос внешнего комментатора, открыв простор для публичного обсуждения этого дискурса вне его собственных рамок. Когда началась перестройка, она была принята практически всеми, поскольку выражала на уровне мета-дискурса то, что уже произошло и было пережито всеми – изменение и внутренний сдвиг дискурсивных параметров системы. Советский поздний социализм дает нам впечатляющий пример того, как сильный и динамично существующий социальный организм может пережить коллапс из-за крушения своего дискурса (с. 295).
З.Ю. Метлицкая
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































