Текст книги "То было давно…"
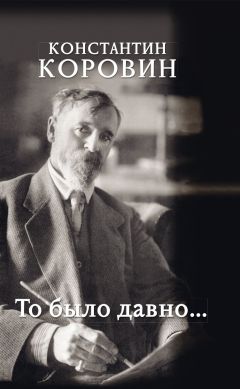
Автор книги: Константин Коровин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Охота на волков
После Нового года, хотя день прибавился на час и солнце повернуло на лето, а зима пошла на мороз – стужа большая, крещенские морозы, – я получил письмо от лесничего. Зовет на охоту. Волки. В Старой Сечи восемь штук, а у Грезина – шесть.
И сразу я увидел его дом у большого леса, двор за огороженным забором, кругом – никого, глухо. Хорошо у лесничего.
Читаю приятелям письмо.
– Помню я Лемешки… – говорит приятель мой, Василий Сергеевич, – там такая чащура, не пролезешь.
– А я что-то не помню, – говорю я.
– Как же, там бочаги глубокие. Еще вот он, – показал он на другого приятеля моего, Николая Васильевича Курина, – помните, когда мы окуней ловили, говорил, что он щекотки не боится…
– Какой щекотки? – удивился Николай Васильевич.
– Вот видите, – сказал Василий Сергеевич, – забыл. Ты же говорил, Николай, что женская щекотка тебе нипочем и на русалок тебе плевать. А там русалки живут.
– Какая ерунда. Мало ли что говорится… – сказал Коля Курин. – И какие теперь зимой, в такой мороз, русалки… Я бы с удовольствием с вами поехал. Только я не охотник. Возьму ружье… восемь волков… это, брат, разорвут в клочья…
Дали телеграмму псковичу Герасиму, что едем. День и час отъезда назначен на Ярославском вокзале.
Павел Александрович Сучков приехал на вокзал с большим длинным ящиком: в нем проверчены дырья. Там сидел поросенок. Это значит – охота с поросенком…
– Что же это у тебя, Павел, – говорю я, смотря в ящик, – что-то поросенок-то велик. Это целая свинья.
– Довольно! – сказал строго Павел Александрович. – Мне шутки ваши надоели.
– Какие шутки, не надо его брать, он замерзнет дорогой.
– Оставь. Довольно. Я одеяло взял для него.
Когда утром приехали на полустанок, встретили нас возчики. Лес покрыт инеем, мороз. Раннее утро, еще у входа на вокзал горели фонари. Так тихо… Охотники в валенках. Зашли в вокзал. Никого. Буфетчик заспанный, увидал, говорит:
– С приездом вас.
Пьем чай с пеклеванным, на дорогу выпили коньяку «Три звездочки» Шустова.
– Ах, барин, – говорит буфетчик Николая Васильевичу Курину, – я вам башлычок дам в дорогу. А то вы опять ушки отморозите…
Едем. Скрипят полозья розвальней. Едем лесом. Всё запушило инеем. Желтые лучи утреннего солнца освещают верхушки елей. Внизу дорога под горку. Показалась мельница, сугробы. Она какая-то бедная, жалкая, не то, что летом. Темнели колеса мельницы среди седых обледенелых глыб. Глухо лаяла собачонка, когда мы проезжали, и слышно было, как на задней подводе, где ехал Караулов, захрюкал наш поросенок.
У дома лесничего встретили нас лесничий, жена его, сестра, Герасим и Козаков. Все рады. Самовар готов. Лежанка топится. Нигде на свете нет таких деревянных домов, с таким теплом и уютом, как в России. И нет такого сердечного, душевного приветствия.
Сейчас – угощение. На стол ставят всё, что есть. На кухне выпустили поросенка. Он сейчас же принялся за еду и, хрюкая, подняв мордочку, смотрел на нас.
– Велик… – сказал Герасим.
– Это кабан! – заметил Караулов.
– Эти остроты ваши… прошу бросить, – нетерпеливо сказал Павел Александрович.
– Да ведь это чего?.. Не серчай, Пал Ликсаныч, – говорит Герасим, – здесь волки на его не пойдут, на поросенка-то эдакого. Велик… Это он орать-то будет, эдакой-то, на весь лес, и волков отгонит.
– Я один поеду с ним на охоту. Я знаю.
Хорошо за столом у лесника. В окно виден огромный лес, стеной идет вдаль. У реки, занесенный снегом, мост. У проруби воткнуты ветки елок. Кустарник по берегу. Зима… В окнах между рам на солнышке на вате цветные шерстинки.
Красавица, сестра лесника, Маша, – нарядная, наливает нам чай. А лесник, еще молодой человек, говорит, улыбаясь:
– Рад я гостям. Написал вам, значит: волки, приезжайте, а вот тут вышло дело похуже волков. Надо ехать мне казенные деньги сдавать, а как их оставить, – показал он на жену и сестру – Жена, сестра, мать-старуха, ребенок… Заметил я, что тут трое похаживают. Кто их знает – чего они? Как уедешь? Женщины одни – боязно. А у погоста, в десяти, не боле, верстах отсюда, с неделю назад женщину убили на дороге. Шла в Грезино. Няньку-старуху убили… Чего бы ни было, боишься… Место глухое, лесное, кругом ни души. В деревне Лемешки есть там у меня приятель, да ведь как деньги казенные доверить. Боязно. Приятель… а кто знает – деньги такое, соблазн.
Герасим, закусив, оделся. Он и Козаков вынули из мешков большую кучу свернутых веревок с привязанными к ним лоскутами красного кумача. Взвалив их на плечи и захватив ружья, Герасим сказал:
– Ну, теперь, значит, мы придем сюда в полночь.
И оба ушли. Видно было в окно, как они выехали на розвальнях со двора и, проехав мост, завернули в лес.
Часа в два ночи залаяла собака, и в дом вошли Герасим и Козаков.
– Ну, пора вставать, – сказал Герасим, – самовар сейчас подогреем, погода хороша, тихо.
– Что же, волков видел? – спросил Коля Курин.
– Волков-то? – засмеялся Герасим. – Как же, и-их сколько. Глаза прямо горят…
– Да неужели?.. – удивился Коля, – глаза горят… вот так штука.
– Что ты, Николай Васильевич, нешто их ночью увидишь?..
Когда мы пили чай, услышали – снова залаяла собака, и на крыльце послышались шаги. В дом вошли крестьяне, поздоровались с нами. Им всем налили по стакану вина и дали капусты, колбасы, калачей. Они сели у стола на лавках и пили чай. Герасим угощал их, посмеивался и был как начальник.
Это были загонщики – облава.
Павел Александрович написал на бумажках номера: «1», «2» и т. д., завернул их в трубочку, Герасим положил их в шапку, встряхнул и поднес нам. Мы вынимали бумажки; мне попал пятый номер.
Долго мы шли на лыжах по лесу. Пройдя оврагом, поднялись к горке. Едва светало. Лес был осиновый, крупный, по буграм заросль. С ветвей падал снег.
Герасим остановился и вынул из мешка белые балахоны с рукавами. Мы их надели и тихо пошли за ним на лыжах. Герасим приставил палец ко рту. Справа я увидел на снегу в кустах красный кусок кумача, подальше другой. Недалеко он остановил меня и с другими пошел дальше.
Стою и смотрю: сугробы, глубокий снег, чаща. Вдруг далеко передо мной, в лесу, раздался крик: «А-а-а, э-э-э, уа-ы-ы-ы!.. у-у-у… э-э-э…» Кричал загон, и стучали палками. Слева раздался выстрел. Вдруг вижу – недалеко передо мной стоит большая серая собака, держит морду вниз, к снегу, и два круглых глаза смотрят на меня пристально. Цвет волка такой же, как стволы осин. «Ах, ты, – думаю, – волк, ты не хочешь жить с человеком…»
– Волк, – говорю, – лесная ты собака…
Волк стоял как вкопанный, как видение.
– Беги ты! – крикнул я.
Он сразу прыгнул высоко вбок, в сугробах вильнул сильной спиной, взвился у красной тряпки и перемахнул через бечевку.
Слева раздались частые выстрелы. Крики загона смолкали.
– Схо-ди-и-и-и!.. – кричал Герасим.
Убитые волки лежали в снегу. Их было три. Подойти я не мог, так ужасен был от них запах. Далеко слышно было в предутренней заре, как где-то далеко, в деревне, выли и лаяли собаки. Павел Александрович убил двух волков, Козаков одного, а Василий Сергеевич убил зайца.
Едучи со мной на розвальнях, Герасим, смеясь, сказал мне:
– А ты, Лисеич, что-то сплутовал… Пропустил волка. Я кады тетиву сбирал, то видел – он был около тебя. Что-то ты согрешил?
– Смотри-ка, – говорю я Герасиму, – что это? Смотри – у дома лесника народ… солдаты.
– Да, – сказал Герасим, всмотревшись, – и впрямь. Чего это?
Подъезжая к воротам дома лесника, мы увидели: толпится народ. Наши убитые волки лежат в снегу перед окнами дома. Стоят урядник и двое солдат.
Когда мы вошли в горницу, я увидел за столом старика – белого как лунь, со стриженными бобриком волосами. Исправник. Большой и полный. Стояли урядник и солдаты в черных шинелях. На скамейке сидели два молодых парня, бледные, подавленные, опустив голову. Руки их были прикованы цепью одна к другой.
– Охотники! – сказал исправник, когда мы вошли. – Очень приятно. Из Москвы? Я тоже в молодости баловал охотой. Волков пристрельнули, поздравляю. А вот мы вам тут беспокойство сделали, да… Ваши-то волки что, а вот эти-то молодцы позверее их будут. Вот эти два дурака. Убили няньку-старуху. Шесть гривен денег взяли. Ах, дураки, стервецы!
Исправник выпил чай и, отодвинув стакан, стал что-то писать.
На кухне увидел сестру лесничего. Она плакала.
– Что вы, Маша, вы знаете их?
– Нет. Это нездешние… Как же жалко старуху… Няня была у священника…
– Веди! – крикнул исправник.
Звякнули шашки у солдат, и два парня, оба наклонив головы, вышли из горницы лесничего. От ворот двинулись подводы, окруженные солдатами.
– Где же брат? – спросил я Машу про лесника.
– Уехал с ними, деньги повез. Эти самые-то, которые ходили тут… Третьего не поймали.
– Тяжелая история, – говорю я.
– Да… Это тоже волки… – сказала Маша. – Только те лучше. Ночью я вот сижу тут, мне и видно: месяц светит. Придет волк и сидит у ворот, вот тут. Красивый, глаза так красным огнем горят. Я ему в подворотню-то вынесу, брошу поесть. Он меня знает. Большой. Вы его не убьете… Я ему в окно погрожу пальцем, слушается – уйдет…
Павел Александрович готовился ехать ночью, при луне, на охоту с поросенком. Делал репетицию, испытание поросенка – как он кричит. Вертел ему хвост, и так вертел, что поросенок орал прямо благим матом. Так орал – что его вытащили на двор. Лошадь, стоявшая у ворот, услыхав поросячий ор, бросилась во всю прыть к реке и опрокинула сани.
– Никак нельзя, – сказал Герасим, – это что ж такое? Поросенок орет – чисто зверь какой.
– Ты, должно быть, ему хвост сломал, – сказал Василий Сергеевич. – Орет – остановить нельзя.
– Нет, я ему чуть-чуть повернул хвост, – удивлялся Павел Александрович.
Наступали зимние сумерки. Из края леса показался круглый месяц…
Мастер
Долго, долго тянется зима. Рано наступают вечера. В четыре часа уже темно. На улице идет хлопьями снег, и в зимней мгле мелькают фонари. Укутанные, подняв воротники шуб, идут пешеходы, а кто в санях – на извозчиках. Извозчик понукает убогую лошаденку, дергая вожжами.
И думается мне, что все эти встречные люди идут и едут в гости коротать зимние вечера.
Сидят москвичи в гостях и пьют чай. Непременно чай. Везде кипит самовар, и долго сидят за столом. Баранки, сушки с солью и тмином, сухарики ванилевые, варенье.
Разговоры все обыденные: кто помер, кто с кем поссорился. Кто женился или с женой разошелся, кто лошадей завел, у кого запой. «А у Кузьмы Николаевича Ватрушкина дочь с актером убежала. Что было!.. Ее ловили, а она говорит: “люблю”, и более ничего. А отца-то ее, Никиту Ивановича, удар хватил. Я с ним сам шел из Рогожской от адвоката: как его ударит!.. – он прямо на землю и сел. Я его на извозчика – домой. А он дорогой кричит: “Ох, анафема – адвокат, он его руку держит, лицедея! Что ж это такое? Ох, горе! И чего это она нашла в нем? Жигулястый, завит, чисто баран, видать, что румянами себе морду красит. Соблазнил! И всё бы ничего, простил бы… Но ведь женатый он, сукин сын…” Жалко старика. На ноги стать не может. “Прощай, – говорит, – Пенделка, щетинная фабрика…”»
Хозяйка дома мигает дочерям: «Пойдите, в шкафу – бисквитный пирог, принесите, – и говорит гостю: – Вы при дочерях-то не говорите про дела такие, про актера, – они и так в театре наслушались, как Мазини поет… Так вот у них этот Мазини из головы не выходит. Карточек его накупили, портретов и на туалеты поставили. Я думаю – что за Мазини? Пошла сама в театр с ними, ложу взяла. И вот вижу – выходит на сцену лохматый, нечесаный, но как запоет – сама не знаю… так внутри сладость какая-то… Вот поет! Сердце, как голубь, воркует в груди. Всю ночь не спала, лавровишневые капли принимала. Вот что над женским сердцем делается – всё отдашь! Я-то уж что, а девичьему сердцу каково любовность такую переживать. Женихов найти им после этакого-то трудно – как он ей в душу влезет?.. Мазини – что? Спел, да и уехал. А я с ними мучайся. Где уж им Мазиней достать…»
Повернуло солнце на лето, зима на мороз.
Первого января, в Новый год, прибавилось дня на один час. И правда: чувствовалось, что в солнце, в его лучах, появилась какая-то радость – отдаленный признак весны. Весело освещен сад, покрытый инеем, забор, колодезь на дворе, ворота конюшни. И заголубела даль, когда я проезжал Дорогомиловский мост, где вдали были видны горы Нескучного сада и блестело красивое здание дворца.
Весело, с криком пронеслись стаи галок и спустились на ровную гладь снегов, покрывающих Москва-реку.
Заеду-ка я в лавку Березкина…
Лавка Березкина была у Бабьегородской плотины. Торговля рыбными принадлежностями.
Тепло в лавке Березкина. Висят сети, верши из зеленых прутьев. Прилавок, на котором за стеклом видны веселые цветные поплавки, крючки, лески – английский товар. А сбоку, в уголке, сидят приятели Березкина – рыболовы-любители. И на низенькой табуретке, согнувшись, – приятель мой, рыболов Василий Княжев. На спиртовой лампочке правит концы камышовых удилищ.
На носу у него – большие очки. Сбоку у лампочки стоит полбутылки водки и большая селедка – тарань. Черный хлеб.
За прилавком, облокотясь, хозяин Березкин. Здоровается. Василий, увидав меня, снял очки.
– Эх, – говорит, – Кинстинтин Лисеич, вот я только что рассказывал… у вас-то, на Нерли, сейчас, в стужу такую, в лунки, в пролубь, эх, хорошо налим идет… Теперь ведь самый его нерест. Бывало, у вас на Новенькой мельнице, в пролубке, я тридцать два налима в ночь пымаю. Ну и уха же была, молоки. А вот они не верят… Это москворецкие рыболовы весны дожидаются. На Новенькой, помню, знать, сом мне попал. Я-то его тяну из пролуби, а он меня – в пролубь. У меня нога-то замоталась в бечеве, а он ее и тянет в пролубку. Я думаю – батюшки, ухватиться-то не за что, крутом снег. Так я валенку-то сбросил, а она в пролубь и ушла. Я домойте, к Никону Осиповичу, в избу, по одной ноге босиком и прибежал… А Никон говорит: «Ты смотряй, это ведь водяной – не иначе… Водяной с тобой играет. Сом-то зимой спит, как медведь в норе. Не слыхано дело, чтобы сом зимой попался. Это, говорит, балуется водяной. Пора ночная, ему охота душу праведную загубить».
– «Душу праведную», – засмеялся хозяин Березкин, – ишь, как Княжев себя меряет…
Приятели засмеялись. Княжев посмотрел на всех, поправил очки и, помолчав, сказал:
– А чего ж «праведная душа»? А чего ж, не праведная, что ль, перед водяным-то! Перед Богом-то другое, конешно, – все в грехах.
– А ты, что ли, праведник, – сказал он Березкину сердито, – водку твою пью? Я ведь мастер, концы вот тебе правлю. Ты сколько на мне наживаешь? А с прошлого года девять с полтиной засчитал. За что засчитал, плутня? Счет ведешь…
Березкин насупился, взял тряпку и стал вытирать в витрине стекло.
– Девять с полтиной – сапоги новые, а я от тебя в опорках по весне ушел. Да детеныш через тебя помер мой…
– «Детеныш»!.. – засмеялся Березкин. – И сколько я этих детенышей знаю, потому каждый раз, как весна – и баба новая. Чисто хлыст.
– «Хлыст»! – сердился Василий. – А ты православный? К обедне ходишь, свечки ставишь?.. Праведник тоже!..
– Много ты об себе понимаешь! Мастер!.. Ера кабацкая! – сказал Березкин.
– Полноте! – закричали кругом, – Чего вы, право?
Василий налил себе водки и разом выпил. Встал, надел пальто, шапку, подошел ко мне близко и сказал на ухо:
– Я вас подожду на углу, я больше не могу с этой стерьвой…
И ушел из лавки.
Все замолчали.
– Вот ведь, – сказал Березкин, – кормишь, поишь, а вот тебе за хлеб да соль что. Лукавец! Как волка ни корми – всё в лес глядит. Пускай походит, брюхо-то подожмет. Какое баловство! Концы править! А ведь, если не поставишь полбутылки, работать не станет. Где это видано? А с весны и не найдешь. Верите ли, самая пора, товар забирают любители – так втрое ему плачу, сукину сыну, – не идет. Баба сейчас подвернется, и айда по лесам, по рекам. Шляться уйдет… – Ведь вот к вам, поди, лезет? – обратился он мне. – От вас тоже много порчи ему идет. Балуется. А лукавец он. Вы думаете, вас-то он любит? Никого не любит. Ему что ни дай – виноват остаешься. У него все сплоатары…
– Не сплоатары, а эксплоатары, – сказал один из посетителей, одетый в подрясник.
Я наскоро купил крючков и, простившись со всеми, вышел из лавки.
Василий угрюмо ходил у угла переулка, засунув руки в карманы пальто.
– Ну что, грех один, – сказал он мне, когда я подошел. – Сердца нет, душа не человечья. Вот что: я к вам в деревню поеду. Там с Дедушкой сетей тонких навяжем – по весне раков ловить.
– Ну ладно, Василий, – говорю я.
– Вот мне до чего двенадцать рублей надо! Вот до чего! Дайте, пожалуйста. Вечером я приду.
Я дал Василию деньги. Он медленно сосчитал и ушел. Вечером Василий не пришел.
На другой день утром Василий пришел пьяный, мрачный, без пальто.
– Что ты, – спрашиваю, – Василий?
Он сморщился и заплакал.
– Правда, правда, – говорил он, вытирая кулаком слезы. – Анафема я. Все деньга вчера кончил у барошника. И пальто. Думал – друг он мой, а он выпивоха, дочиста опил меня…
– Василий, – говорю я, – тебе, поди, неохота ехать в деревню?
– Нет, – сказал Василий, – это вы бросьте. Я правду говорю. Только вы Леньке скажите, чтобы на вокзал меня проводил и билет купил. В вагон посадит, ну, значит, я и поехал – и трешницу. Нет, трешницу много, два целковых, больше не давайте. А то бы от Троицы не вернуться… – как бы зашипев, засмеялся он. – У Троицы-то буфет… Эх, слабость, слабость!..
Встреча
Много я скитался по свету и не раз я видел весну в других странах. Но такой весны, как у нас в России – я нигде не видал.
Москва. Я смотрю в окно моей мастерской, и мне в окно видна разлившаяся Москва-река. Чудно и торжественно. На берегу стоит Кремль – соборы, башни, – как будто бы какая-то давняя дивная сказка. За Кремлем гаснет розовая заря. Галки носятся в вечернем небе, то стаями поднимаясь кверху, то быстро опускаясь к самой земле, с каким-то особым радостным криком. В их полетах есть какой-то праздник, птичий бал.
В реке, в талой грязной дороге, в движении народа, идущего через мост, в зажигающихся к вечеру уличных фонарях, во всем окружающем чувствуется весна.
Странно, я видел много стран. И нигде нет такого отрадно-печального чувства, необычайного замана, глубокой красоты, мечты тревожной, как в весеннем вечере России. Это чувствовалось именно в Москве и ее окрестностях. В Петербурге другая весна.
Потемнело в моей мастерской, а в окнах еще лежит свет зари вечерней. Как-то отрадно и грустно мне, и я думаю – пойду по берегу к Бабьегородской плотине на Москва-реку.
На окраине Москвы деревянные дома, с одинаковым рядом окон. У ворот на лавочках сидят обыватели, женщины в ситцевых платках, какой-то телеграфист, мужики с дровяного склада. Все лущат подсолнух, смотрят вдаль, на Москва-реку. А вдали церковь, какое-то казенное здание, институт или богадельня, а перед набережной ряд тумб. Проезжает извозчик, похлестывая убогую лошаденку, сидит какая-то женщина, везет клетку с канарейкой. И опять пустая улица. Городовой с книжкой ведет какого-то оборванца. И всё как-то просто. И во всем, в природе и людях, чувствуется щемящая радость.
«А зайду-ка я, – думаю, – неподалеку в лавочку к Березину. Там всегда собираются по весне особые люди – рыболовы на удочку».
У Березина в лавочке висят веревки, сети и как лес стоят камышовые прутья. В шкафу висят разноцветные поплавки заграничной работы, а на прилавке в ящиках под стеклом синие стальные крючки разных номеров. Дальше, в комнате Березина, горит лампа, сидит приятель мой Василий Княжев и правит на спиртовой лампочке тонкие концы камыша для удилищ. Кругом сидят какие-то люди – мастер железнодорожный, чиновник пробирной палатки, служащие детского приюта, нестриженый и небритый знаменитый москворецкий рыболов Сергей Петрович Поплавский. Простые люди – все страстные охотники-рыболовы. Приходят к Березину посмотреть на реку, которая видна из окон, и поговорить о рыбе, про случаи, которые были в жизни. А случаи всегда были особенные.
Василий Княжев, как только начиналась весна, оживал. Его темные глаза всё посматривали вдаль. Он был поэт и бродяга в лучшем смысле этого слова; никакое дело, никакие деньги не могли удержать его весной…
– Эх, – говорит Василий, – в Косине озеро, и вода в ём – вот чиста как хрусталь! Это что! И глубина в ём, дна нет…
– Ну и врешь, – говорит немец План, – не может этого быть, чтобы дно нет.
– Да вы, немцы, все так… Вам дно давай, Бога покажи, какой он, из чего он сделан. А вот озеро-то мерил монах, так тридцать семь сажен, а рядом двенадцать – это что! Там, значит, горы, на дне-то, и ходы разные, и не иначе, что озеро это соединено с водой святой, потому что вода у него синяя. А там недалеко – другое озеро есть, у деревни, в ём вода совсем другая. Вода как вода, а у етого – голубая, да чиста до чего – удивленье!..
– Это правда, что вода в этом озере, в Косине, точно голубая, – сказал Березин. – Его и зовут Святое озеро.
– Не потому оно святое, – перебил Василий, – что вода в ём голубая, а то чудно, что оно целит вот от дела какого, от горя… Прямо искупался раз, и готово – как нет, начисто горе снимает, как не было. Жила его, значит, водяная от сердца земли идет. Вода-то такая в ём. Может, из этой самой воды слеза людская сотворена, может, эта вода слезы радости земной есть. Ты вот, Карл Андреич, всё знаешь, немец, конечно. А вот слеза-то – чего это в человеке?
– Там карася фунта на два есть. Какой карася, прямо золотая карася. Какое горе с тебя снимало! Это пустяка дурацкая… – говорил План, смеясь.
– Нет, постой, – не сдавался Василий. – У тебя горе свое, а у меня свое. Постой. Вот скажи – рога тебе баба ставила? – И Василий посмотрел пристально на Плана в ожидании ответа.
– Что ты, с ума сошла, какие рога? Эмма Августовна разве станет такой пустяки думать?
– А я вот женат был, – тряхнул головой Василий. – И так жену любил, так любил… что вот глаз отвести не могу, всё на нее гляжу. И деньги были у меня. А она по весне ушла с жуликом… И прямо места не найду, горе есть. Да меня в Косино и отвез монах один. Я прямо разделся – да в озеро. И сразу у меня всё – как не было. Прошло… И горя нет. И домой не пошел. Но она меня нашла. То ли, сё ли, говорит, давай жить опять, я тебе не изменяла. А я на ее смотрю и узнать не могу. Нарядилась она, шляпу надела такую… Смотрю, пристально смотрю и думаю: «Кто это? Какая-то другая, чужая». И говорить с ей не могу более: ску-у-у-чно. Вот вода-то в Косине – всё смывает… Чистота такая – всю грязь из души выполоскала…
– Это верно, – сказал Поплавский. – Вот меня дома бранят все – и жена, и сыновья, – всё за рыбную ловлю. Одно спасенье: уйду на речку и живу на бережке. Посидишь, ну и полегчает. В реках есть это тоже: водой-то речка тоже горе уносит. Да вот теперь Великий пост, Страстная неделя. Никак нельзя. А то хорошо в грусти жизни нежинская рябиновая. Тоже помогает… Я как что – ею спасаюсь. И вот что я заметил и от всех, можно сказать, рыболовов слышал, какие кренделя получаются. Выходит так: на охоте, на рыбной ловле, как с собой кто коньяк, ром возьмет, ни черта не выходит. Что такое? Только рыба не берет. А ежели вот рябиновая или просто вот смирновка, белая головка – идет. Прямо берет рыба! Слышит, что ли, она? Только прямо скажу, что лещ любит водку. Я его всегда ловлю под Хорошёвом, ловлю выпивши… Трезвый, что хочешь, – не идет нипочем…
Толстый План смеялся:
– Это же что же такое? Я там и пьяний ловил, и трезвий – ничего не попал. И что такое русский голова только выдумает, такой чушь… И верит… Смешно.
– А ты не веришь, Карл Андреич? – спросил Василий.
– Конечно, такой чушь верить невозможно.
– Ну а помнишь, ты на Сенеже тонул пьяный?
– Это верно – тонул, помню.
– Когда выпили мы две четверти, у тебя в лодке оставили их пустые. Когда волна лодку твою опрокинула, кто тебя спас? Эти пустые бутылки. За них ты держался…
– Это правда.
– Я их закупорил, – сказал Василий. – И оставил в лодке. Подумал: пьян, в волну такую едет. Бутылки-то помогут.
– Это верно, – согласился План, – без бутылка бы утонул.
– Вот то-то.
– Так, – сказал чиновник пробирной палаты. – А вот это что есть? Весна, река пошла. А вот мы зашли к нему в лавочку, к Березину. Охота в нас, страсть эта к рыбе, к реке, к воле. Нешто рыба нужна нам? Ее сколько хочешь в Охотном ряду купишь. Нет, другое есть что-то… Другое манит. Идешь к речке и думаешь: там на реке вечер и утро – красота такая. Как-то вроде и жить без нее не стоит, без красоты этой…
– Да, – согласился и железнодорожный мастер. – Дело это – рыбу удить – пустое. Я не говорю никому, а то засмеют. Жена, знакомые на меня сердятся за это.
– А вот я с поездом ехал, и царь ехал. Значит, ехали в Сарово, к угоднику Божию. А я сам из той стороны, родился в селе, а потом отец в Москву увез, и в Москве я учился. И помню, в детстве, там одно место, называлось Ключ Свят, в лесу большом, у бугорка. Хорошо место. Лес, и такой бочажок под дубом круглый с водой был. Вода чистая. И над ключом кто-то поставил деревянный крест. Помню – старый он был, и к тому ключу ночью лоси ходили воду пить. Мы мальчишками, когда грибы собирали, тоже, бывало, зайдем воды испить. Говорили, что ранее и сам преподобный ходил туда и будто крест он поставил…
Вот недавно, когда царь приехал, и я там был, и что вышло. И дуба нет, и часовня на том месте поставлена, и кругом дома, церкви. И ключа я не нашел. Лесу нет, а сад. Дорожки песком желтым сыпаны, красное сукно расстелено, духовенство… Паникадила горят, народу что… Тысячи! Травы прямо не видать, всё песком покрыто. Вот что стало – узнать нельзя. Отчего они ключ тот, как он ране был, не оставили? Крест-то самодельный, и дуб был. Я сказал как-то одному монаху, а он мне так строго ответил: «В голове у тебя глина, значит, и маловер», – говорит. Ушел я от торжества того и утром рано пошел на речку. Утро хорошее, вода тихая. Закинул у кустика удочку, одну, другую и гляжу на поплавки. Вдруг вижу, ко мне человек подошел, стал сзади и говорит мне: «Я вам не мешаю? Можно посмотреть?» «Нет, не мешаете, – говорю, – садитесь только, а то рыба-то видит». Он сел. «Вот, кажется, на левой удочке у вас клюет», – говорит. Вижу, верно, клюет. Я подсек, большая рыба. Тащу леща. А он говорит: «Что это за рыба?» Вот, думаю, чудной, чего пристает? И рыбы не знает… «Лещ», – говорю. «Никогда, – говорит, – не ел». Вот, думаю, чудной…
«Хорошая рыба», – говорю. «Приятно, – говорит, – рыбу ловить?..» «Да, – говорю, – а у вас удочки-то нету?» «Нет, – говорит, – нету». «Вот, – говорю, – я на вечернюю зорю пойду вот туда, где лес. Там река поглубже, дак приходите вечером, когда солнце садится, я для вас удочку захвачу. Половите…» «Благодарю вас, – говорит, – только мне некогда». «А что же вы, при деле, что ль, каком?» «Да, – говорит и вздыхает: – маршрут у меня… – Потом помолчал и говорит: «Продайте, пожалуйста, мне эту рыбу, леща…» Я говорю: «Да что же – так возьмите». «Нет, – отвечает, – не могу. Вот ведь и денег-то у меня нет. Я сейчас приду или пришлю. Уступите, пожалуйста». – И ушел.
Так через полчаса двое подходят, таких, военных, и говорят: «Вы рыбу продаете?» «Нет, – говорю, – я не продаю». «А не знаете ли, кто здесь на реке рыбу продает?» «Не знаю, кто продает…» «А нам сказали, что тут рыбу поймали большую, дак хотят ее купить, очень нужно…» «Дак это я поймал леща», – говорю. «Продайте, пожалуйста». «Да что же… возьмите так, – говорю. – Тут уж был один, хотел купить, я ему отдавал, дак он не взял. Да и денег у него не было». «Вот, – говорят, – будьте добры…» – и протягивают мне пять рублей – золотой. Я говорю: «У меня сдачи нет». «Всё равно, – говорят, – берите пять рублей. Только рыбу-то дайте». Я думаю: «Что такое, чудно как…» Смеюсь и говорю: «Двугривенный – больше не стоит». «Дайте, – говорят, – пожалуйста, ваш адрес. Потом сдачи дадите». Я дал адрес. Они подхватили леща-то, да и пошли скоро.
После обеда пришел ко мне домой один из этих-то, которые были на реке. Ну я ему сдачи даю – двадцать копеек с него взял. А он смотрит на меня так жалостливо… «Возьмите, – говорит, – все пять рублей». Я думаю: «Что за народ чудной. Богатый, знать…» Говорю: «Нет, зачем же… Это не стоит». «Прошу вас, – говорит он мне тихо, – пожалуйста, только никому не говорите, ведь это у вас был, когда вы этого самого леща-то поймали, сам государь император…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































