Текст книги "То было давно…"
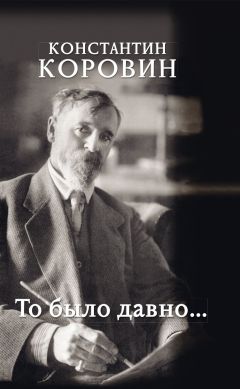
Автор книги: Константин Коровин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Октябрь в деревне
Москва, зима. Кузнецкий мост, булочная Бартельс… 1917 год. Стекла выбиты, помещение пустует – торговля запрещена. На стене дома, где была булочная, висят большие плакаты – воззвания в тоне благих поучений, как сохранить детей от туберкулеза усиленным питанием.
Как раз перед булочной стоит на панели молодая, по виду интеллигентная женщина с опухшим от голода лицом, робко озирается и продает маленькие, темные пирожки из ржаной муки.
Лоток ее с пирожками примостился тут же, на панели, в грязи и рыхлом снегу.
Запертая булочная, голодное лицо женщины и эти жалкие пирожки – как всё странно противоречит воззванию о детях, какая химера и чушь, нелепость и бессердечие!
* * *
Но толпа ничего не замечает.
Толпа торопится, спешит на бесчисленные заседания… Девицы и юнцы бегают с одного заседания на другое с озабоченными лицами. Слушают, записывают чрезвычайно деловито, дружно аплодируют всем ораторам, что бы те ни говорили – одно или прямо противоположное, – всему рукоплещут.
Как странно… Особенно странной кажется молодежь.
* * *
У Дорогомилова моста я увидел, как две девушки и гимназист тащили на веревках сани. На санях – плохо сколоченный ящик, из которого торчат ноги покойника. Молодежь весело волочет гроб на кладбище. Я справился о покойнике. Гимназист ответил с улыбкой:
– Хороним отца…
Что означает это веселое, это уверенное настроение молодежи? И как все они довольны!
Учреждений образовалось много, всюду толпы служащих: всё больше молодые девицы и молодые люди. И нравится им, что они служат, за делом пребывают, что к ним обращаются, просят их, умоляют, что они – власть. Нравится им, что они могут отказать, отменить, запретить.
* * *
Я пришел в некое хозяйственное учреждение просить дров, то есть ордер на получение дров. Учреждение большое, занимает целый дом. Отделений много: я не знал, куда сунуться. В битком набитой просителями комнате № 82, куда я наконец попал, насилу пробившись по коридорам, барышня № 82, выслушав меня, сказала:
– Я вам дам записку в Центротоп. Это на Покровке… Вас зачислят в артель по разбору деревянных домов и заборов на окраинах Москвы, в порядке трудовой повинности.
И снова было видно, что барышне очень нравится ее служба и то, что вот она может изрекать эти высокие справедливости, то есть что я должен работать по разборке домов и заборов и выдадут мне за это груду мусора для топки.
Я пытался объяснить барышне, что мне не по силам такая работа: всю жизнь занимался другим, да и стар.
Она посмотрела на меня обиженно:
– Вы отнимаете у меня время ненужными объяснениями. Я принимаю по делу. Большая очередь. Извиняюсь!
И ушла.
Все служили, и все стали властью.
Никогда раньше я не видел в России таких самодовольных, надменных лиц, как в дни этого интеллигентского пустословия и фальшивых свобод…
Племянник мой притащил мне дров и объяснил, что надо было обратиться прямо в Комиссию деятелей культуры. Однако ночью все дрова у меня были украдены, и я стал топить мебелью. Но так мерз и голодал в погасшей Москве, что вскоре решил перебраться в деревню.
* * *
В сугробах, далеко от Москвы, деревня была сущим раем. Тишина, лес в инее, одинокий огонек в избе.
Как был непохож этот глухой край на сумасшедшую Москву!
Мирно мерцали звезды над огромным бором, когда в ночной темноте я подошел к моему дому в лесу.
Я зажег лампу, а старик-рыбак, живший у меня сторожем, поставил самовар. Севши со мною за стол, он спросил:
– Правда, Кистинтин Лисеич, аль нет? Мужики бают, что из человечьей кожи в Москве сапоги шьют?..
* * *
Деревенское утро было солнечное. В окно я увидел идущих ко мне каких-то людей, по виду «товарищей». Когда они вошли, я спросил у каждого фамилию. Они ответили. Я вынул деньги и сказал:
– Завтра приедет сюда из Москвы товарищ Кулишов. Постарайтесь встретить его. Вот деньги, надо подрядить подводу.
Они взяли деньги и ушли. Эти люди с наганами у пояса решили, что я тоже – некая власть. Их, вероятно, удивило то, что у меня не отбирают моего дома и что на черной вывеске у входа написано: «Товарищи бандиты, не беспокойтесь, всё уже ограблено». А над вывеской – красный флаг.
Эта вывеска и красная тряпка привлекали к моему дому крестьян из соседних деревень: они приходили судиться и жаловаться на обиды, принося в дань яйца и масло. Всё это отдавало какими-то давними временами. Я им отказывал. Но сколько я ни говорил крестьянам, что я вовсе не судья и не мое это дело, – те не верили, только одно смекнули: взятка мала.
* * *
Через неделю ко мне шли уже целыми толпами с самыми нелепыми просьбами: можно ли отнять коров у другой деревни, так как в ней ртов меньше, или можно ли рубить казенник и как делить потом нарубленное, потому что теперь он ихний? Другие же вступали в спор и говорили, что он не «ихний», а «наш».
Даже друзья мои из крестьян, соседи-охотники, и те изменились ко мне и видели во мне какое-то особое начальство. Старший в заградительном отряде солдат, проживавший на дороге, в доме лесничего, когда его спросили: «Отчего не берете дома Коровина? Он и лучше, и больше дома лесничего?», – ответил мужикам: – «Да поди-ка возьми у него, он ленинский родственник…»
* * *
Народ шел ко мне судиться, просить разрешений на лес, на отнятие лошадей, земли… А когда я отказывался брать хлеб, яйца или масло, просители искренно обижались.
Гостивший у меня приятель Кулишов и тут нашелся. Он заявил:
– По уставу центрального государственного трибунала профсоюза, приносимые в порядке товарообмена продукты подлежат конфискации на деньги, а потому получайте за продукт деньги.
Кулишов говорил громко, без запинки. На мужиков это действовало, и деньги они брали, приговаривая: «Ну и барин! Башка, умственный, отчетливо говорит, ловко, деловой!»
А цены за приносимое мужики назначали невероятно высокие. В то время ходили керенки. При переводе на золото выходило примерно так: десяток яиц – пять рублей.
И все-таки то, что я платил деньги, повергало мужичков в грусть. Получалось так, что я не тот, что надо, и неизвестно, можно ли рубить казенник и грабить коров у соседей и у никольской барыни. А у ней, у никольской барыни, коров много, и куда ей столько, почто?
* * *
Вечером зашли ко мне крестьяне-приятели, охотники, и заявили:
– Мы знаем, что это господа всё делают, нас за озорство учат, так им царь велел…
– Царя нет, – сказал я им. – Он убит.
– Да что ты, Лисеич, чего нам ты говоришь? Вот, право, грех. Нет – знаем: жив и в Аглии. Солдат надысь приходил – он в Аглии был с пленными. Так вышел к ним царь и сказал: «Поезжайте домой, и я, как народ поучат там, то посля приеду», и по рублю серебряному дал. Солдат нам и руль показывал…
Странно было слушать это от еще не старых и грамотных крестьян, не раз бывавших в Москве…
– Вот баушка революции всё нам обещала отдать, – говорил один. – И товар, и лес, чтобы мы сами торговали, а не купцы. А вот ее боле нет, и нам ничего нет. Господа все – кто, что. Кто тулуп надел, кто поддевку, и всё себе берут, а мужику опять ничего. А говорили: «Подымайся, всё получите, как господа в спинжаках ходить будете, сапоги, галоши – дарма». И учителка тоже говорила: «Чай, сахар – дарма». Вот! А теперь ничего нету…
Странно было слушать это, и как я ни старался объяснить, они не понимали. У них сидело там, внутри, глубоко – галоши, спинжаки, чай и сахар дарма и жажда новой жизни: чтобы ничего не делать и быть, как господа. А когда я доказывал, что и доктор, и инженер, и начальник станции тоже работают, то один из них, опустивши голову, только рассмеялся:
– Ну и работа! Вот пускай-ка пойдет покосить, узнает работу.
– Он не крестьянин, – говорил я. – Доктор лечит, а другой инженер машину делает, вы на ней ездите.
– Нет, пускай-ка он сначала попашет да посеет, а там делай, что хочешь. А то его корми. Пускай свое ест. Едоков-то много, а крестьянин всех корми…
– Верно, – соглашались другие.
– Мы-то ничего тебе, – говорили мне. – Тебе что, ты здесь приютился и живи. Мы тебя-то дарма прокормим. Только одно: ты всё знаешь, а сказать не хочешь. Когда царь-то вернется? А то мы здесь без начальства друг друга косами запорем, вся начисто без народа Россия будет, только в лесу нешто кто спрячется да волком завоет…
Люди уже выли. Даже собаки убежали со дворов и улетали голуби.
Как-то вечером мы пошли с приятелем Кулишовым в соседний Феклин бор.
Последние лучи солнца освещали огромный лес. В нем было торжественно. Большие синие тени ложились от сосен на розоватый снег. Ветви елей, покрытые снегом, склонялись до сугробов, и получались как бы норы, куда хотелось залезть, спрятаться, чтобы не слышать, не видать всего, что творилось кругом.
А в лесу инеющие ветви переплетались в пышные кружева, синеющие в зимних сумерках, и казались каким-то чудесным сном о таинственной жизни…
К ночи мы вернулись с приятелем в дом, и я почувствовал, что уже дом не мой, и я в нем как-то нечаянно жив еще.
Кулишов, веселый человек, говорил:
– Ну и идиоты мужики!
Вечером пришли ко мне соседи, тетка Афросинья, Батолин-рыбак.
Кулишов и им сказал:
– Идиоты вы, дурачье.
Батолин степенно ответил:
– Это верно, мужик наш действительно темный – конешно. Да господа и баушка революции всё сами зачали: сулили гору, ан, нет ничего… А мужики говорят, – вдруг добавил он, – будто Кистинтин Лисеича больше не пустят уехать… Хлеба и всё дадут, только чтобы не ехал. «Без его, – говорят, – скучней. И вина он нам не жалел, и угощение от него было, и на обман наш, бывало, смеется, не серчает… Наши ребята у его гусей поели, а он говорит: “Знать, улетели по осени с диким”. Простой, – говорят, – пущай живет…»
Наутро у меня на террасе стояло невероятное количество крынок молока, муки, творогу, лепешек, хлебов, огурцов, капусты. Мне сказали, что рано утром принесли мужики старинские, охотские и любильцы. Говорили: «Пущай ест и живет с нами».
Я посмотрел на дары и понял, что их не съесть и целой роте.
– Чудной народ, – повторял Кулишов.
Я поблагодарил крестьян и упросил взять дары обратно. Хотелось уехать. Жуткое чувство не покидало меня, и утомляли эти постоянные посещения какими-то людьми, крестьянами, «товарищами» из Александрова и Орчека, со станции, народными хожалами – то с угрозами, то с расспросами, то с непрошеными милостями. Я и приятель мой решили уйти из деревни – опять в сумасшедшую Москву.
Мы собрались ночью на станцию Рязанцево, в четырнадцати верстах от меня. Была морозная звездная ночь. Острым серпом блестел месяц над бором. Деревня спала. Снег хрустел под валенками, дорога сначала шла полем, потом через реку Нерль уходила в лес.
В лесу показался темный дом лесничего, в доме стоял заградительный отряд.
– Обойдем лучше, – сказал Кулишов.
Но снег был глубок, и мы пошли прямо на дом.
Всё спало, огня в окнах не было. Залаяла собака. Торопливо свернувши на проселок, мы вошли в большой казенный лес. Сосны казались бесконечно высокими, звезды сверкали среди их огромных, темных шапок.
Оступившись, я провалился в яму. Снег покрыл меня с головой, набился за ворот. Вылезая, я ухватился за столб, на котором была выведена цифра 12 черной краской по белому, а наверху двуглавый орел. Это была межевая яма.
Только я вылез на дорогу, приятель мой шепотом сказал:
– Смотри, видишь, огонь… Идут с фонарем сюда… Пойдем лучше спрячемся!
Мы быстро вошли в глубь леса. Снег был выше колен. За елями мы прилегли. Фонарь приближался. Мы увидели троих людей с винтовками, они шли по той же дороге от сторожки лесничего. Не доходя ямы, остановились, и один, несущий фонарь, сказал:
– Куда идтить? Нешто их тут сыщешь ночью?
– Только бы увидать, – сказал другой, – а то б дали раза.
Он поднял к плечу винтовку, и раздался выстрел. Просвистела пуля.
– Чего зря хлопаешь, пойдем, робя. Озяб, чего ночью тут!.. Ежели б мешочники, у тех денег што, а у этих ничего нету. Я в окно смотрел – пустые, знать, здешние.
Очевидно, разговор шел о нас, так как у нас были только палки в руках.
– Все равно бить их надоть. Может, поджигатели…
И они ушли назад к дому лесничего.
Лес редел, мы вышли на опушку. Недалеко впереди показалась темная деревня Никольская. Прошли кузницу, запахло дымом. В деревне было глухо, печально. Избы покрыты снегом, ни огонька в окнах. Безнадежно.
Вот и осинник, где до войны я убил на облаве волка. Мне стало жаль волка и его загубленной мною жизни здесь, среди леса – зимой, в голоде. Волк в печальной стране моей лучше нас, озлобленных людей. Волк лучше нас и свободнее…
Скорбь
Родился, ну и, конечно, живешь на свете. Но всё же по временам как-то чудновато становится. Век такой, эпоха, знаете ли, такая замечательная.
Умственный человек Василий Харитонович Белов говорил, что в такое время живем, что «у кажинного ум раскорячивается».
А другой – интеллигент – тоже очень умный, мне сказал, что всё довольно ясно, но в общем понять ничего нельзя; жизнь полна добрыми намерениями, но из намерений панталон не сошьешь. И он, вздохнув, посмотрел на свои панталоны.
А панталоны были у этого интеллигента, действительно, какие-то скучные, беспомощные. Такие панталоны бывают только у людей, которые называются «общественниками», которые не живут для себя, а только для других, помогают ближнему. Всегда они в заботах, в делах, в гостях – как бы достать деньги, чтобы помочь учащейся молодежи, студентам, вдовам, обремененным, покинутым любовницам; словом – скорбящим.
И вот у этих замечательных людей – «общественников», от их профессии и благотворительных дел лица и панталоны до того скучные, что, глядя на них, впадаешь в скорбь и уныние. Знал я не одного такого. Их было много. И у всех – отражалась на панталонах унылая тоска жизни.
Ах, как много было общественной скорби по всей прекрасной стране моей: в городах, среди разгула, веселых праздников и в глухих углах родины звучала дудка общественной скорби! Ни вино, ни удаль, ни похмелье, ни младость, ни любовь, ни веселье – ничто не заглушало назойливой скорби плакальщиков.
А там – настало иное время. Вспоминаю другого общественника-интеллигента. Тоже идейного. У того были бравые суконные панталоны цвета хаки, вправленные в высокие сапоги с набором, поддевка, жилет, рубаха навыпуск из-под жилета, картуз кожаный, черный, большой козырек, по бокам козырька пуговки, от пуговок ремешок. На вид – лихой рабочий, старший мастер с фабрики, бравый человек. Ни скорби, ни унылых панталон.
Приходит на службу утром. Простой стол, скамейка. Садится на скамейку, картуза не снимает. Из ящика стола вынимает сухую краюху черного хлеба. Из графина наливает воду и ест хлеб. Хлеб да вода.
Толпы просителей смотрят и шепчутся:
– Ишь, сам-то, гляди-ка, товарищ, – хлеб один…
А идейный интеллигент кричит:
– Чего вы?! Вот видите – хлебом да водой пробавляемся, а вам чего надо?! Кто не трудится – не ест.
– Товарищ, – говорю, – дайте разрешение проехать по железной дороге в деревню, дом у меня там и мука, в Москву привезти, а то здесь есть нечего.
– А муки-то у вас много? – насупился интеллигент.
– С пуд есть, – говорю.
– А вы кто, элемент?
– Элемент, – говорю.
– Нетрудовой элемент?
– Трудовой, – говорю я. – Вот посмотрите, у меня руки – правая большая, а вот левая много меньше.
Он посмотрел на мои руки и спросил:
– А вы что этой рукой, вертите, что ли, что?
– Верчу. Кистью верчу туды-сюды.
Он мрачно посмотрел на меня и стал писать записку: проезд по железной дороге.
Получив пропуск, я пришел домой и говорю слуге и приятелю моему Василию:
– Ну, Василий, едем. Раздобудем чего поесть, только надо захватить кое-чего на обмен.
Василий берет мешок и запихивает в него платье, занавески с окон, всякую всячину. На столе у меня всякая мелочь – кольцо с фальшивым бриллиантом от Тэта.
Надеваю его на палец.
– Чего это вы? – говорит Василий, смотря на кольцо. – Никак это не возможно. Чего это вы бриллиант на палец надели? Увидят – убьют, убьют беспременно.
– Он ведь фальшивый, Василий. Может, дадут в деревне пяток яиц.
Василий пристально посмотрел на мое кольцо, провел пальцем под носом, отвел черные глаза в окно и, глядя на улицу, сказал:
– Убьют. Нешто разберут – фальшивый аль нет. Беспременно убьют…
В вагоне 3-го класса стекла выбиты. Вагон набит битком. Мешочники, солдаты, крестьяне.
Я примостился на лавочке с краю. На полу внизу сидели бабы с детьми, рабочие, и все тотчас же стали смотреть на мою руку, на которой блестело кольцо. Стоящие тоже смотрели.
В разбитые окна вагона были видны мелькающие леса, сжатые поля – печальная осень.
Сквозь толпу пассажиров в вагон протиснулся человек в черной кожаной куртке и черном картузе. У пояса висел наган. Приблизившись ко мне, он прогнал баб и сел против меня. Посмотрел на кольцо и спросил, наклонившись близко ко мне:
– Пятерку дали?
– Нет, – ответил я, – два рубля.
– Я-то вижу… – сказал человек в куртке и улыбнулся.
Смотрю – Василий покосился на меня и пошел к дверям, сделав и мне знак глазами, чтобы я уходил.
– Товарищ, – сказал мне шепотом человек с наганом, – сымите кольцо, а то народ волнуется. Весь вагон глядит – думают, настоящее.
Я снял кольцо и спрятал в карман.
– А вы, товарищ, элемент будете?
– Элемент, – отвечаю.
– Нетрудовой?
– Нет, трудовой.
Сжав кулаки, я показал ему руки. Он поглядел и сказал:
– Правая много боле. Чего ж, на заводе что вертите или что?
– Кистью верчу с краской туды-сюды.
– Вот, вот, – ответил он. – А кольцо-то вам зачем?
– Обменять хочу, товарищ. Может, десяток яиц дадут.
– Не надевайте, а то арестовать велят. – И он ушел.
В другом вагоне я нашел Василия. Мы слезли на станции и пошли осенней, покрытой лужами дорогой.
Тих был осенний вечер. В далеком небе раздавались гортанные звуки летящих журавлей. Унылы и печальны показались мне знакомые места, речка и моя родная земля. Дом мой был тосклив и жалок. Не встретили меня мои собаки – их уже не было. Не было и сторожа Дедушки.
Я зашел к соседу, к тетушке Афросинье. Она обрадовалась, увидав меня.
– Заварю, заварю, – засуетилась она, – сейчас мятки заварю. Чаю нет, сахару нет. Лепешки принесу. Спрятала, а то отбирают.
– Тетушка, – говорю, – у меня мука в доме есть. Возьми. Боле пуда.
– Да что ты? Эка! Всё взяли: и подушки, и самовары – всё. Какая мука? Чаю что, поди! И чего это? Отбирают!..
Я сидел и пил теплую мяту.
– Давно не были, – сказал Феоктист.
– А где же Дедушка?
– То тут, то там. У дома держится. Обобрали и его. Сети отняли. Не вяжет боле, да и нечем. Озорство идет. Лихо дело!
– Вот, – говорю, – в мешке Василий привез одежину. Наменять на что. Вот еще кольцо фальшивое, дадут, может, яйца.
– И что ты, дорогое кольцо. Спрячь, в землю спрячь, а то убьют. Нешто можно, что ты! За одежину-то что и дадут – картошки, а муки-то мал-мала. Знать, до лета сами помрем.
Печальная луна взошла над моховым болотом. Обеднели клены, и мрачно, уныло дремал, ожидая зимы, мой милый сад. И вот в этом умирании осени вместе с садом умирало и то прекрасное, для чего я жил…
Василий подошел ко мне и сказал:
– Чего… спать-то не на чем? Всё пропало. Одеял нет…
Я ходил в темноте по моему дому, держа в руках зажженную лучинку. Всё было разбросано, перевернуто. Посуды не было. В углу кухни увидал плошку моей собаки – пойнтера Феба. Он умер давно. Я похоронил его в саду. Воспоминание о Фебе вошло в душу чем-то светлым, чистым, радостным.
Я пошел в сад, к молодому ельнику, где была могила Феба. Во мгле лунной тихой осенней ночи освещенный луной бугорок над останками моей собаки был покрыт павшими листьями.
Я присел на бугорок.
Подошел Василий.
– Гляньте-ка, бутылочку самогону достал – Захар в лесу тихонько курит. Поднес мне. Хорошо! С души прямо это самое сошло сразу. Забудешь, что и голод. Вот выпить-то – не во что налить.
– Василий, на кухне в углу плошка Фебина, тащи сюда, помой водой… Спи, мой Феб, мой верный друг, моя собака. Ты умер, полный любви к человеку, своему богу.
Вернулся Василий с плошкой. Я выпил самогону и налил Василию. Он молча выпил, как-то захлюпал и пошел с плошкой на кухню.
Осень… Безлюдье… Тоска…
Карла Маркса
Как-то, уже во время революции, я пошел в мастерскую взять свои эскизы. У ворот дома Соловейчика, где была мастерская, я увидел Василия Белова. Он стоял один и глядел рассеянно; под глазом у него был большой синяк. По улице шли люди, несли знамена с надписями «Дворцы народу!», «Свобода!»…
– Василий Харитоныч, – спрашиваю. – Что это? Ушибся? Глаз-то у тебя затек.
– Ну и свобода, – ответил Василий. – Это что же такое? Вчера я на митинге был у Страстного… Народу… Говорил, как новое начальство дома делить начнет. Кому – ежели я солдат – одно, а ежели мастер – другое. Мне, чисто Шаляпину, хлопали. Да один какой-то стрюцкий, мне в морду – хлясть. Ну за меня народ. «Как драться?! Полное право!» А стрюцкой на меня показывает: «Ишь, у него бриллиант на пальце». А у меня кольцо с бирюзой, когда в Самарканде с вами был, вы подарили. «Давай кольцо, – кричат, – бриллиант носит, сволочь!» Сняли кольцо. Чуть палец не оторвали. Насилу сбежал.
В это время мимо нас по Садовой повалила толпа с криками: «Свобода, соединяйтесь!» Шли дворники с метлами и пели «Черные дни миновали».
Василий смотрел сердито. Вдруг перед ним остановились двое и стали его разглядывать.
– Это городовой переодетый, – сказал один из остановившихся, показывая на Василия. – Ишь, морда бита.
– Городовой это, тащи его. Ишь, переоделся!
Василий закричал:
– Какое полное право!
Но Василия уже держали за руки.
Я вступился за него:
– Это вот из этого дома мастер, – говорю. – Рабочий, сознательный. Из мастерской.
– Веди его туда, узнаем, кто, – загалдели в толпе.
Василия и меня привели в мастерскую.
Когда вошедшие увидели краски, кисти и часть декорации, над которой была написана большая голова египетского фараона в тиаре (декорация изображала барельеф к балету «Дочь фараона»), один из освобожденных граждан сказал, сморкнув носом:
– Э-э, товарищи, и верно… Художники… Ишь, Карлу Марксу малюют. Вот за это, знать, его и били несознательные. А пошто у Карлы Марксы бутылка на голове? Монополия, что ли? Монополия, знать.
Ишь ты!
Через неделю Василий пришел ко мне серьезный и важный.
– Теперь я за старшого, – сказал он. – Бумагу мне дали. Главный мастер. Весь двор меня слушает, ходит смотреть Карлу Марксу.
Говорил это Василий строго, и лицо его было умственное и гордое.
Вдруг, совершенно другим голосом, Василий сказал:
– Ну что, теперь денег награбят – страсть! Часы карманные делить будут. Мне золотые обещали.
– Нехорошо, пожалуй, будет, Василий…
– Чего ж? Народ гуляет. Никто не работает. Кто что. Свобода потому Очень антиресно. Где подожгут, где стащат, своруют, потом ловят, кого бьют. Кто кого. Антиресно. Гуляют. Карла Маркса велел. Ну и рады все. Ходят смотреть в мастерскую: голова большая. Ну спрашивают: что за человек такой намалеван? А я говорю: Карла Маркса, Фундуклей, царскую дочь за себя взял, в дочери фараона, в балет. Она танцевала да веретеном, от жисти такой, сквозь себя проколола. А его от должности уволили.
– Ловко, – говорю, – ты, Василий, придумал.
– А чего ж? Всем ндравится. А один пожилой так даже заплакал. Говорит – у него тоже вроде было с дочерью. Так, говорит, в больнице и померла. – Он посмотрел на меня с укоризной: – А вы, Кистинтин Лисеич, всё не верите, смеетесь, а мне вот муку, крупу, сахару за это дают…
Через неделю Василий опять пришел, но грустный, подавленный. Глаза ходили во все стороны.
– Ну, начальство теперь, плюнуть стоит, – сказал он.
Оказалось, что в мастерскую явился человек в кожаной куртке, с портфелем под мышкой, сказал про декорацию: «Это не Карл Маркс» – и велел бороду прималевать.
– Карла Маркса фабрикантом был! – горячился Василий. – Все фабрики рабочим отдал, капитал на книжку положил… А декорацию взяли и сказали, что из нее знамя сделают.
– Взяли, – повторил с грустью Василий. – Знамя! Какое же из этого знамя выйдет! Знамя есть священная хоругвь против врагов унутренних и унешних, а он чего понимает? Так, какой-то стрюцкой. Чего тут. Говорили, часы делить будут. Вот тебе и часы! Фабрики рабочим отдал Карла Маркса, а сам, поди, с золотыми часами ходит. Тоже суфлеры, знаем их. – И, посмотрев на меня, еще раз укорил: – Вот вы всё не верите, всё смеетесь… Эх, досмеетесь вы, Кинстинтин Лисеич…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































