Текст книги "То было давно…"
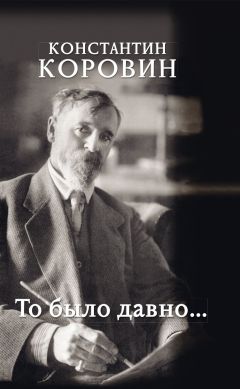
Автор книги: Константин Коровин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Овражки
Вспомнил я Саратовскую губернию. Поля! Поля… Среди них проселки, пустынные дали. Едешь по пыльной дороге, спускаешься к оврагу – там кучки деревьев, ивняк. Остановился ямщик, несет ведра свежей воды поить лошадей, а потом снова едем, опять поля… Подсолнухи высокие опустили тяжелые головы. Зеленою полосой сочных листьев лежат арбузы. Травы. Цветами засыпаны поля, пахнет пшеницей и коноплей. Высоко в ровном небе парят ястреба. Жара…
Виден большой ровный густой сад. Едем к нему, за ним крыша дома. Огромные стога соломы, каменная изгородь, ворота…
Въехали во двор. Скучные длинные конюшни. Лает собака, привязанная на цепи, и – никого. Крыльцо с колонками. В окнах крыльца цветные стекла – голубые, красные. Вхожу. Жужжит муха. Появляется босой человек и говорит:
– Пожалте сюда, в горницу.
Снимает чемоданы – все в пыли. Хочется пить.
Я спрашиваю:
– А где Михал Николаич?
Вижу, на столе молоко, покрыто салфеткой. Наливаю стакан и пью. Какое дивное молоко.
– Они на реке, – говорит человек. – Катамаран ставят.
«Что такое, – думаю, – катамаран?» Ух, как жарко!
Как-то вечером на конюшне оседлали мне лошадь. Я выехал из ворот по ровному полю, по заросшей, брошенной дороге, не зная куда. Просто прокатиться верхом.
Погасала заря. Солнце спустилось за длинные синие тучи. Кончался жаркий день. От земли поднимался запах трав, пшеницы, клевера. Было что-то отрадное, зачарованное в вечере лугов. И конь будто заодно со мной радовался воле простора, запаху трав и дуновению приближающейся ночи.
Всё хорошо на земле – и лес и степь. Всё прекрасно и совершенно. Еду, еду и вижу кучи серого ивняка. Мелкие листики его серебрятся в вечере. Овраг. Маленький ручей журчит среди плакучих ив. На той стороне внизу овражка небольшая изба, крытая соломой, в одно оконце. У избы на завалинке сидит старик, в синей самотканой рубахе, в лаптях. Около – колья, на них опрокинутый кувшин, висят лапти, крылечко, за частоколом малина, а среди малины пчельник – деревянные ульи, старые. И всё так бедно в овражке.
Я слез с лошади и провел ее вниз. Дед молча смотрел на меня. На нем высокая шляпа, коричневая, деревенской работы. Я расседлал лошадь и пустил ее.
Берега овражка поросли кустами, трава покрыта мелкими цветами. Странно, в этой бедной природе был мир такой красоты, будто это предел желанный.
Я сел к деду на завалинку и смотрел на вечер, на серый ивняк, который узором мелких листьев нежно дремал на погасающей заре вечера. Внизу потемнели глухие ветви, и журчал ручей.
Перед нами горит тепленка и дымит огонек ее. Дед бросает в котелок какую-то травку, посматривает на меня, наливает чашку, подает мне и говорит просто:
– Испей чайку мово. Откеле ты, барин, приехал?
– Да вот, – говорю, – от Зацепина.
– Вот что… Я сам тоже оттелева… Сумаровский я. Да я от их и в солдаты взят. Давно-то… На Севастополе мне под Малаховым руку-то по плечо палашом француз отхватил. Давно… Дом-то в Сумарове уж не тот. А ране хорош был… И барыня тоже, помню, хороша была. Добрая. Вот тут у меня в избе хоронилась… пряталась, значит…
– Чего же пряталась? – спросил я.
– Давно-то… Пришел я с войны, а руки нет. В работе не то уж. Никого у меня – ни жены, ни отца, ни матери. Один, значит. Ступай, говорят, неча тебе здесь по крестьянству. Ну вот, чего, думаю. Вспомнил, у меня дед был. И вот, стар он, а у него пчельник… вот этот самый… он тут был, жил, значит. Я по оврагу к ему. А он рад – меня увидал, вот рад. Обнимал и плакал. «Не уходи от меня, поживи тута. Я скоро помру». И помер. С тех пор я тута и живу. Живу, ничего, не замают. Кому надо?.. Вот, однова, давно то было, вдруг слышу, ночью ко мне в окошко стучится кто-то. Думаю, кому бы тут быть? Поглядел – вижу, барыня, Сумарова. Молодая.
– Вот что, – говорит, – спрячь меня тута, у себя. Я от мужа бежала. Я, – говорит, – другого люблю. Помоги мне, пожалуйста. Я тебе награду дам. Спаси меня.
– Во чего… Что ж, – говорю, – только невзглядно житье мое. Нелюбо вам, барыня, покажется.
– Ничего, – говорит, – я наверх залезу, под крышу. Ты травки туда понатаскай мне. Я и лягу спать там.
– Там вот, – показал дед на верх избы, – туда лазила и спала. Дала мне денег и велела, чтоб купил я ей крестьянское платье. Ну я аккуратно всё и купил. Штобы свои не узнали, далеча ходил. Ну в крестьянской одежде она. Кто ее узнает? И в Петров она ездила, и в Аткарск. И письма оттуда давала в Питер. Ко мне сюда никто не идет, кому надо? только дети… Оставят их у меня матери, когда жнивье, ну хлеба мне дадут… Вот любила она это место у ручья, умывалась и говорила: «Хорошо тут».
Только, однова, в вечор, што ты, приехал верхом парень молодой. Бравый. Вроде как крестьянин, красивый такой. Только, гляжу, рейтузы на ём военные. И вот она рада была. Смотреть чудно. Они как вцепились друг в дружку. Смотрют – глаз не спуская, обнявшись, и цалуются, и потом опять смотрют… Вот тут, у ручья, вот на бережке этом… Поздно уж было. Я спать ложусь. Поглядел – а они всё друг на дружку глядят, глаз не отводят. Эво што… думаю, любовь… И мне-то как весело стало… Утром умываются у ручья, смеются. Этот самый из котелка чай мой пьют, хлеб едят. Ходил, достал молока им да яиц… Вот тут, в ивняке, сидят, книжку читают. А то уйдут далече, по полям… Вот ведь какая любовь в них, любо смотреть. Господь Праведный эдакую-то любовь посылает.
А в Сумарове беда. Барин – муж – всех созвал, и городничего, и станового, и духовенство, и все думают, как бы изловить ее, барыню-то, куда делась? Из дворни мне один говорил, кухонный мужик:
– Барин-то десять тысяч дает, штоб нашли, показали, где она, барыня. Не видал ли кто?
«Эх, – думаю, – не узнали бы. Надо будет им сказать». А уж осень. Стужа. Дело к зиме. Как быть? И говорю им:
– Я пойду на погост. Меня псаломщик звал – ульи собрать. Да послужить ему по дому. Прокормлюсь, а вы, господа, здесь живите.
– Скажи, дед, – говорю я, – а как же лошадь-то, куда ж он ее дел? Он ведь верхом приехал?
– Вот, постой, што вышло. Лошадь он оставил в овражке, што и ты. Расседлал ее и узду снял. Ну и пустил. А она и рада – ходит себе и воду пьет. Куда ушла – и невесть. Он ее бросил. Всё забыл. У него в голове она, барыня, была. Любовь… всё забудешь. Но только собрались они уходить. Простились со мной, и он денег дал мне. Чуть свет ушли из избы в тулупах, в валенках. Это я им всё купил. Далече ходил, чтоб незнамо было. И ушли. Вот скушно мне стало одному, без них-то. Деньги спрятал за печь, одежду наверх, а рубаху его, што осталась, возьми и надень. Пошел раз в Сумарово. Сижу у кухонного мужика, чай пью. А он глядит на меня, да и говорит:
– Рубаха-то на тебе господская.
Я говорю:
– Нет. Так это…
– Как, – говорит, – так? – И щупает рубаху. – Да это, – говорит, – чистый шелк. Откеле это она у тебя?
Он, эта, вышел да дворецкому сказал. Тот пришел, девка хоромная тоже пришла, щупают рубаху. Я уйти хотел, меду даю им.
– Пора, – говорю, – мне домой.
– Нет, постой.
Меня к барину ведут. Барин толстый такой, сердитый.
– Скидавай, – говорит мне, – рубаху.
Я скинул. А на ней метка. Читают: «корнет Кривцов». Вот те раз! Кто да што, где взял? Меня заперли в темную. Да ко мне сюда вот, в избу, начальство, обыск. Его рейтузы нашли, а на них опять – «корнет лейб-гвардии Кривцов». Сапоги старые – а на них шпоры. Беда!
– Говори, – кричит, – это што? Где он, отвечай.
Я всё исправнику начисто. А он мне и говорит:
– Вот што. Не говори нипочем, когда тебя спрашивать будут. Пропадешь и ты, да и их жалко. Значит, говори, что нашел. – А сам пишет всё в бумагу.
Привели меня в дом. Много начальства, и сам барин сидит. А исправник докладывает:
– Ты говоришь, што увидал лошадь и у лошади нашел штаны, рубашку, куртку?
– Да, – отвечаю, – у лошади.
– И седло тоже?
– Да, и седло. – Вру, как и он.
– И самого видел, как он бежал? – спрашивает исправник-то.
– Видал, – говорю, – далече уж.
– Што ж он, без рубахи и штанов, голый, значит? – кричал барин.
– Да, надо полагать, – говорю я.
– Ну, а барыня-то с ним, тоже голая-то, што ль, дурак?..
– Уж этого я не знаю. Не видел.
– Ну а сумочка-то откуда у тебя?
– Нашел… Да кто знает… время много, забыл…
– Но постой, дурак. Барыня была с ним? Ты узнал – это была моя жена?
– Нет, не узнал, – вру.
– Ну, ступай!
И отпустили меня. Пришел я домой, поглядел за печь – денег нет. Думаю – слава те, Господи. Хорошо, што денег-то нет, а то б пропал.
– Ну, что ж, так ты больше про них, дед, и не слыхал?
– Не слыхал… А барин в Питер уехал, дом заколотил. Много прошло время… Только раз, по весне, смотрю в окошко и вижу – странник-монах с палочкой, так, с проседью человек, и котомка у него на спине. Наклонился вот здесь, у ручья, и воду пьет. Я вышел. Он посмотрел на меня и говорит:
– Здравствуй, Дмитрий.
Меня-то Дмитрий зовут. Я гляжу. Э, да это Алексей Михалыч, этот самый барин, корнет. Он подошел ко мне и обнял меня. И на глазах его я вижу слезы.
– Чего ты эта, Алексей Михайлыч, монах? А барыня?
А он говорит:
– Вот тут она ходила… – и заплакал. Нагнулся низко и поцеловал землю у порога…
Я оседлал лошадь. И поехал. Поздно… Далеко стелются ровные поля, пропадая во мгле ночи. Как щит, вышла торжественно-красная луна. От топота копыт с треском вылетел стрепет…
Сом
Серое небо. Ровными рядами идут синие тучи. В свежести воздуха и в запахе дыма от овинов что-то бодрое входит в душу. В саду у меня пожелтели листья клена и легли на деревянную лестницу террасы. Ровно стоят стога скошенного сена по лугу. Черной стаей грачи перелетают по сжатому полю. Свежий день. Собака моя, Феб, смотрит на меня.
– Пойдем на охоту, Фебушка, – говорю я.
Феб прыгает в радости, и вертится, и лает. Надеваю большие сапоги. Феб в радости фурчит носом и кладет лапы мне на колени.
– Ну, пойдем, пойдем… – говорю я собаке. – Постой, ты мне мешаешь.
Воздух, как струя живая, наполняет грудь. С проселка я перехожу сжатое поле, спускаюсь вниз под горку. С краю бугра краснеют кусты рябины и, перелетая, трещат дрозды. Внизу, в кустах ивняка, видны желтые мелкие камушки ручья. Быстро бежит вода. И как она чиста! Останавливаются глаза, и смотришь почему-то долго на дно ручья.
Иду у заросших кустов, среди них видны бочажки. Впереди бежит Феб, вижу вдруг – он отскочил от воды. Я подумал: «Должно быть, змея…» – и пролез сквозь кусты посмотреть. В круглом небольшом бочаге плеснуло у самого берега. Что-то странное я увидал – точно большой мешок в темных пятнах ворочался в воде, у самого берега. Половина мешка ушла под берег, и чудовище вертело широким, как лента, хвостом.
«Сом, – подумал я. – Из реки зашел».
Я опустился и ногой в сапоге толкнул его. Сом повернулся в омуте. На огромной голове – белые маленькие глазки в упор смотрели на меня.
– Откуда ты пришел, леший? – сказал я.
Он, повернувшись, опять ушел под берег. Ручей был мелок – как он мог попасть туда?
«Вот, – думал я, – приедут приятели мои, буду показывать сома».
Отойдя от ручья, пошел по берегу. Ручей переходил в болото. Высокая трава на кочках, а вдали, среди кустов, блестела вода реки. Ноги вязли в болоте всё глубже и глубже. Феб, вертя хвостом, шел впереди, подняв голову, причуивал. Повернулся и стал. «Далеко», – думаю. Пошел к нему. Невозможно – глубоко, едва вытаскиваю ноги. Холодная вода наливается в сапоги. Ближе и ближе подхожу к собаке. Феб стоит как вкопанный. От самой его морды вылетает дупель и, раненный, падает за речкой, у старого брошенного сарая.
Под ногами качается земля, и тонут ноги. Выбирая места, где гуще трава, я пробираюсь к берегу. Неожиданная радость: с правой стороны вижу рыбацкий челн у реки. Он полон воды.
– Феб, – говорю я, – там, там, дупель, достань, там! – показываю на ту сторону реки. – Достань.
Феб смотрит на меня и плывет по реке, нюхая воздух.
Надев ружье на шею, я тяну челн на берег, покачивая его набок, – вода льет из него. Вылив воду, опять толкаю его на реку и сажусь в него. Куском шеста отталкиваюсь от берега и гребу им скоро-скоро. Но вижу – быстро в старый челн набирается вода. Доеду ли до берега? Уж близко.
Вдруг челн опускается носом в воду, и я опускаюсь вместе с ним. Холод. Держусь рукой за край челна и гребу. Вот берег, у берега глубоко… Хватаюсь за траву, вылезаю. Ремень от ружья на шее душит. Ух, как холодно… Только спина почему-то сухая.
На берегу Феб держит во рту дупеля и ходит кругом меня, как-то особенно разводя от удовольствия карие глаза. Бегу в сарай. В углу навалено немного сухого сена, достаю из кармана коробку спичек – мокрая. Открываю коробку. Не зажгутся. Еще в ягдташе коробка новая, там спички суше. Но обо что зажечь? Край коробки сырой. Беру в сарае кусок сухой палки и тру о бревно. Тру долго, пробую – согрелось дерево. Прикладываю к теплому месту край коробки… Озяб ужасно, зуб на зуб не попадает. Снова тру и тру палку. Выбираю спичку посуше – не зажигается. Выбираю другую – вспыхивает огонек. И я зажигаю сено. Отделяю горящее, подкладываю. Какая радость!
В сарае горит костер, кашляю от дыма, кладу щепы, палочки, бегу к кустам, ломаю сучья можжевельника… Окостенел, дрожу весь. Раздеваюсь и голый бегаю за хворостом. Уж около сарая тоже горит костер. Греюсь у самого огня – грудь, коленки. Тепло. Только спина как лед.
А Феб всё приносит мне того же дупеля, кладет передо мной и смотрит на меня в недоумении. Сушу платье, но оно такое мокрое.
«Захвораю, – думаю я, – воспаление легких…»
И кладу на самый костер штаны, куртку. От них идет пар, а потом и дым. Тлеют края…
«Черт с ним, – думаю я, – пускай горит».
Надеваю на себя почти горячие штаны и куртку. Как-то сразу становится лучше. Чувствую себя человеком. Вдруг вспоминаю сома, который в омуте. Ничего ему! – в воде всегда, и зимой сидит.
Сом, я тебя выпущу в реку, а ты помолись за меня своему богу…
Рубашка высохла, хотя наполовину сгорела. Но замечательно в рубашке. Рубашка необходима человеку.
Как-то в Москве зимой, вечером, в компании друзей, кто-то сказал про одного знакомого: «В тихом омуте черти водятся». И вдруг вспомнил я деревню, лето, ручей и тот бочаг, где я видел сома, которого хотел выпустить в реку на свободу.
Я рассказал о чудище приятелям своим, охотникам, и они решили поехать в деревню ко мне как-нибудь на праздниках, и того сома достать из бочага.
Рождество. Всё занесло снегом.
Долго искали бочаг по ручью, но по кустам я узнал место. Клали доски и разбивали пешней лед. Очистили весь омуток, опустили туда сеть и наметку, водили ими в воде, но сома не было.
– Ушел в реку, – говорили друзья. – Или ты сказал кому, его и поймали.
– Нет, я в тот же день и уехал. Никому не говорил.
– Где же он?
– Ён тут, – сказал хитро охотник-крестьянин Герасим, – в норе, под берегом. Постой, я постукаю.
И Герасим, взяв пешню, стал стучать кругом по берегу омута. В омуте что-то закачалось – и сом показался на поверхности.
– Бей его пешней! – сказал кто-то.
– Нет, нельзя, нельзя! – закричали все.
Наконец сома поймали в сеть, и мы все несли его на реку к проруби. Он мгновенно пропал в воде.
Возвращаясь с реки в дом, почему-то все мы испытывали приятное чувство – вот отпустили сома на свободу. Как такому чудищу жить в маленьком бочаге, пусть живет на приволье, в реке.
Как-то летом, утром, я шел под бугорком у ручья и зашел, пробираясь кустами, посмотреть тот омуток. Сел на бережок, смотрю на воду и задумался. Вдруг вижу: наверху воды показалась широкая плоская голова сома. Она медленно двигалась к листьям купавы, на которых сидела зеленая лягушка. Сом брызнул хвостом по воде и пропал.
– А мы-то старались, – сказал я, – тебя отпустить на свободу! А ты опять здесь? Удивленье…
При встрече с друзьями я рассказал им, что сом-то с полой водой опять вернулся в маленький омуток. Все удивлялись, находили это странным.
А охотник-крестьянин Герасим Дементьевич, смеясь, сказал:
– Чудно! Чего, нешто он дурак какой. Ему, поди, чай, годов-то сколько. Ишь он какой здоровый. Он знает, где ему лучше, где сытней. Тута он в омуте, у болота, лягушек ест. Ишь он толстый какой! Вы его жалеете, на свободу пускаете, а она ему пошто? Ему в яме-то лучше нравится…
Гусиная охота
Сентябрь. Дождливые дни. С утра всё небо белое, ровное, будто смыто. И моросит мелкий дождик. Деревянная терраса дома моего – мокрая, потемнелая. На ней намело много желтых листьев с клена. Зеленые сосенки покрыты, как бисером, каплями дождя. Тихо, не колыхнет лист. Всё дождь и дождь… Целый день.
Закутанная в большой платок, подобрав высоко платье, в мужских сапогах, вся промокшая, пришла тетенька Афросинья с большой корзиной. Корзина полна грибов, груздей, рыжиков. Вынимает их на кухне, раскладывая на столе.
Приятель мой, Василий Сергеевич Кузнецов, умывается у крыльца. Ему мой слуга Ленька поливает из ковша воду на руки. Тот плескает воду себе в лицо. Лицо такое красное, сердитое, глаза желтые. Он серьезно смотрит на меня и кругом. Полотенцем, обшитым внизу красными петушками, вытирает лицо и шею и говорит:
– А у вас барометр показывает «ясно»… Хорошо «ясно» – третий день дождь лупит. Испорчен ваш барометр.
– Испорчен? Ты же сам всё время стучишь по нему, да и доктор Иван Иванович…
– Стучим, стучим! Что ж он, стрелки не ворочает: дождь лупит третий день, а он всё на «ясно» стоит…
– Вот, – говорит мой слуга Ленька. – Афросинья за грибами ходила, говорит, что у Никольского поля, у реки, гуси дикие сидят. И-их, сколько.
– У Никольского поля? – мгновенно загорелся Василий Сергеевич. – Это недалеко. Вот что… Довольно чаями заниматься, едем. Я возьму картечь, ваш художественный зонтик. Ступай, скажи, Ленька, Феоктисту, чтоб запряг телегу.
– Ванька, – обернулся Василий Сергеевич к доктору, – едем на Никольское поле… Ты зайдешь из-за лесу и гусей на меня погонишь. Понял? А я их картечью – «раз, раз!». Хорошо гуся – они теперь жирные.
– Ладно, – соглашается доктор, – едем. Только ты меня не ахни картечью. Горяч очень… Дурацкое-то дело не хитрость…
Оба приятеля, сидя в телеге с большим моим художественным зонтиком, ехали на Никольское поле. Кузнецов, одетый в непромокаемую накидку, в большом зеленом картузе; доктор в тулупе, чтобы не промокнуть. Дождь лил не переставая.
– Ружье-то у тебя заряжено? – спрашивает доктор доро́гой Кузнецова.
– Нет еще, надо зарядить.
– Не надо, погоди. Потом зарядишь.
– Когда потом, вон уж поле видно.
Выезжая из-за леса, Феоктист остановился и говорит:
– Эвона, глядите, гуси-то у речки на лугу ходют.
– Ну, – говорит Кузнецов доктору, – теперь заходи сбоку, от кустов, а я отсюда к ним полезу…
Доктор вышел из зарослей и, замахав руками, закричал. Гуси побежали по берегу и, растопырив крылья, летели на бегу, не поднимаясь от земли, прямо на Василия Сергеевича. «Раз-раз!..» – раздались выстрелы. Гуси бросились в сторону, в реку, и, хлопая крыльями по воде, скрылись в зарослях камышей. Один гусь лежал на берегу убитый.
Василий Сергеевич торжественно привез гуся. Гусь был большой и белый. Странно только: у дикого гуся серые лапы, а у этого были желтые.
– Не домашний ли гусь? – спросил я.
– Бросьте ваши штучки! – ответил обиженно Кузнецов. – Я его влет – «раз-раз!».
– Положим, не влет, – сказал доктор Иван Иванович, – они бежали, я их пугал. А то бы…
– Ну, довольно. «Домашние», «домашние»!.. А орали как – слышно, что дикие!..
– Я их как погнал, – не унимался доктор, – так они от меня ходу… Будь у меня ну что-нибудь, ну хоть бы полено… я бы двух сшиб!
– Дикие, значит, – сказал Ленька, смеясь.
– А ты чего еще? – сердится Василий Сергеевич. – Что тут смешного?! Знаете, вы так, Константин Алексеевич, Леньку распустили… во всё лезет, где и не спрашивают! Это невозможно.
Жареный гусь с капустой был замечателен. Василий Сергеевич, одетый в рубашку, сам разрезал его, наточив большой нож, и всем раскладывал по тарелкам.
– Хорош гусь. Ну и гусь. Эх, жирен!.. – говорили все.
– Чисто домашний… – сказал Ленька.
– Вот! – вскочив и бросив вилку, крикнул Василий Сергеевич. – Вот до чего распустили этого олуха!
– Откуда здесь домашний? – примирительно сказал сосед-лесничий. – Нешто только генеральши из Гарусова, да далече до Никольского луга – как они придут?
– Не серчай, Василь Сергеич, – сказала тетка Афросинья. – А вот пошто у тебя лицо-то синим пошло?
– Верно, – говорю я, – уши что-то у тебя синие. Я думаю, озяб на охоте, промок от дождя.
Встав и посмотрев в зеркало, Василий Сергеевич сказал:
– Не понимаю… странно… Ванька! – обратился он к доктору, – что такое?
Доктор Иван Иванович снял с шеи салфетку, подошел к Кузнецову, пощупал пульс, вынул из кармана часы и, жуя гуся, посмотрел ему в глаза:
– Пустяки. Пульс отличный… – Он опять сел за стол, налил настойки, выпил и сказал: – А хорош гусь, надо сказать охотнику спасибо.
– Верно.
И все выпили, поздравляя Василия Сергеевича с полем.
– Лапы-то желтые и у диких, конечно, бывают… – вставил опять Ленька.
– Вот слышите: он опять!.. До чего обнаглел!
Василий Сергеевич вытер лицо салфеткой. Что за притча? Салфетка позеленела… Он побледнел и, показывая салфетку, растерянно сказал доктору:
– Что ж это, Ваня? Что ж это такое, погляди?..
Доктор в изумлении посмотрел на салфетку, потом на Кузнецова, подвел его к окну, поглядел ему в лицо, пощупал пульс и посоветовал выпить стакан анисовой водки.
– Это оттого, что ты серчаешь, Василь Сергеич, – утешал Феоктист. – Пущай ежели и домашний гусь. Ишь, всего съели! И слава Богу, и на здоровье. Чего серчать?..
– Дался им этот гусь! «Домашний»! «Домашний»! Вот этак в Москву приедешь, в кружок придешь, каждый будет спрашивать: «Расскажи, как домашнего гуся убил…» Нет уж, извините, это не пройдет… – И он опять вытер салфеткой лицо.
– Что такое? – удивлялись все.
– Вот до чего вы доводите меня! – сказал Кузнецов.
– Да ведь это ничего, это картуз линяет… – равнодушно проговорил Ленька. Принесли мокрый картуз; действительно – с картуза капали зеленые капли.
Наутро погода разгулялась. Из-за утренних туч светило солнце. Барометр верно показывал на «ясно».
В осеннем утре есть своеобразная бодрость. Хороши эти смены природы. Всё так и надо: и ненастье с дождем, скукой, грязными дорогами, верстовыми столбами, и после стужи, дождя – теплый дом. И как-то сильней дружба, рад человеку… Хороши смены природы русской.
– Барыня приехала из Гарусова, – войдя в комнату, сказал Ленька.
Вася поспешно схватился за свою охотничью куртку, доктор торопливо стал напяливать сюртук. Я пошел в переднюю встретить приезжую.
Барыня из Гарусова была небольшого роста светлая блондинка, полная, с добродушным лицом. Она ласково сказала:
– Вот… простите… заехала к вам… думаю, заеду, хотя и не знакома – дальние мы соседи. Мы-то зимой в Ярославле живем, а по летам сюда приезжаем.
На руках у ней были кружевные митенки. Ручки пухлые, в кольцах.
– Вот слышала я, – продолжала она, садясь за стол, – что вы охотники хорошие, живете здесь. Я к вам насчет гусей своих.
Василий Сергеевич насторожился.
– Гуси у меня ушли по реке кверху по болоту… Там всё чередой поросло, заросли… Их назад не пригонишь. Там и не пройти никому. «Как быть? – думаю. – Поеду, – думаю, – попрошу охотников, может, они их застрелют, так уж пополам поделим… половину мне и половину охотникам». Их десятка три есть. Гуси хорошие… До заморозков их и не найти. А тогда мужики поймают, перебьют…
– Позвольте, сударыня, – обиженно сказал Василий Сергеевич. – Бить домашних гусей я лично на себя взять не могу! Никак! Да-с. Они – это уж их дело. Как хотят, а я стреляю только диких…
– Вот как… я не подумала… я не хотела вас обидеть…
– Ну хорошо, – смягчился Василий Сергеевич, – только для вас. Но дайте расписку: «Я, нижеподписавшаяся, поручаю застрелить своих гусей, и прочее и прочее».
– Домашних-то?.. – опять некстати сказал Ленька, – их просто… Их позвать «Тега-тега-тега…» – ну и стреляй!..
– Да уходи отсюда! – сердито заревел Василий Сергеевич. – Черт!
Долго писали расписку. Василий Сергеевич диктовал в соседней комнате. Слышно было: «Я, нижеподписавшаяся, вдова действительного статского…» Потом: «Загонщик, клинический врач, доктор медицины Московского университета…»
Наутро Василий Сергеевич приказал Феоктисту запрячь тарантас. Серьезно смотрел в большой бинокль.
– Диких бы не убить, – говорил доктор, – она не возьмет…
– Да, верно… – задумался Кузнецов.
Наконец собрались с доктором и поехали, а к вечеру вернулись мрачнее тучи. Нет гусей нигде…
Позвали охотника-крестьянина Герасима Дементьевича, тот говорит:
– Много гусей летит, выводки, должно быть, большие были. Только где их найдешь? Трудно ведь взять-то, они сторожкие, дикие, не подойдешь.
– А я дикого убил… – упрямо сказал Кузнецов.
Вечером прибежал Ленька, задыхаясь.
– Скорей, идите! Гуси, и-их много! Все у сарая, здесь недалеко сидят…
Наскоро собрались охотники, схватив ружья.
– В ответе бы не быть… – сказал Герасим.
– Что ты, вот расписка! – кричит Кузнецов. – Без дураков.
Чудно́… – смеется Герасим. – Никогда домашних бить-то не приходилось…
Из-за старого сарая, ползком по траве, охотники пробирались кустами на берегу реки. Раздались залпы выстрелов. Восемь гусей остались на месте, и у всех лапы желтые. А через часок приехал верхом из Гарусова молодой человек, студент, племянник блондинки. Привез в подарок гуся и передал письмо:
– От тети.
Тетя писала, чтоб мы не беспокоились, так как гуси все, за исключением одного, вернулись домой.
– Теперь кто прав?! – торжествующе спросил Василий Сергеевич, прищурив один глаз. – Кто? Гуси-то дикие! А вы говорите – желтые лапы.
– Я это гляжу, – не ко времени вдруг прорвало опять Леньку, – вижу, они на реке-то далеко. Я их из-за сарая: «Тега-тега, тега-тега», – а они и подплыли…
– Слышите, что говорит? А? И откуда вы достали такого остолопа? Хорош слуга! – сердито вскричал Василий Сергеевич. – Всю охоту, всю радость жизни портит! Куда деваться от этого сукина сына?!
Герасим лукаво покосился на него и как бы про себя сказал:
– Чьих же это мы ухлопали?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































