Текст книги "То было давно…"
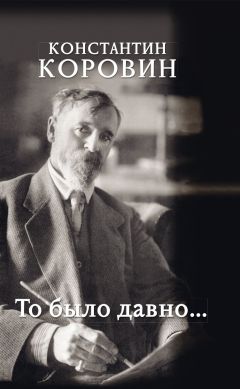
Автор книги: Константин Коровин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Любители живописи
Помню, в России, когда наступали теплые дни весны и лета, мои приятели-художники всегда писали в природе с натуры этюды, а я писал и картины: пейзажи, цветы, фигуры среди окружающей природы. Проходящие и проезжающие мимо интересовались, что это делает человек, сидящий под зонтиком, – перед ним белый холст, который он замазывает красками.
Подходили, долго смотрели, а многие останавливались передо мной и так пристально, прямо в упор глядели на меня. Бывало, я просил их: «Посторонитесь, если можно. Вы загораживаете, я это вот место списываю».
– А чего это? – спрашивали озабоченно и угрюмо.
– Планты снимает, знать, машина здесь пойдет?
– Куда пойдет-то?
А то мужики говорили тревожно, что, знать, землю назначено отбирать.
Но были и такие, более сметливые, которые объясняли другим:
– Чего планты… Не видишь, нешто, бугор списывает. Вот кусок-то желтый – песок. А это вот лес. А наверху небо… Вишь, тучи идут.
– Чего бугор… А почто? Станет он бугор списывать, на кой он ему, песок-то… Это, знать, он лошадь сымает, Сергеева жеребца.
Смотрели…
Вот теперь, здесь, в половине мая, после дождей и весенних холодов, когда заблестело приветливо солнце, поехал я в Сен-Жермен.
Я видел там красивое место и запомнил его. Поехал.
В зеленом овражке, от дороги прошел тропинкой вниз и нашел место, где устроился писать.
Невысокие стены каменной загородки, за которыми возвышается прекрасный сад с чудесными формами дерев. Сад в молодой весенней зелени. Узоры ветвей кладут голубые тени на светлый домик в саду, на его пестрые жалюзи. Эти тени среди блеска солнца весело играют переливами фиолетовых тонов. А над домом клубятся облака на матовом синем небе.
Вот это-то я и начал писать, торопясь поймать облака и разницу цветов дома и зелени.
Трудно. Всё быстро меняется, а формы так тонки, требуют внимания. Я писал широкими кистями облака и, торопясь, уже наметил красноватую калитку и часть зелени, когда увидел, что слева, с большой дороги, по тропинке спускаются ко мне два типичных француза, оба небольшого роста, хорошо одеты, в синих костюмах.
Оба кавалера средних лет – у одного шляпа канотье – подошли ко мне и сели сзади на травку. Я писал, они молча смотрели.
Вдруг один из них заговорил… по-русски:
– Смотри, что делает. Дома-то надоело, так наружу вышел.
– А что он пишет? Не поймешь.
Помолчав, другой ответил:
– Как – чего пишет, не видишь, что ли: пароход. Вишь, труба красная и дым идет.
– Как – пароход. Чего же?.. Здесь и реки нет, и воды никакой.
– Это верно, воды нет. А ему что. У него синяя краска наготове, он реку-то дома накатает!
– Не поймешь. Тут ведь это что?.. Непонятно… У нас, бывало, помню, ясней писали. Всё видать, а здесь, у французов, чего это: намазано туда-сюда. Это всякий может. Дай мне краски, и я этак нашпарю… У нас придешь, я помню, на Передвижную, всё отделано как есть. Забыл я, как художник-то этот? Картина большая такая, называется, кажется, «Домашний портрет», там была барыня написана али девочка, у ней на руках кукла. Кукла хорошая, большая. Так на подошве-то у куклы номер вдавленный – так вот прямо как живой написан. Я и близко смотрел, и издали… Удивление, до чего верно: тютелька в тютельку. Добросовестность была. А это чего? Понять невозможно. Смотри, смотри, ишь мажет. Наскоро работа. Не старается ничего. Не может гладко-то выводить.
– Чудно ты говоришь, постой, – перебил его приятель. – Я ведь в живописи понимаю кое-что. Самую эту декотировку он будет дома делать. Ведь это видать: он эту местность списывает, и непонятней, нарочно чтоб было. Потому картина, которая в глаза лезет и всё понятно, – цена не та. Это всякий знает… Тут, брат, нужно с заковырой, знатоком быть, чтобы разобраться. Дело это трудное. Я видал картину – тоже не поймешь ничего, а хорошо. Справился, цена-то – ан, на-ка, тридцать тысяч. Вдвое меньше этой, ей-Богу. За что-нибудь берут же деньги…
А вот что с Владимиром Григорьевичем недавно было. Купил он, значит, квартиру. Квартира во втором этаже. Хорошо… Шесть комнат, два кабинета да туалет, ванна. Ну, отвалил денег кучу. У него хлопок где-то застрял, он за него деньги-то и получил. Да ты знаешь его. Он в Москве с Пекиле жил. Она тоже вроде иностранки… У ней в Ялте дом был. Женщина серьезная, толстая… Ну, он на ней и женился. Женщина умная и во всем понимает. И в живописи тоже. Ну, квартиру-то обставлять она взялась. То шкаф купит, то кушетку. Мебель хорошую покупает. А в большой гостиной, над диваном, он решил картину повесить и сам поехал покупать. Купил. Рама золотая, шикарная. Картина большая.
Получил я письмо, пишет, приезжай. Ну, я приехал, он мне и говорит: «Вот что. Ты ведь в живописи понимаешь, я помню, ты на выставки ездил, картины покупал. Так вот скажи, какая штука вышла. Купил я вот эту картину, хочу Генриетте угодить. Но вот какая история: как вез я ее из магазина, привез домой, а где у ней верх и где низ, забыл дорогой. Вот скажи, что это будет? Вот это голубое – небо, что ли?» Я смотрю на картину, понять ничего невозможно, спрашиваю его: «Что такое изображает, не пойму?» «Как – не поймешь? Мать кормит ребенка». «Да неужели, – говорю. – Ноги видать несколько, а ребенка нету. – И говорю ему: Зачем же вы, Владимир Григорьевич, такую картину берете, вам бы попонятнее купить». А он в ответ: «Вижу, много ты понимаешь. Мне, брат, показывали картины разные. Только эта, говорили, лучше. За нее я шесть тысяч отдал, а через год-два шестьдесят стоить будет. А потом может до шестисот долезть. Мало ли – что неясно. Жаль, что вот ребенка не видать. Ее лучше просто называть “Мать”». «Вот, стой, – я говорю. – А подпись-то слева вбоку: это, значит, низ».
Он так и повесил ее на стену, в таком положении.
Только потом он опять мне пишет: «Приходи обязательно сегодня обедать». Ну, я приехал. Генриетта Ивановна сердится. А он ей прямо показывает на меня. «Вот это он научил меня, – говорит, – повесить так». А она мне: «Посмотри, мой-то дурака картину верх тормашка повесил. С ума сошла. Это вот мамаша наверху, а здесь он внизу лежит. Совсем не карашо».
Ну, через недельку гостиную обставили и назначили заседание деловое и еще какое-то Объединение. Только заседание, значит, идет, а все на картину глаза пялят. Тот говорит одно, другой – другое. Спорят. Ссорятся даже. А один присяжный поверенный, знаток в картинах, хвалит картину. Только, говорит, не так повешена. Вот тут и разбери.
Ужинали, весь вечер про картину говорили. «Если, – говорит один, – вам картина не нравится, давайте меняться. Хотите, я вам, – говорит, – за нее другую дам: у меня есть картина “Буланже верхом” или Айвазовского – корабль тонет…» Согласился он меняться, взял «Буланже». До чего же рассердилась Генриетта Ивановна! «Не хочу, – говорит, – чтоб в квартире у меня на лошадях скакали!»
Тут другой перебил приятеля:
– Смотри-ка… Видишь – ты говорил – пароход… Ведь это он дом соседний списывает. Вон, видишь, – калитка. Всё ясно становится.
– Ну дом как дом. Только то скажи, зачем это он дом списывает, кому такая картина нужна? Кто купит? Мне даром не надо. Зачем я на чужой дом буду у себя в квартире глядеть. Надо ему сказать. Зря время теряет…
– Ну что ты, разве можно. Ему заказали, наверно, а то разве он стал бы… Поди, за картинку-то содрал немало. Гляди-ка, он старый. Что ты его учить лезешь.
– Давай спросим у него, что стоит картина.
– Что ты, неловко.
– Картины, картины… Ну их к бесам. Скоро двенадцать… Поедем-ка завтракать. Икорки спросим.
– Помню я, у меня была картина Волкова. Эх! И картина хороша. Вот в такую пору, вроде как по весне… У окошка сидит такой человек, вроде как тоже не поймешь, кто – но сюрьезный из себя. Сидит один в трактире и гольем водку пьет, закуски никакой. Картина называется «Не дело». Так я ее в конторе повесил, где счетная часть была, чтоб понимали, что можно, а чего нельзя… Без закуски. И всем картина эта нравилась, до чего…
– Смотри-ка, совсем ясно становится. Ишь ты, как он это кисточкой-то. Только одно, по-моему, глаже писать надо. А что, если ему сказать? Скажи-ка ему, ты умеешь.
– Да что ты! Он еще к черту пошлет. Художники ведь они народ особенный. Не от мира сего…
– Ну, пойдем; есть хочется.
– Смотри, видишь, как он живо небо-то перекрашивает. Кто знает, может, он какой-нибудь ненастоящий.
– Настоящий, ненастоящий, а я вот что думаю: в свободное время я тоже куплю все эти инструменты, краски, кисти, масло, холст и накатаю картину…
И любители живописи отправились завтракать.
Недоразумение
Я долго хворал и не выходил. Доктор говорит:
– С правой стороны у вас уплотненьице в легком, выходить нельзя. Небольшая температура.
Тоска. Ночью не спится. Почитаешь газету – еще хуже.
Получил письмо. Читает его мне мой приятель Коля Петушков:
«Многоуважаемый и дорогой. Я еще из Москвы помню вас. Помню, восхищался картинами, и была у меня ваша картина “Розы в Крыму” – синее море и розы. А по морю несется парус одинокий. Мятежный, ищет бури. Ну, я в самую бурю и уехал. А теперь – ура! – вы писатель. И мы все читаем – как вы описываете природу, охоту, тетушку Афросинью… А я охотник. И вот что – если у вас в воскресенье есть свободный денек, приходите ко мне отдохнуть. Буду рад; расскажу вам про охоту, и я уверен, что вы всё опишете. В убытке не будете. Все мы – я, жена и две дочери мои взрослые – будем вам рады. Посажу вас на диване, дочери мои – музыкантши: одна – на рояле, другая – на скрипке. Послушаете – утешитесь. Забудем, что мы в изгнании, и будете себя чувствовать как в Москве».
Прочитав мне это письмо, мой приятель Коля Петушков, тоже москвич, сказал:
– Вот хороший человек тебе пишет. Видно, что москвич. Широкая душа. Надо, знаешь, ответить. Живет как раз на той же улице, где и я. Здесь, у Порт Сен-Клу.
– Ну что писать, – говорю я, – раз поблизости, зайди. Скажи, что я болен, а если к весне поправлюсь – зайду.
– Ну что ж, хорошо, – согласился приятель, – зайду. Пойду, дочери-то у него здесь кончили консерваторию. Я-то ведь музыкант. Может быть, послушаю, как играют.
– Вот и хорошо, – соглашаюсь я.
Через неделю пришел опять меня навестить мой приятель Коля Петушков и между прочим поведал мне, что был он у этого москвича, и вышла такая история, что он и не знает, как мне ее объяснить.
– Иду это я и вижу – № 31… Постой. Тридцать первый – это тот самый, где живет этот москвич, который писал тебе письмо. Думаю – дай зайду. Скажу, что ты болен. Неловко как-то – уж половина восьмого, обед.
Поднялся по лифту – звоню. Отворяет дверь полный человек.
Говорю:
– Вот письмо ваше, вы писали Коровину…
– Дорогой! – закричал полный человек. – Дети! Вот он!
Показались девицы, жена, гости.
– Вот он! – И, схватив меня за шею, он стал обнимать и целовать, говоря: – Вот пришел, вот утеха, вот он – двойной талант! Россия дышит. Читаем, дорогой, читаем. Рады, пришел. Раздевайте его.
Дочери, ласково улыбаясь, стягивали с меня пальто.
– Вот, позвольте, должен вам сказать, объяснить, что болен…
– Раздевайтесь, раздевайтесь, мы вас вылечим, – кричат кругом.
И какой-то веселый гость тащит меня за руку в столовую:
– У нас разговоры короткие… Алексей Константинович сейчас специальную достанет бутылку. Секретная. Вино первый сорт. Реймс. Старая бутылка. Покоряйтесь, дорогой, а то обидите.
Полон стол. Чего только нет: пироги, пулярки, икра. И гости за столом.
– Вот приехал, – грохочет хозяин, – вот он!.. А вот и бутылка, – показывает он, – берег…
– Позвольте вам объяснить… – пытаюсь вставить слово.
– После, после. Вот он написал – была у него собака Феб. У меня тоже: был Феб. От Томов – английские собаки. Так, когда я читал, как хоронили собаку, Наташа плакала, – он показал на жену.
Наташа встала и подала мне руку. Очень почтенная особа. Я поцеловал у нее руку.
Выпив рюмку водки, хозяин мне налил другую и возгласил:
– Надо равняться, потому Наташа именинница, и как хорошо, что пришли. – Хлопнув пробкой из бутылки, он налил всем вина и сказал гостям: – Должен сказать, что он не только художник и писатель русский, но еще человек, который уважает москвичей. Знает календарь. Наталья – именинница, вот чем уважил – пришел.
И опять хлопнула пробка, и опять полилось вино.
– Говорили – старик. Совсем не старик, – он показал на меня гостям, – моих лет.
– Позвольте, – говорю, – дело в том…
– Бросьте, – говорит хозяин, – вам шестьдесят есть?
– Мне пятьдесят четыре…
– А мне шестьдесят стукнет, – говорит хозяин, – разница небольшая. Вы садитесь к ней и кушайте, – показал он на жену. – Вот, попробуйте, карп замечательный. Версальский. Знай, Наташа, ведь он рыболов. Мы с вами поедем ловить карпов. Хотя я не рыболов, я охотник. Когда читаю про охоту – плачу. И она плачет.
– Правда, – сказала хозяйка, – хоть вы и веселое пишете, а я плачу. Вспоминаешь нашу Россию.
Ем я карпа, а сам думаю: как быть? За тебя принимают. А они всё подливают. Говорю ему:
– Вот я попал в неопределенное положение.
– Наплевать, – говорит хозяин, наливая. – Мы все в неопределенном положении. Вы пейте. День прошел, и хорошо. Чувство, чувство надо. А вы-то кто? Вы человек чувства. Выпьем за чувство.
– И я пью за чувство, – воскликнула хозяйка, и на глазах ее показались слезы.
…И каждый гость нам послан Богом… —
запел какой-то брюнет. Все подхватили.
– «Чарочку»! – закричали кругом.
Запели «Чарочку», а дочери и их подруги подносили каждому чарочку. И мне.
Пели:
Выпьем мы за Костю. Костю дорого…
– Позвольте, – сказал я растерянно, выпивая чарочку.
Пей до дна, пей до дна… —
пели вокруг меня.
И тут я почувствовал, что «уравнялся», и подумал, что теперь уж ничего не объяснишь. Уж надо держаться до конца. Хорошо, что никто не знает. Всё больше молодежь.
Раздались звуки рояля и скрипки.
– Позвольте, – говорю я, – ведь это в миноре, а не в мажоре, диезов не надо! – И я, забыв свою роль, сел за рояль.
– Что за черт! – крикнул хозяин. – Он еще и музыкант!
Вдруг я слышу, сзади меня кто-то говорит:
– Это не Коровин! Коровин – старик. Это не Коровин.
– Как – не Коровин? Ты всегда делаешь истории. Всегда всё портишь. Надоело! – отмахнулся хозяин…
«Скандал, – подумал я, – скандал. Пора домой».
Встал из-за рояля, отозвал хозяина в другую комнату и говорю ему:
– Я ведь нездоров. Мне пить нельзя. Я должен уходить, а то буду завтра болен.
– Вздор! Ничего не будет, потому – радость. Начало всех болезней – тоска. Это мне сказал великий Потэн. Вино необходимо здесь. Климат! Понимаете? Климат! Разлагает сталь. А вино – иммунитет. Понимаете?
Он потащил меня опять к столу пить.
– Довезем, – говорит хозяин, – не бойся. Понимаешь, дорогой, ты не думай. Тут брат, есть такие… – и он как-то мигнул глазом, – которые против тебя. Вот он, – показал он в сторону. – Он такой, знаешь, сомневается.
Я, прощаясь, одевался в прихожей. Уже светало. Все провожали.
Спускаясь по лестнице, я остановился и крикнул, что я не Коровин, что ты лежишь больной, и выбежал на улицу.
– Вот попал в какой переплет, и всё из-за тебя, – закончил приятель, – положение мое ведь было пиковое, подумай!
– Пиковое? Почему пиковое? Тебя угощали, пил хорошее вино, веселился…
– Да, вино. Ну а если б узнали? Неизвестно, что бы было. Хорошо веселье! Тебе что! Пишешь разную ерунду, а я должен страдать!
Любовное недоразумение
На краю Парижа, у площади и прежней заставы под названием Порт Сен-Клу, созданы прекрасные и оригинальные фонтаны. В окружающих площадь зданиях расцвели изящные кафе и магазины. Вечером эти фонтаны, каскады бегущей обильно воды, освещаются электричеством; окруженные сочной зеленью деревьев, они создают фантастический вид и оживляют площадь. Кафе наполняются к вечеру публикой, фонтаны веселят зрение.
За столиком кафе, под цветным широким зонтиком, сидят двое: один – толстый мордастый серьезный человек, а другой – худой и грустный; оба русские, москвичи. Один – бывший домовладелец и помещик из купцов – Бабенский, а другой – бывший помощник присяжного поверенного – Петушков.
– Да, – говорит помещик Бабенский, – вот фонтаны. Фонтаны хороши. Ишь, сколько народу понабилось, глядят. А чего? Хорошо, конечно, вода струится, и будто дальше глухой лес идет. А он не лес. Всё позастроено там. Это так кажется, в ночи. А днем не то. Кажется, будто там что есть, заманивает. А там всё то же: квартиры, бистро, тоже всё платить… Кажется, будто там она, такая живет – эдакая, настоящая, тебя ждет: приди к нам, витязь молодой, укройся в терем наш отрадный… Да… мечтаешь, а этого самого-то и нет. Того, что у нас было. У меня тоже… эх, и лес был, у Тарусы. Из Москвы поедешь, ну, за пятнадцать минут в машине – и попал как в рай. Дачи, дачницы были – ведь что за дачницы… В голове у каждого надежда была на любовь. Жизнь была. А потом всё – толчея вышла. Ух что началось… Ужас. Овдовел, жену потерял в Батуме: тиф и у ней, и у меня. Не видал и не знаю, когда ее и схоронили. Я хотя и толстоват, – сказал он, вздохнув, – но в годах еще таких, когда внутрь души женщина лезет. Прямо втыкается… Вот ведь что – не проживешь без них. А распутство это разное мне не по душе. Ищу вот уж сколько времени – нет ничего. Конечно, я не красавец какой. А всё же – жить-то одному тяжело.
– Как же это? – удивляется Петушков. – В Париже-то женщины не найти!.. Да что вы, Алексей Иваныч? Чудно что-то… Тут столько женщин, каких только нет. И русских сколько. Я удивляюсь, что это вы говорите? У вас всё же и средства еще есть.
– Небольшие средства, – ответил помещик. – Берегу, проедаю понемножку. Скажу вам откровенно из приязни к вам: ищу женщину, вот именно русскую… Все-таки душу родную хочется найти. Знакомился… Ничего как-то не подходит… Поговоришь, она сразу говорит мне с полслова: «Полгода за квартиру не плачено…» Деньги, все про деньги говорит. А одна мне сказала: «Вы, кажется, меня хотите от церкви отнять…» Что такое, думаю, я и не понял вовсе. А другая: «Вы меня от танцев отважить хотите…» А у ней свой танцор. Вот что тут поделаешь? А денег – давай. Я не прочь деньги, только за дело. А то – танцор, давай и ему. Это что ж такое, подумайте.
– Да… – соглашается приятель Петушков и, задумавшись, говорит: – Безобразие. Невозможно.
– Прежде, скажу вам, дорогой, было проще. Я помню, у нас там, в Москве: посватается, познакомится, и всё ладно выходит. Жена, дети – что надо. А теперь ужас – всё не то. Вот я вам скажу, что со мной выходит. Прочел это я в газетке объявление, изволите ли видеть, такое. Написано: «Энергичная молодая особа, приятного сложения, ищет друга, могущего противостоять ударам судьбы на жизненном пути». Согласитесь, объявление вполне приличное и разумное, заставляет задуматься. Я и подумал: дай попытаю. Но, скажу правду вам, сам один взять на себя не решился, боялся. У меня есть друзья, я к ним: так-то и так-то, хочу попытать, сам не решаюсь. Вот, говорю, надо посмотреть, поехать, узнать, в чем дело, – кто и что, какая из себя, воспитание какое, кто была раньше, русская ли.
Ну, друзья с удовольствием берутся. Всё, говорят, для тебя узнаем. Надо расходы, конечно. Деньги опять-таки. Ну, сто франков я для начала дела даю. Деньги, конечно, небольшие. Ну, значит, назначено свидание в кафе. Письменные переговоры вели, писали много. Назначено в кафе. Я как посторонний в кафе нахожусь, час-другой жду. Сижу, газету читаю, в газете дырку провернул, чтоб глядеть. Вижу – идут. Она впереди, приятели мои за ней. Она высокая, стройная, фигура… прямо вот статуя. С лица так несколько длинновата, губы покрашены, брови выщипаны до отказу, ногти, конечно, крашеные.
Сели они за столик, она кричит: «Гарсон!» Смотрю, гарсон несет сэндвичи и бутылку кальвадоса. Она рюмку, другую, третью, четвертую. Приятели не отстают. Пива – она «деми», а приятели – «кар». Вот, думаю… Она, смотрю, руками так и эдак водит, что-то кричит, спорит. Все встают. Ко мне подходит один – приятель, значит, и говорит:
Подожди здесь, скоро приедем, дай двести на завтрак, а то неловко – женщина светская, хорошей семьи. Подожди здесь. У ней в Полинезии канарейки выводятся, только управляющий мошенник. Она и ищет эдакого, чтоб сладить с ним мог.
Смотрю из кафе и вижу: они в автомобиль сели, поехали завтракать. Так я их и не дождался.
Утром на другой день ко мне пришли оба. Что такое: у одного глаз перевязан, а у другого по переносице царапина. И оба молчат.
Я вижу, что-то не совсем ладно. Спрашиваю их: «Ну что?» «Да вот, – говорят, – женщина ничего себе, только, верно, не в меру энергична и пьет. И фамилия вроде как нерусская – Фыр-Пец-Гольт…» «Да, пьет как пожарный, – говорит другой, – и притом очень на руки вольна…» «Только для тебя всё переносили, – говорят друзья. – Хотели испытать, верна ли будет тебе. Ну, она и разошлась… рукой… Вот мне у глаза, а ему на носу, заметь – царапина. Ну, видим, что не подходит. Фамилия тоже как-то нерусская…»
Ну, я вижу тоже, что неподходящая. Они со мной согласны. Говорят: «Сразу не сыскать». А я-то думаю, что им бы не пить, а то не выходит.
– Вот я и надумал к вам обратиться, – говорит помещик Петушкову. – Вы не пьете, и законы вам известны. Вот еще я объявление нашел, такое подходящее, пишет так…
Он достал из кармана вырезку из газеты и читает:
– «Хорошенькая, чуткая и одинокая душа ищет спутника, могущего поддержать ее. Вместе побредем…» Это заставило меня опять задуматься, – говорит помещик-москвич. – Написано хорошо, за сердце берет. Кто знает, может, и правда? Вместе побредем… Неплохо ведь, согласитесь.
– Да… – согласился Петушков, – одинокая душа – это глубоко и даже поэтично. Та энергичная женщина что-то фронтом отдает, революцией. А уж нам эти революции надоели вот до чего…
– Это верно, – согласился помещик. – Вот у меня и явилась мысль к вам обратиться, дорогой. Попытайте узнать, как что, кто она и как вообще… А то как-то сам стесняюсь сразу. Да и толст… А вы худой… Ну а потом, когда вы узнаете, кто она, ну и меня представите. Вы-то ведь женатый, серьезный человек.
– Да… – соглашается Петушков, – у меня женщина замечательная. Она в Реймсе осталась теперь, а я искать дела приехал сюда. Так она мне прислала пятьдесят франков. Ну, вспомнила, в первый раз я от женщины деньги взял. Она пишет мне так нежно: «Купи себе носки». Понимаете, какая. Она скучает. Вот любит меня, только не может сюда приехать, там квартиру оставить не на кого. Да и я тут ючусь в комнатушке.
– Ну, вот так… – предлагает помещик, – сто франков вам на расходы.
Ну и дал, значит, ему. Петушков распрощался с помещиком, вернулся в гостиницу, сто франков. Заплатил в счет за квартиру шестьдесят франков, сел за столик и сочинил письмо «одинокой душе», назначил ей свидание днем в соседнем синема, написал: «Буду ждать у подъезда, узнаете меня – буду держать в руках серую шляпу».
Дожидается Петушков у подъезда синема, в руках держит шляпу. Не идет что-то. Вдруг подходят две: одна – сама «одинокая душа» небольшого роста, прехорошенькая брюнеточка, за ней другая. Батюшки! Знакомая москвичка – Игоркина. Прямо к Петушкову и говорит, смеясь:
– Вот вы чем занимаетесь…
А Петушков ей:
– Позвольте… а вы тоже чем занимаетесь?..
Зовет в синема. Ну, сидят в синема, то-сё, разговоры…
– Поедемте, – говорит Игоркина, – завтракать.
Петушков думает: «У меня всего двадцать пять франков осталось».
– Извините, – говорит, – в два часа я должен по делу быть – американец ко мне приедет. Пойдемте покуда в кафе.
В кафе «одинокая душа» гарсону велит подать ей папиросы «Визирь». «Батюшки! – думает Петушков. – Десять франков…» Но видит – «одинокая душа» так на него любезно смотрит, улыбается, зубки у ней такие белые, ротик маленький, хорошенькая, веселая, и так заговорились. Когда пошли из кафе, ему знакомая Игоркина и говорит:
– Вы ей понравились…
– Почему вы думаете? – спросил Петушков.
– Я-то, – говорит, – женщина, я всё вижу. Нечего. Понравились. А сколько вы можете, – спрашивает, – дать ей в неделю?
У Петушкова в голове закружилось. «Хороша, – думает, – баба, сразу так мгновенно прошло сквозь всего чувство. – Зачем, – думает, – я буду ее ему уступать, тому, толстому помещику?» И сказал Игоркиной:
– Я покуда без дела здесь, дам ей франков пятьдесят в неделю.
А Игоркина ему закричала:
– Да вы с ума сошли! А еще письма пишете, свидания назначаете, заставляете время зря терять. А еще москвич. Постыдитесь!
Петушков прямо ошалел.
– Позвольте, – говорит, – мадам Игоркина. – Да что вы! Разве у нас в Москве могли быть такие вопросы? Вы, – говорит, – потонули в материализме…
А она ему:
– Ах, вы не стройте, пожалуйста, из себя наивного. Вы ищете чуткую, нежную, одинокую душу без копейки. Ну так прощайте, поищите дуру.
И обе они ушли…
Петушков рассказал этот пассаж своему приятелю, Исааку Яковлевичу.
– Скажите, – говорит он ему, – как жить в такую эпоху, когда всякая мораль потеряна?
Приятель Исаак Яковлевич грустно с ним согласился и сказал:
– Какую же вы себе так-таки хотите мораль за пятьдесят франков в неделю? Этого таки да, невозможно…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































