Текст книги "То было давно…"
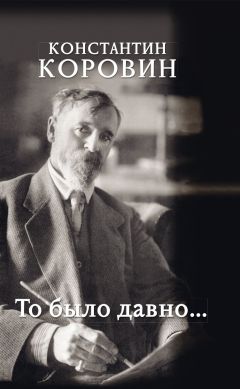
Автор книги: Константин Коровин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Железнодорожный случай
Давно это было, в дни беспечной младости. Мне один мой приятель рассказал про нечаянный случай из своей жизни, с ним происшедший, называя его «железнодорожным случаем». Приятель мой Николай Петрович Собакин, которого прозывали мы просто Кокоша, был симпатичный молодой человек. Другие говорили про него «ничего себе, говорливый молодой человек». Он был брюнет, лицо такое веселое, черные усики, черные глазки, выражение несколько испуганное, ротик, когда говорил, дудочкой, несколько сюсюкал. Выражение лица было такое, что будто в чем-то оправдывался. Фигура стройная, подвижная. Когда говорил, то вынимал изящно длинными пальцами толстый серебряный портсигар с желтым шнуром и браво закуривал папиросу. Был он помощник присяжного поверенного, увлекался и часто влюблялся, как полагается молодым людям.
И вот однажды рассказал он нам, приятелям своим, что случилось с ним на железной дороге. «Такой железнодорожный случай», как сказал он нам.
Случилось так, что патрон его, присяжный поверенный, послал его из Москвы в Петербург по делу курьерским поездом. В вагоне поезда, в купе второго класса, он увидел, что рядом с его купе ехала очаровательная молодая пассажирка. В то время, когда кондуктор приготовлял в купе постели, Коля Собакин вышел в коридор вагона и увидел, что соседка по купе тоже вышла в коридор и смотрела в темное окно вагона, за которым была ночь и летели искры паровоза. Соседка, несмотря на позднюю осень, пыталась открыть окно. Оно не открывалось. Коля предложил услуги и помог открыть окно. По этому случаю соседка и Коля разговорились, но из другого купе вышла полная немолодая дама и тоже хотела открыть окно. Коля, как галантный кавалер, помог открыть окно и полной даме. Но разговорился с первой молодой дамой, кстати ей попала искра от паровоза в волосы, и он тушил эту искру и сидел у ней в купе. Она рассказала ему, что эта ее поездка в Петербург последняя свободная, так как в Петербурге она выходит замуж за человека, и этот человек очень похож на него. Но что Коля Собакин веселей, так как ее жених очень серьезный человек.
В эти последние часы свободы вышло так, что она с Колей Собакиным в купе так разговорилась, что села к нему на колени, курила папиросы и целовалась с ним по случаю прощанья со свободой.
– Но она такая хорошенькая, – говорил Коля Собакин, – то есть прямо игрушка, как куколка.
Но на остановке у какой-то станции носильщик принес багаж в это купе, и вошла высокая старуха, занять второе место в купе. Коля Собакин ушел в свое купе, рядом. В своем купе Коля увидел, что над ним уже поместился пассажир на верхнем месте и спал. Коля Собакин лег не раздеваясь и в темноте думал о своей знакомой очаровательной соседке.
– Я так влюбился, понимаете ли, – говорил он нам, – что всё на свете забыл, и так страдал, что она выходит замуж. Лежу и думаю, – говорил он, – принесло это, черт, пассажирку, если б не она…
Долго думал Коля Собакин, спать не может, красавица-соседка не идет из головы. Случай такой редкий. Поезд летит. Остановится на станции и опять мчится. И думает Коля: «А что, если я тихонько открою дверь. Наверно, эта старая пассажирка уж дрыхнет. Я тихо зайду в дверь, ох, как она нравится мне!» И Коля, встав, вышел в коридор. Он тихонько открыл дверь соседнего купе и ползком, снизу, влез в купе. Она лежит. Он слышит ее дыхание. Темно. Он тихо говорит прямо ей в лицо:
– Я, я пришел, я ваш сосед, милая, люблю, люблю, как я вас увидел, я уже любил.
– Кто вы? – спрашивает тихо лежащая.
– Я ваш сосед.
– Да, да, – шепчет лежащая, – я, да, помню, вы отворили окно, молодой человек, вы меня видели, вот, да, что же.
– Я так страдаю, – шепчет Коля.
– Успокойтесь, успокойтесь, зачем, вы так молоды и такой бедовый. Не бойтесь. Наверху – спит.
– Только, понимаете, я чувствую, что-то не то, – говорит Коля, – целую не то, руки какие-то толстые и голос что-то другой. Я думаю, что это спросонья, что ль. Нет. Батюшки! Да ведь это другая. Понимаете ли, – говорит нам Коля Собакин, – я не в то купе попал, насилу я от нее отделался, да к себе скорее. А она за мной: «Куда вы?» – говорит. Тут я увидел ее. «Батюшки! – думаю, – это другая, ужас!» Я закрываю купе, скорей, а она говорит: «А нет!.. Я не позволю! Молодой человек… вы сами…» Я захлопнул скорее купе и запер.
Лежу да думаю: что делать? Она мне сделает сцену, когда в Петербург приеду. И при той. А там еще жених встречает. Лег я это, и сердце так колотится. Скверно себя чувствую. Думаю: вот что, вылезу на станции и поеду со следующим поездом. Жалко, ту не увижу, хотя она мне указала в Петербурге, кондитерскую, где ее можно видеть. Всё равно жених встречать будет, недаром она говорила «кончаются дни моей свободы», верно говорила.
И Коля Собакин встал, выпустил воздух из дорожной подушки, которая называлась почему-то «думка», положил ее в свой чемодан, надел калоши, пальто. И, как только поезд подошел к станции, спустился со ступеньки вагона на платформу, увидал толстую даму, которая закричала ему: «Куда?!» – и бегом побежал по перрону на станцию.
Там заспанный буфетчик посмотрел на него. Коля выбежал со станции, видит площадь, стоит извозчик, спит, он к нему, говорит:
– Вези меня в гостиницу.
– Вам в какую?
– Это Тверь? – спросил Коля.
– Чего – Тверь, ишь ты. Это Волочёк. А вам в Тверь? Чего вы!..
– Поезжай скорей в гостиницу, – приказывает Коля.
– Тута петербургские номера есть, али Кукуевские?
– Всё равно, поезжай скорей.
– Чего вы, барин, Тверь говорите, может, вы деньги не отдадите?
– Сколько?
– До ей, почитай, версты с две. Надо два-то рублика, с вашей милости. Ночное время.
– Хорошо, вези.
– Давайте деньги вперед.
Коля вынимает деньги.
– Скорей! – кричит он извозчику.
– Прибавить надо будет, барин.
– Скорей, прибавлю, – горячился Коля.
В дороге он глядел назад, никто за ним не ехал. «О, Боже, – думал Коля, – надо же мне было попасть в другое купе, вот уж не везет-то».
Ночь была холодная, руки озябли, мороз. Кругом всё покрыто белым инеем. Лезет Коля в карман, нет перчаток, в боковом кармане что-то жесткое, достал молоточек, чем выстукивает доктор. Думает, что такое, кто это ему положил? Должно быть, в Москве. Паспорт тоже, темненький, это его.
В Кукуевской гостинице заспанный коридорный отвел ему номер и спросил паспорт. Коля приказал его разбудить в восемь часов утра. В восемь утра коридорный разбудил Колю Собакина, подал самовар, баранки, и на подносе, около стакана, лежал Колин паспорт, в темном, рябинкой, переплете. Коля посмотрел паспорт и ахнул. Написано в паспорте: доктор Сергей Николаевич Голубков. Коля бросился к пальто: похоже, барашковый воротник, синеватое, как у него. «Ах, – думает Коля, – Боже, что же это такое!» В это время кто-то постучал в дверь, и вошел полицейский пристав. Коля Собакин несколько растерялся.
– Будьте так добры, доктор, – говорит пристав, – у нас тут нет, почитай, докторов, есть один, ничего, да в отъезде. Я по соседству здесь живу. Окажите такое одолжение. Жена заболела, кашель. Посмотрите, рядом живу. Сделайте милость. Паспорт я ваш прописывал, вижу, доктор. Вот, думаю, обращусь. Помогите, прошу.
Я прямо не знаю, как быть, думаю, латынь я учил. «Пойдемте», – говорю, а сам думаю, что молоточек у меня есть, буду слушать.
Больная такая худая женщина. Ну я ее стукаю молоточком. Говорю так, нарочно, важно: «Ничего особенного».
А муж, пристав, уж приготовил чернила, бумагу, лекарства прописывать – рецепт. «Черт-те что», – думаю и вспомнил, что принимал гимназистом кали броматум, аква дистилятум и – прописал. Он мне рублевку сует. Я говорю, не беру. Пришел в гостиницу, взял чемодан – да на вокзал. Приехал, вижу, какой-то поезд отходит. Носильщик говорит: «Видно, барин, опоздали». – «Опоздал», – говорю.
– А когда поезд на Петербург идет?
– Долго, – говорит, – вечером. Вы, знать, Малюхин будете?
– А что? – говорю я.
– Ваши-то все уехали на Осеченку, на охоту с собаками, говорили мне, что ежели приедет Малюхин, посади его до Осеченки, на товарный. Вот сейчас товарный пойдет, так я вас устрою.
– Ладно, – говорю, – все равно, с Осеченки я уеду до Петербурга.
Взяв мой чемодан, он понес его на платформу. Кондуктор посадил меня в вагон товарного поезда. Когда я вылез на первой же станции Осеченка, то увидел, что станция маленькая, сзади идет большой лес. Ко мне подходит возчик с кнутом.
– Пожалуйте, барин, – говорит. – Вы, знать, к Ялычеву на охоту приехали.
– Да, – говорю, – только скажи-ка, любезный, когда поезд на Петербург идет?
– Прошли поезда-то, теперь ночью пойдет.
– А на Москву?
– А на Москву-то в шесть часов.
– Вот, – говорю я, – скажите Ялычеву, что я телеграмму получил, нужно ехать мне дальше.
– Ладно, – говорит, – барин, на чаек бы с вас, я ведь ждал.
Дал я ему на чай.
Долго дожидался поезда. Взял билет на Москву и сел в вагон, когда подошел поезд. Сижу я в купе второго класса, против меня такой, с проседью, симпатичный человек, закурил папиросу, посмотрел на меня и сказал:
– Вот я вчера ехал в Петербург, с курьерским, какие жулики бывают. Или растяпы. Я, понимаете, спал, а пассажир, сосед, мое пальто надел и ушел. Вот на этой станции, кондуктор говорил. Главное, у меня паспорт в кармане был.
«Вот, – думаю я, – черт, что!» Батюшки! а пальто-то его на мне надето. И мое висит тут, рядом. А сосед говорит:
– Далеко еще до Москвы-то. Вздремнуть надо. Хорошо, – говорит, – просторно, одни едем.
Лег он и спит, всхрапнул. Я пальто его снял. Оставил паспорт его в кармане. Надел свое пальто, взял чемодан и тихонько вышел из купе и сел в другое. Место было свободное.
– Ну и что же, всё так и кончилось? – спросили мы Колю Собакина.
– Нет! – сказал Коля – Это еще не всё.
Жена доктора Голубкова, которой муж рассказал чудесный случай с его пальто, на другой день была сама не своя. Ну, женщина, конечно. «Вы, – говорит она мужу, – изволили в Петербурге быть, да?!» Доктор удивился тону супруги. «В Петербурге, а что?» – «Вы лжец! Я несчастная!» – упала в истерику, как полагается. Доктор не понимал, в чем дело, а жена ему кричала: «Лжец, лжец!» А у него прием, больные, он в отчаянии. Жена уехала с дочерью к своей мамаше. Написала ему, что он скрыл от нее, что был в Волочке. В паспорте отмечено. Доктор был поражен. Ездил в Волочёк, узнал у пристава, что был у него доктор Голубков, хвалил ему доктора пристав. Говорил: «Вот доктор, вот доктор, лекарство такое, кали броматум, что болезнь как рукой сняло».
– Как же это ты, Кокоша, всё узнал? – удивились мы.
– Узнал, да я лечился у него – так расстроился, пришел к нему и рассказал всё. Он был рад, жена – тоже, только удивлялся: как это кали броматум от кашля помогло.
Первый снег
Надо признаться, осенняя пора скучна. Быстро несутся серые темные тучи, сад поредел, стал унылый. Аллея лип мрачная. Намело павших листьев и на лестнице, и на деревянной террасе моего дома. За частоколом видно сжатое поле, кучное. В саду ни звука, как-то замерло – все улетели певуньи. Еще недавно трещали дрозды в рябиннике, а вот пролетит мимо ворона, каркнет – только и всего.
К вечеру тучи желтеют, доносится запах дыма от овина и слышно вдали стук цепов – молотьба ржи. Вдали по проселку едет воз сена. Всё как-то тоскливо, бедно. Сараи и избы деревни стоят темные, скучные. На реке вода покрыта зыбью, злая, свинцовая. Осока упала, качается от ветра у воды. Лодка моя у берега в кустах полна воды, тоже какая-то скучная, сиротливая.
В сердце – грусть. Один я. Ко мне давно никто и не едет. В Москве теперь лучше: театры, веселье. Ходят в гости друг к другу, рестораны, новости разные, шумят политики.
Иду по тропинке около леса. Возвращаюсь в дом. Около меня припрыгивает мой ручной заяц. Припрыгнет, сядет и слушает.
– Ты что за мной всё шляешься? – говорю я ему. – Ишь, толстый! Побелел. К снегу готовишься? Хитрость какая!..
Заяц прыгает около моих ног, не отходит. Лес кругом, а он не уходит – боится. Непонятно. Любит Дедушку – сторожа моего дома, тот его кормит кочерыжками, репой и морковью. Но я кажусь ему лучше. Без меня он спит в дровах, в хворосте на кухне. Когда я приеду, спать идет со мной, просится на постель. Прыгнуть сам не может. Надо брать за уши и тащить к себе. На окно прыгает, а на постель не может. Я смотрю на него и ругаю:
– Вот я тебя зажарю и съем. Обжора! Вот погоди, лопнешь.
Заяц сидит передо мной, поставит уши и слушает. Но он знает, что его в обиду не дам.
Собаку мою, пойнтера Феба, он не боится. Феб не обращает на него никакого внимания. Заяц ему не противен, как ручная лисица, которая когда-то была у меня, и барсук. Когда те подходили к Фебу, он тихонько рычал, а заяц, когда Феб лежит на полу, устраивается у его живота и спит. Больше всего заяц боится деревенских мальчиков. Он от них бросается бежать опрометью, как и от чужой собаки.
Я водил его в лес много раз, но он не уходил. Ушел барсук, лисица, даже белка ручная, которая не раз возвращалась. Но заяц привык к дому и не уходит.
Когда я пришел домой и сел на террасе, заяц около дома, в саду, зарылся под опавшие листья и затаился там. А когда за домом, далеко, в калитку вошел Дедушка, заяц выскочил из-под листьев и побежал его встречать. Почему он, не видя, слышал, что калиткой стукнул Дедушка? Войди другой – он не показался бы из своего убежища. Забавно, что заяц, когда лаяла собака сторожа, тоже принимал участие и беспокоился.
С моими друзьями-охотниками, приезжавшими ко мне, он был дружен, сидел у них на коленях, позволял себя гладить. Но оставался недолго и в лес не шел даже со сторожем. Только – со мной.
Когда я писал с натуры картину, заяц любил сидеть около и всё слушал, двигая ушами. Когда подходили деревенские мальчики посмотреть, что я «списываю», заяц волновался ужасно: лез ко мне на колени и от страха плотно прижимался ко мне. Но заяц не боялся домашнего барана. Если баран норовил съесть капусту, которую давали зайцу, – заяц отчаянно бил барана лапами по морде. Он не любил кошек, но не боялся их.
Когда заяц спал со мной – то так крепко, что я перетаскивал его за ноги и он не слышал. Но когда далеко за деревней ехали по мосту, он просыпался и будил меня, стуча лапами по мне, по ногам. Боюсь ошибиться, но мне казалось, что просыпался заяц только тогда, когда ехали ко мне. Конечно, можно признать вздором, что я пишу, но я так наблюдал.
Обоняние у охотничьих собак чудесно, но и слух зверьков удивителен. Отдаленный крик филина приводил зайца в оцепенение, и он бросался бежать, залезал в дрова и хворост.
Наутро, когда я проснулся, в окнах было бело. За ночь выпал снег. Какая красота! Светло. Какая бодрость в воздухе! Пахнет снегом, потемнели леса.
Заяц рад больше всех снегу. Всё время у крыльца, прыгает, ложится, домой не идет.
– Во пороша-то хороша… – говорит Дедушка. – Жди, к тебе, Лисеич, Гарасим придет. Сейчас самая охота. Ишь, наш Васька как рад, гляди-ка, снегу-то. Домой не загонишь. И не ест ничего. Снегом напихался. Знать, ему надобно, белый стал… подлаживается, чтобы не видали. Как всё устроено у Господа – и зайца хоронит. Э-эх, человеку не дадено…
Верно сказал Дедушка: пришел ко мне охотник, крестьянин Герасим Дементьевич.
– Ну, Лисеич, – сказал Герасим, – и чего… Вот что: у Глубоких Ям, по ту сторону, где глухарей выводок нашли, помнишь, – что наследили рыси… Сосчитал – шесть. Вот охота! Но по деревьям, знать, ушли. Я дале не искал, а значит, их там место. А у Поповки – волчий след, в утро прошел. Должно, видать – в моховое болото ушел.
– Видал ли ты рысей-то, Герасим Дементьевич? – спросил я.
– В этот раз не видал, – ответил Герасим, – а за прошлый-то год убил одну в овраге. Куда ее? Шкурку-то отдал я одному из Москвы. Ведь они есть велики и вот злые… Орут вот, как кошки, а хвоста нет. А на деревьях их не увидишь, к дереву припадет – не видать. Глаза отводит.
– А не слыхал ты, что кто приучил рысь, вот как я – зайца?
– Не слыхал. Где ж, она злая, нешто ее приучишь. Зайца-то легко… Рысь, где же, она загрызет…
– А я видал, – говорю, – рысь большую, ручную. Ну вот просто как кошка.
Герасим посмотрел на меня с недоверием.
– Видал в Москве, у Арсения Абрамовича Морозова, – говорю я, – большая рысь, на ушах кисточки, красавица. Глаза большие. Сидела у меня на руках, и я ее гладил. А она мурлыкала, вроде вот как кошка.
– Да что ты? – удивился Герасим. – Чудно… Вот, Лисеич, что, дело какое. Очень жисть этих зверьков тоже тяжкая. Человек на их нападает, куда деться им, житье трудное. Человеку тоже друг от дружки спасаться надо. Выходит, что человек тоже в зле живет.
– Говорили в старину, – говорю я, – что человек человеку – волк.
– В старину… – сказал Герасим, – сказано было? А пошто же доселе так осталось? – И Герасим засмеялся… – А то и то: человек-то человеку много хуже, чем волк. Волки-то друг дружку не обижают. Дай-ка волю человеку, сними-ка сабель, штык да закон – хуже волков друг дружку заели бы, замучили… Скажи – пошто вот заяц живет с тобой, не уходит в жисть свою прежнюю?
– Я сам, – говорю, – удивляюсь.
– А вот зверь – а с понятием. Он чует, что ты, Лисеич, любишь его, не погубишь, жалеешь. Вот что… Заметь – зверь малый расстался с волей для тебя, сердце его малое привязалося к дружбе, с человеком жить, что и собака…
– Но я кормлю его…
– Это не всё. Вот и дед кормит его, более еще, без тебя-то. А он с тобой всё. Знает, что ты его кормить велишь, хозяин ты, и обижать не дашь. Как дитя малое чувствует…
Заяц сидел на подоконнике. Он вдруг весь вытянулся, высоко поставил уши и слушал. Его светлые раскосые глаза настороженно застыли.
– Смотри-ка, заяц слушает, – говорю я Герасиму. – Не едет ли кто?
– Ишь ты, – подойдя к окну, сказал Герасим, – верно ведь: кто-то в ворота заворачивает. Это к тебе, Лисеич…
Посмотрев в окно, я увидел тарантас. В нем сидел человек небольшого роста, закутанный в шерстяной шарф, в котелке – Валентин Александрович Серов. Я встретил гостя у крыльца. Заяц прыгал, увидав знакомого, – Серов летом был у меня, написал этюд с зайца. Тот послушно ему позировал. Валентин Александрович любил животных и хорошо их рисовал.
Герасим Дементьевич уговаривал нас пойти на охоту в порошу. Говорил:
– Теперь следы нахожены новые. Пойдемте. Тут на поле, к склону, к кустарникам, недалеко. Зайцы есть, залегли. Возьмем пару. Жаркое будет.
– Невозможно, я не могу, – сказал Валентин Александрович, показав на сидящего у него на руках зайца. – Застрелишь такого и будешь каяться. Ты, Константин, всю охоту испортил.
– Чего ведь это… – говорит, смеясь, Герасим, – это свой теперь, а те дикие.
– Нет, – говорит Серов, – не могу. Как-то неловко стрелять в таких. Смотри-ка – сидит, не уходит… Почему? Странно. А? Узнал меня!..
Года три тому назад в Париже, в магазине русских работ художественной индустрии, Елизаветой Михайловной Мухановой была сделана выставка картин русской живописи из частных собраний. Приглашенный в качестве участника, я накануне ее открытия был там и увидел, как с трогательным вниманием несколько незнакомых мне дам искали место – где бы повесить картину Серова «Заяц». Это был тот этюд, который Серов написал летом с моего зайца. Этюд поместили на стене в хорошо освещенном месте.
Когда окончилась развеска картин, мы с пожилой дамой вышли вместе из магазина. По дороге моя новая знакомая мне рассказала, что она и муж ее хорошо знали Валентина Александровича и что картина «Заяц» принадлежала им. Этюд этот висел у них в доме.
– А что же, – спросил я, – ваш супруг придет завтра на открытие?
– Нет, – ответила печально дама. – Его расстреляли в России…
Простившись со мной, дама спустилась в метро.
Идя домой, я вспоминал Серова, своего ручного зайца, осень позднюю, свой сад и дом – там, в стране родной… Вспомнил как давний сон… И подумал: «А зайца моего тоже, наверно, расстреляли».
Святая Русь
Москва, 17 октября 1905 года. Манифест Государя. Россия отныне конституционная монархия. Самодержавие ушло в историю. Объявлены свободы. Государственная дума получила законодательные права.
И ликовала Москва. Народ вышел на улицу, никто не мог усидеть дома, поздравляли друг друга, целовались, словно Пасха.
Вскоре приступили к организации выборов в Государственную думу. Ищут, стараются выбрать умных, мудрых людей. Россия жила в празднике обновления, чувствовалось братство и сознание взаимного добра. Впереди правда, свет и жизнь.
Но недолго длилась эта бодрость. Как бы чья-то посторонняя воля, какой-то «человек за забором» начал свою разрушительную работу; клеветал, лгал, ссорил, натравлял… Казалось, небесный факел свободы попал в руки вечнослепых и они сожгут всё хорошее.
Пришла злая, ненужная энергия… Кончилась и патриархальная жизнь Москвы. Был быт немудрый, и жила им Москва – жила, любила посты, блины, летала на тройках в рестораны, искала отрады души широкой, русской, забвения. И жила Москва – как снега белы, пушисты – сама в себе. Но чуяла, что нужна правда, искала гласности, хотела на места поставить, чтобы справедливость была. И обижать не хотела никого – пожить попросту, но чтоб честь была. В свободе узнают, кто и что, думала Москва. Но не совершилось того.
Вот на переломе нашей жизни в Петербурге явился таинственный старец Распутин. Пришлось и мне кое-что услышать о нем.
* * *
Однажды в Петербурге после спектакля сижу я у директора Императорских театров Теляковского за чаем. Спрашиваю:
– Что это за Распутин такой?
– Да, – говорит Теляковский, – странный человек. Привели его к Наследнику. Он болен. Лежит. У него слабые вены. Наследственная, говорят, болезнь. Кровоточит нога. Когда Распутина подвели к наследнику, мальчик расхохотался. Конечно, после того как он видел блестящие мундиры и наряды дам, окружающую роскошь, и вот какой-то человек стоит перед ним в поддевке, на голове – скуфейка, нестриженая борода… Чудно́ показалось ему. Распутин тоже рассмеялся. Рукой коснулся ноги, кровь точить перестала. «Хорош мальчик, – сказал Распутин. – Будет здоров. Но знает часы грядущего один только Господь». Конечно, они теперь думают, что он святой.
* * *
Вскоре ехал я из Петербурга и остановился в Вышнем Волочке у приятеля Дубина, охотника и хорошего человека. А уже была война в начале. В деревянном доме Дубина жила на квартире полковница. Вечером пришла она к жене Дубина, и мы мирно сидели за чаем.
Полковница – полная женщина, с желтым болезненным лицом. Около нее две девочки, старшей – лет шесть. Ее дети.
В самом начале войны у нее убили мужа и двух сыновей. Среда военная. У отца еще мать жива, сестры. Жалованье небольшое, и его нет!
Она вдова, ходит узнать, нельзя ли получить пенсии или пособие какое. Но ниоткуда ответа нет. Она всё ждет.
– Идите к Распутину, – научил ее содержатель номеров на Мойке, где она останавливалась в Петербурге.
– Пошла, – говорит, – я. Дом на Гороховой. Подъезд. Около – народ. И в большой комнате, куда пришла я, много просителей. Есть богато одетые. Отворилась сбоку дверь, и вошел человек в длинной полотняной рубахе, распоясанный. Ворот расстегнут. Одна штанина вправлена в сапог, другая – навыпуск. Борода – темная. А глаза – как пики. Такой странный! «Что это? – подумала я. – Какой-то Пугачев». Быстро глядит он на просителей. И спросил меня – я стояла ближе – спрашивает: «Что надо?» А сам глядит на одного. Я ему объясняю свое дело. «Неколи им вас слушать, – говорит он мне. – Они бумаги всё пишут. У их, дураков – дела по горло». Потом отошел от меня и обратился к тому, на которого смотрел всё, и спросил: «Деньги у тебя есть?» Тот тут же полез в карман. «Давай все», – сказал он ему и взял. «Ну, наживалы, миляги, деляги! – сказал он другим. – Дайте-ка деньжонок!» И у всех пообирал. В руках у него куча, и, вижу, идет ко мне. «Бери, ваше высокоблагородие!» И протягивает деньги. Я растерялась. А он говорит: «Идите. Прощайте. Не потеряйте!» И за плечо повернул меня в дверь сильно рукой. Я потом сочла деньги: было двадцать три тысячи. Что за человек такой! – добавила полковница. Глядеть – мужик просто. А глаза – будто стрелы!
* * *
Директор Теляковский говорил мне как-то при моем приезде в Петербург.
– Представьте, ко мне заявился Распутин. Просит принять певицу в оперу. Я его не принял. Знаете, если брать всех певиц по рекомендации министров, журналистов да еще «святых старцев», то хороша опера будет. Но слушала эту певицу приемочная комиссия. Музыканты, я слушал. Поет всё мимо, и голоса нет. Правда, у всех есть свои очаровательные певицы. У всех! Удивительно это. Не беру. Враги. Говорят: ничего не понимает директор. Муравьев рекомендовал. Замечательная. Дошли до «самого». Говорю: не могу взять – прикажите. А приказать-то не хотят…
Он смотрел на меня, и глаза директора смеялись.
– А всё от доброты. А в искусстве этого нельзя. Вот Шаляпин не просит никого. Я прошу. А вас, помните, просил декорации писать, к вам приезжал, а вы думали: военный, что он понимает? Помните, сказали: «Ваш театр – рутина и тоска». Вы сказали. Я немножко музыкант, люблю артистов и искусство, но я служу. Трудновато. Все ругают. А театры полны. Ну, пойдемте завтракать.
Потом однажды ехал я из Петербурга. Встретил в коридоре вагона Александра Васильевича Кривошеина, он уже был министром. Вошли в купе, поговорили о Савве Ивановиче Мамонтове, у которого раньше часто виделись. И сказал мне Александр Васильевич: «Вчера, – говорит, – видел я в первый раз Распутина. Он подошел ко мне и сказал: "Кривошеин. Министр ты теперь. Слушай, запомни и другим скажи: Кривдой весь свет обойдете, домой не вернетесь. Запомни это"».
* * *
Я пишу ночью это воспоминание. А на башне бьют часы бегущего времени. Много погибло. Много тайн утаили. И уйдет в историю страшная сказка страны моей родной. И история поведает всю ту правду, которую прокричали. И только.
Но мне однажды сказал один бродяга-монах, что правда живет в высоких алтарях чести, и не всем дано уразуметь ее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































