Текст книги "То было давно…"
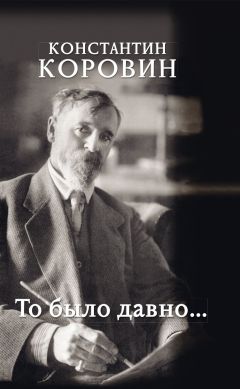
Автор книги: Константин Коровин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Садовский и Огарев
Помню Москву, когда наступила ясная пора весны. В мае москвичи уезжали на дачу, в прекрасные московские окрестности. Помню, какая-то работа задерживала меня там, в Москве, в моей мастерской на Тверской. Недалеко, тоже на Тверской, был большой дом Английского клуба, на воротах – львы, описанные Пушкиным в «Евгении Онегине».
Старинный был дом. Высокие комнаты, терраса, большой сад. Туда я ходил после работы обедать. Мало было посетителей, но всегда я встречал там артиста Малого императорского театра Михаила Провыча Садовского. У него всегда был на террасе Английского клуба отдельный столик, и он долго, до позднего вечера, засиживался за обедом.
К Михаилу Провычу за стол присаживались друзья его, знакомые, почитатели. Михаил Провыч простодушно рассказывал увлекательные случаи, которые ему приходилось наблюдать в Москве. Он часто приглашал меня пообедать вместе. Садовский любил Москву, никуда не уезжал летом и террасу в Английском клубе с садом называл «моя Ривьера».
Как-то раз за обедом Михаил Провыч рассказал, что он был на новоселье у почтенного приятеля своего, московского обер-полицмейстера Огарева, на даче, у Петровского парка, у деревни Коптево. Там новый дом, перед домом большая площадка и сад.
– Вот ты ведь знаешь, Миша, – говорит за завтраком Огарев. – Кур я обожаю. Так у меня здесь на даче индюк медальный, на выставке купил. Ну и индюк!.. Дымчатый. Красавец… Дак вот, сукин сын какой, что сделал со мной. Я смотр пожарным произвожу вот здесь, на плацу – новое обмундирование, брандмейстеры. Знаешь, блестит – люблю я это, чтоб чисто было, форма… А мне Мандель, портной, новую шинель сшил. Ну подкладку дал; верно, что красную поставил. Малиновую бы надо, генеральскую, а он красную… Я вышел на балкон к пожарным и, как полагается, говорю: «Здорово, ребята». А он, индюк-то, откуда ни возьмись, индейский черт, прямо по воздуху да в меня как вцепился – вот сюда. Ведь срам какой! Я его по голове, понимаешь ли, за соплю его тяну. Оттащу, а он пуще. Да ведь больно бьет!
Смешно тебе, а я, брат, бегом на балкон… Вот это в Индии порода какая… Вот хоть льва или птицу взять – ведь это што ж такое, страна какая. И народ, поди, тоже там… Наших взять – не в пример: у нас всё тихо, скромно, порядок.
Вот что, Михаил Провыч, – продолжал полицмейстер. – Сейчас я поеду в Лефортовскую часть, там мне надо жуликов сортировать. Хочешь, поедем со мной, мне повадней. А потом поедем в «Мавританию» пообедать к Натрускину.
– Хорошо, – согласился Михаил Провыч, – мне посмотреть жуликов интересно. Может быть, играть придется жулика в театре.
– Интересного мало. Мелкота. Нет эдакого настоящего жулика, крупного, вроде Шнейера, повывелись теперь. Эдаких-то я сам люблю. А теперь мелочь, ничтожество.
В пролетке, на паре вороных, с пристяжной на отлете, едет московский полицмейстер с артистом Императорских театров Садовским. На улицах городовые вытягиваются в струнку, здороваются знакомые, снимая шляпы, останавливаются и смотрят, провожая глазами полицмейстера. Говорят: «Знать, на пожар едет…»
Лефортовская часть выкрашена желтой краской. На широкой лестнице входа, усеянной шелухой подсолнухов, лениво сидят пожарные в медных сверкающих касках. Увидав полицмейстера, вскакивают с лавок и вытягиваются, отдавая честь. Пройдя скучные залы с длинными столами, с сидевшими за ними писарями и просителями, входят в арестантскую. Там солдаты тюремные, в черных мундирах, с саблями наголо.
– Введи! – входя, крикнул полицмейстер Огарев.
Из двери ведут арестантов, одетых разно. Наклоня голову, они останавливаются. Чиновник подает Огареву бумагу, Огарев садится, читает, говорит Садовскому:
– Садись, Михал Провыч. – Это который? – спрашивает затем Огарев. – На восемь тысяч свистнул… Который это Смякин?
– Выходи… – толкают солдаты арестанта.
Арестованный Смякин выступает.
– Да ты что, а, мать честная. Взбесился? На восемь тысяч! А? Да я тебя сейчас под суд, к следователю… Да я!.. В тюрьме сгною… Да ты што! Чего ты это скрал?
– Мискроскоп… – отвечает, ворочая головой, арестант Смякин.
– Чего?.. – удивился Огарев.
– В университете украл, в лаборатории… Форточник он, ваше высокопревосходительство, – докладывает чиновник.
– Как же это ты, толстый, в форточку пролезаешь, сукин сын? Как это, подумай…
– Отвечай, – приказывает чиновник Смякину.
– Да ведь… я ведь… гляжу, а там – в окно гляжу… а там… это самое… ученые-то смотрят в мискроскоп-то… Я гляжу тоже в окно-то… Вот, кабы, думаю, мне бы однова бы поглядеть… Помрешь в бедности-то нашей, не видавши мискроскопа-то. И вот меня сласть берет – поглядеть да поглядеть, прямо места себе не найду… Я и говорю сиротке махонькой, Насте: «Настя, погляди-ка, ученые-то в мискроскоп смотрят… Вот бы, – говорю, – нам бы поглядеть при бедности такой в его бы… Махонькая, – говорю, – ты, вот в окошко бы тебе влезть… Тебе што достать-то этакую машинку». Она дитя без понятия. Ночью пошли – ну и достала… Я ведь поглядеть только, опять на место хотел поставить… Ей-Бо…
– Вот ты слышишь, Михал Провыч? Хотел опять на место поставить! А сам продал в железную лавку за рубль… Ах, сукин сын, да я тебе!.. Что делать с ними? Да ты што! Што ты понимаешь в этом микроскопе? Там ученые, сукин сын, мужи, профессора, Ломоносов сидит, Пирогов сидит!.. «Где микроскоп?» – ищут. – Нет микроскопа. Без дела болтаются… А тут больной, может, генерала Черняева привезли. У него глиста вертится или мало ли што. Как узнать – микроскопа нету, без него нипочем не узнаешь. Помирать должон из-за тебя, сукина сына. Да и ученые без толку, им-то поглядеть охота из-за науки… А што ты понимаешь… Ах ты!.. Где микроскоп-то? – крикнул Огарев.
Расторопный чиновник принес большой микроскоп, поставил на стол у окна. Полицмейстер и Садовский подошли туда. Чиновник посмотрел в микроскоп, поворачивая сбоку винт.
– Извольте посмотреть, выше высокопревосходительство.
Огромного роста полицмейстер наклонился, посмотрел в медную трубу.
– Чего это? – сказал он. – Пружины какие-то. Ну, посмотри-ка, Михал Провыч.
Артист тоже посмотрел.
– Видишь? – спросил Огарев.
– Вижу, похоже, что пружины.
– Это женская шерсть, ваше превосходительство, – серьезно сказал чиновник.
– Постой. Что говоришь? Дай-ка посмотрю… – Наклонился и опять посмотрел в микроскоп. – Что ты говоришь, ерунда какая… Это пружина вот как из дивана. Это чего же, какая же… от собаки, что ли, шерсть…
– Это шерсть Юлии Пастраны, ваше высокопревосходительство, – сказал чиновник. – Ее в саду у Лентовского показывали… Борода у ней.
– Это чего еще? Какой Юлии Пастраны? Ты посмотри, Михал Провыч, что делают со мной… Ты подумай. Ведь это чего выдумали. А! Подумай, теперь эти стрекулисты, писаки газетные, узнают… Что пойдет… По всей Москве закричат. Смятение умов начнется. Ах, сукины дети! Откуда эдакий вор нашелся, это што за стрюцкий? Да где ты нашел шерсть этакую?
– Ей-ей, не виноват, ваше… ство… Это она там… была… Это ученые глядели. Я тута ни при чем! Простите, ваше высокопревосходительство, если б знал… Господи!
– Ну вот теперь какое дело выйдет. Надо его к главному следователю отправить. Микроскоп… а что из этого будет? Ух и надоела мне эта регистрация жуликов, вот до чего… А эти на сколько скрали? – показал он на толпу.
– На шестнадцать рублей сорок копеек всем…
– Ваше… ство! – жалостливо кричат жулики, бросаясь на колени. – Праздник… Лето пришло… простите! Господи, ежели б знали! Будьте милостивы.
Полицмейстер посмотрел на жуликов, потом, обернувшись к Садовскому, сказал:
– Миша, отпустить их, што ль?
– Конечно… Отпусти.
– Ну, брысь с глаз моих. Ступайте.
И жулики быстро разбежались.
– Ну, едем, Михал Провыч. Видишь службу мою. Ведь надоест… И сколько народу этого.
В ресторане Натрускина за столиком в кабинете, где видны распустившиеся листья березы, как бисер блистающие на солнце, полицмейстер режет свежие огурцы на тарелке и кладет приятелю своему, артисту Садовскому.
– Белорыбицы сюда еще да редиски. Вот, Миша, польем маслом, уксусу немножко и… Порционной подать!
Вытянувшись, стоит Натрускин, подмигивает половым. Те живо подают водку во льду и большие рюмки. Выпив с Садовским «порционной», закусывают белорыбицей.
– Хороша холодная водка, – говорит Огарев, – а огурчики-то – парниковые… Вот что! Забудешь эдакое дело, мрак этот – жуликов. А должность велит всё знать. Ну, что у вас, Натрускин, веселенького? Три дня не был здесь.
– Ничего не вышло такого, ваше высокопревосходительство. Всё в порядке-с. Случилось позавчера: Болдушкину в кабинете Носкин так разок по морде дал.
– Пошто это он? – спросил полицмейстер. – Человек он серьезный… Фабрикант. Так-то.
– Дык ведь ему Носкин что не скажет: то хорошо, Фаже хорошо поет – а Болдушкин всё свое: Пикеле лучше. Ну он ему и дал: «Вот, – говорит, – тебе твоя Пикеле…»
– Пристав знает?
– Никак нет.
– До князя бы не дошло…
– Помилуйте, помирились. Конешно, это как полагается, глаз немножко посинел, но всё ничего. А вот Морозкин вчера цыганку Мотю… она ведь молоденькая еще… – через забор швырнул. Ну ничего – в бузине застряла. Руку очаряпала сильно. Ну получила тыщу… Простила…
– Постой, постой, – сказал Огарев. – А… нет, постой, я его проучу… Морозкина – проучу… Вот, Михал Провыч, люблю я, когда чувства играют в человеке, знаешь, люблю, когда Амур стрелой сердце вертит… Это цыганку за забор бросают, дак што же – душа играет! Хорошо, – играй!.. Дак вот, цыганку бросал – двадцать тысяч велю отдать в приют сиротский. Миша… я ведь купцам-то вдовий дом построил. Сиротский дом – мой. Разве возьмешь так-то деньги? А вот когда играют они – плати. Сиротам плати… Заставлю!..
Московский полицмейстер
На Трубной площади в Москве ресторан «Эрмитаж», бани и меблированные комнаты.
В большом зале ресторана, в уголке, за столиком сидит саженного роста человек в длинном сюртуке со светлыми пуговицами. Темные штаны с красными лампасами вправлены в сапоги с лакированными голенищами. Лицо этого человека особенное, страшное – какой-то Кончак[8]8
Кончак – половецкий хан (правил в XIII веке).
[Закрыть]: всё в узлах, над глазами и под глазами – мешки, большие густые черные брови, нос с наростами, как картошина, топырятся черные усы. Один ус целый, другой – пол-уса. Глаза черные, сердитые.
Страшный человек.
Но черные глаза его, когда смотришь ближе, – добрые.
Это и есть московский полицмейстер.
Он выпил, налив из графина, большую порционную рюмку водки, закусил селедкой. Служит ему половой Андрюшка, белобрысый, коротконогий парнишка, которого полицмейстер называет – почему, неизвестно, – героем.
Вот полицмейстер позавтракал и дал половому 25 рублей. Расторопный Андрюшка принес сдачу и счет на тарелке, под салфеткой. Полицмейстер сосчитал деньги, и брови его поднялись кверху. Хриплым басом он сказал:
– Этто что такое, а?
Андрюшка спокойно смотрел серыми глазами.
– Да ты что это, сколько я дал?
– Сто рублей, ваше превосходительство!
– Как сто! Да ты што? Сейчас позови Егора Мочалова.
Егор Иванович Мочалов – главный распорядитель-директор ресторана, человек плотный, простой, со светлыми большими усами и круглыми серыми глазами, мигом явился.
Стоит перед полицмейстером спокойно, смотрит кротко.
– Это ты што ж, сколько я дал? Што ж это сдача-то, а? Да ты взятки мне даешь, а! Да я тебя…
– Сто рублей изволили дать, ваше превосходительство, как одну копеечку, – спокойно говорит Егор Иванович.
– Да ты знаешь, с кем говоришь, а! Я тебя в тюрьме сгною! Который раз ты это со мной, то так, то эдак?.. Я тебе Епишкины номера твои закрою!
– Что ж, ваше превосходительство, от тюрьмы я не отказываюсь: за правду и пострадать хорошо.
Полицмейстер, нахмуря брови, лезет огромной ручищей в карманы сюртука, вынимает бумажник, пристально разбирает в нем записки, письма и говорит:
– Што-то не пойму, всё может быть…
Он берет сдачу, кладет бумажник в карман, встает и грузно сходит по лестнице, держась за перила.
Опять «Эрмитаж». Опять завтрак, и опять гнев полицмейстера. На этот раз он дает сто рублей. Половой Андрюшка – герой – приносит сдачу под салфеткой, но сдача – с 25 рублей. Скандал.
– Я сколько дал?! – спрашивает полицмейстер.
– Двадцать пять рублей, – отвечает половой.
Брови высоко подняты, черные глаза вертятся во все стороны, говорит сердито:
– Позови сейчас Егора Иванова.
Егор Иванович приходит, спокойно смотрят серые глаза на начальника.
– Ты што ж это шутки шутишь? А? Я кто тебе – хвост собачий-то?..
– Первый начальник мой уважаемый.
– Сколько я дал?
– Двадцать пять рублей. – Мочалов и не моргнет.
Опять полицмейстер лезет в карманы, выкладывает на стол большой бумажник, записки, прошения, газеты, деньги, лазает по всем карманам и сзади, и на груди, и с боков, говорит:
– Чудеса в решете.
Он берет сдачу и уходит по лестнице вниз.
В «Эрмитаже» был столик у окна… За ним всегда завтракал артист Малого театра Михайла Провыч Садовский, человек талантливый, остроумный.
Полицмейстер Огарев пришел как-то завтракать мрачный – ночью был в Москве большой пожар, он не спал ночь. Говорит Садовскому:
– Слышь, от меня дымом пахнет. Люблю пожары. Первый люблю в огонь бросаться. Вот ус этот потерян: с мясом вместе ус потерял. Что делать, служба… Сколько это я раз горел – не счесть. Но Господь милует. Посидишь в бочке с картофельной мукой, ну и пройдет – ожоги-то. Мученье большое, а нельзя: служба… А кто это, не знаешь, там сидит – черная челка?.. Хороша. Мне только за седьмой перекатило, я еще в силе… Но должность такая – польсемейстер – невозможно, заметно, и некогда… – И полицмейстер внезапно понизил свой бас до шепота: – Дело-то какое тут на днях вышло, в Епишкиных-то номерах… Помер один, здоровый такой; я его знаю. Я приехал. Вхожу – постель. Лежит труп, ну, половые, лакеи, полиция, пристав, следователь. Битком. Вижу – и она тут, узнал – знаменитая. Прямо дрожит от страму. Я посмотрел на нее да как крикну: «А вам чего здесь, сударыня, надо?! Вон отсюда!» – Ну она и рада. Поняла… А то бы – газеты… Ну и прощай, муж узнает.
Полицмейстер выпил порционную, съел стерлядку кольчиком, усмехнулся:
– А вот гляди, што сейчас со мной Егор Иванов зачнет делать… Вот гляди: даю двадцать пять рублей, смотри, что будет.
– Герой! – позвал он полового. – Получи да принеси газету.
Герой проворно принес сдачу под салфеткой и газету.
Огарев считает сдачу, смотрит счет. Говорит сердито: – Ну вот. Смотри. Тут поросенок холодный приписан, а мы его и не ели, видишь. Нешто я ел, Михайло Провыч?
– Нет, – отвечает, смеясь, Садовский. – Не ели.
– Позови-ка Егора!
Половой бежит.
Подходит Мочалов. В руках у него блюдо с холодным поросенком.
– Ваше превосходительство, – говорит Мочалов. – Ошибочка вышла. Верно изволили гневаться. Поросеночек нынче холодный – прямо сливки, давно таких не было, а мы замешкались вам подать, хотя поставили уже в счетец… Простите милосердно, ваше превосходительство…
– Давай сюда твоего поросенка, – говорит полицмейстер. – А ну-ка, нальем порционную, Михайло Провыч, под этого холодного поросячьего сына…
И полицмейстер снова завтракает с отменным аппетитом.
– Знаем мы гостей наших, Михайло Провыч, – рассказывал Мочалов Садовскому, когда полицмейстер ушел. – Ведь это каждый раз, вот уже четырнадцатый год идет… Хороший человек, сердиться любит… Если ему всё правильно – скучает он, ругать некого. Ходить перестает… А вот накричит на меня – «в Сибирь сошлю, в тюрьму!», – ему это самое и оченно приятно… А то говорит: «Побожись-ка, что сдача верна», а я отвечу: «Как можно божиться, ваше превосходительство, в эдаком деле, из-за денег. Вера человека ко Господу совсем часть иная, душевная». – «Вот это ты правильно, Егор, говоришь: у Господа, скажем, Лефортовская часть, а у вас… – тьфу ты, всё проклятые пожарные мысли в голову лезут… Всё перепутал… У Господа-то на каланче… тьфу, что они мне в голову лезут…» Вот у нас какие с им разговоры.
Егор Иванович при этом тихо и ласково посмеялся:
– До чего они пожары любят. Стоючи в коляске, прямо летит. Ну и, правду сказать, тушить ловок, верно. У него дело пожарное поставлено хорошо. Как на войну едет – с огнем сражаться. Он и на войне был, Георгия получил. Еще: если что ему скажешь про сирот – плачет. Сирот любит и еще птиц. Пулярку там, курицу, индейку – никак не ест. «Что ты, разве можно, – говорит. – Яйцо у курицы отнимают – яйцо есть, а потом и ее жрать, ведь это же просто подло…»
А вот – приемная московского полицмейстера Огарева. Каждый проситель входит отдельно.
Слышится из-за дверей кабинета хриплый бас начальника:
– Да ты что?! Да я тебя, да ты мне! Да я!..
Посреди комнаты, у стола, стоит полицмейстер. Перед ним кругленький, небольшого роста, с лисьими глазками московский домовладелец Мелюшин.
– Ваше превосходительство, – говорит Мелюшин. – Вот сын отбывает, в Подольск отправили. Без отца там… В Москву если бы перевели, на праздники пришел бы повидать, а то избалуется там один… Похлопочите, окажите милость.
Мелюшин роняет к ногам полицмейстера толстый пакет.
– Это ты что? Подыми-ка!
Мелюшин падает на колени, плача:
– Не погубите, ваше превосходительство! Осмелился, прямо сам не знаю, как и что…
– Дай-ка сюда, – говорит Огарев, берет пакет, разрывает. – Деньги тут. Сколько?
– Пять тыщ, – отвечает побледневший Мелюшин; плачет, повторяя: – Не виноват, простите… Сын… Никому не скажу, ей-Богу, никому… – и он бьет себя в грудь.
А Огарев считает деньги:
– Пять тысяч, верно. Ну-ка, ты, первой гильдии, давай-ка еще пять и всем говори, коли хошь, – на всю Москву ори…
Изумленный Мелюшин лезет в карман и достает еще пять тысяч.
Огарев садится за стол, надевает очки, звонит звонком. Приходит его военный человек – и здоровенный же! – как морж с усами.
– Ну-ка, давай сургуч!
Морж усатый зажигает свечу. Полицмейстер что-то пишет, вкладывает деньги и письмо в большой конверт. Капает на конверт сургучом, берет печать у своего военного человека и лижет ее.
– Тю-тю, да она мокрая!..
– Я уж лизал, ваше превосходительство, – рявкает тут его здоровенный усач.
Огарев встает, подходит к Мелюшину.
– Ты купец первой гильдии, московский домовладелец, ты, батюшка, человек богатый. Отнеси-ка ты этот пакет в сиротский дом, что на Девичьем Поле, и там возьми расписку. А в письме сказано, что ты, Мелюшин, жертвуешь сиротам десять тысяч рублей. Понял? И знай: сын твой здесь будет, в Спасских. Но ежели мне скажут, что он по трактирам да скачкам, так я его, Мелюшкина сына, я его… Вся кутиловка из головы выскочит… Ведь я вас всех знаю, купцов – и православных, и прочих… У меня приятель был, Куперник. Голова-человек, умный. Он рассказывал мне: Моисей у них был в старину, так вот к нему приходили такие-то – тоже со взятками. А он поглядит да скажет: «Хге», – и из того дух вон… Погоди, думаю. И пришел ко мне мой приятель Куперник, что и ты, – взятку дать. А я на него поглядел, набрал воздуху в грудь да как гаркну: «Хге!» – он так и сел на пол да и елозит-елозит… Я смотрю – до чего смешно он елозит и встать не может… Так, веришь ли, от моего «хге» его в больницу увезли. Вот ведь как в старину бывало…
И московский полицмейстер предобродушно и раскатисто рассмеялся.
«Страшный» огород
Как-то в молодости гостил я у приятеля своего, доктора, который жил у Владимира-на-Клязьме. Вот этот доктор рассказал мне однажды, что недалеко от Владимира река Нерль сливается с рекой Клязьмой и такие там раздольные места, большие луга и озера. И стоит там старый Боголюбский монастырь. И есть древняя колокольня. Вот в этой колокольне, на каменной лестнице, был убит – давно то было – князь Андрей Боголюбский за то, что неправильно Писание понимал. И в пойме реки Клязьмы, в озерах, когда ветер и гроза, то по озерам этим плывут короба с убийцами князя, заросшие чередой и тиной.
– Конечно, это предание, – сказал мне доктор.
И захотелось нам посмотреть озера и реки и как это плавают на них гробы. И пошли мы с доктором, взяли с собой удочки ловить окуней. Приятель мой, доктор, показал мне старую колокольню и лестницу, на которой убили князя.
Был серый день, и озера, на которые мы пришли, волновались свинцовой зыбью. Найдя удобное место на берегу, мы забрасывали удочки. Берега были покрыты густой порослью ольхи и сосновым лесом. Сбоку колыхался разбитый рыбачий челн. Поплавки удочек наших качались на бегущих волнах, синие тучи за лесом предвещали грозу. Ветер креп.
Поплавок пропал, и я вытащил большого окуня. Сажая его в саженку, я увидел, как от другого берега к нам по озеру двигается по воде темная куча камыша. За ней другая. Плывут. «Это, должно быть, короба», – подумал я. И какое-то неприятное чувство вошло в душу, когда они плыли к берегу, прямо ко мне.
Мы вынули удочки и увидели, что на озере плывут еще кучи темных островков. И все – к нам. Ловить было нельзя.
– Ишь, плывут короба, – сказал доктор. – Пойдем в чайную, тут недалеко, на дороге… К вечеру ветер стихнет, лучше будет ловиться рыба.
В небольшом трактире на дороге сели мы с доктором за стол у окошка, спросили чаю. Было видно в окно, как поднялась пыль на дороге и сразу хлынул дождь. Раздался отдаленный звук грозы.
К крыльцу подкатила повозка, и в трактир вошли трое – не то торговцев, не то зажиточных крестьян. Сели они неподалеку от нас за стол, тоже пить чай. Один из них, бородатый, средних лет, сказал:
– Не спорь, Савиныч. Как есть, написано: «Облачок, облачок, и нашел его дьячок». Во, гляди, дьячок нашел. На сорок третьем листе. – И он вынул из-за пазухи старую книгу Священного Писания.
– Пустое говоришь. Всё это зря, – перебил его человек с черной бородой. – Сказано, на шестьдесят пятой: «Яко тело свое омываешь водою банною, так омой ее любовию своей». И боле ничего.
– Не-е, – сказал третий. – Хоша бы мою Марью взять. Пущай ее в баню в субботу. Дабы в храм можно на праздник. А то погану поведешь. Не годится. Вот оно, что на шестьдесят пятой…
– «Облачок, облачок, и нашел его дьячок», – перебил его первый бородач.
– Пустое говоришь, – спорил второй. – «Яко тело свое водою банною…»
– Не свое тело, а ее надо в баню, а то…
– А чего «то»?..
– А то, что сказано. Блюсти надо.
Тихонько доктор мне говорит:
– Что это говорят? Не из коробов ли с озера повылезли? Вот, должно быть, эдакие-то идиоты князя Андрея Боголюбского и убили.
Как любили у нас говорить, где что сказано, где написано. Толстовцы ходили с его книгой под мышкой и читали барышням-толстовкам так внушительно, где и как у него сказано. И жили «по писанию». А в одном чудном имении, где я гостил, тамошний сынок, очень умный, начитанный, страшный спорщик, на всё, кто что ни скажет, протестовал, заявлял:
– Граф Этьен сказал: «От великого до смешного один шаг».
– Позвольте, – перебивали его, – это не Этьен сказал, а Наполеон.
– Ничего подобного, – горячился молодой человек. – Это Этьен… На триста двадцать второй странице… – И сынок бежал в библиотеку искать Этьена.
И выдумал один, в гостях у этих милых людей, тоже истины изрекать. Бывало, за чаем, на чудной террасе сада, скажет:
– Истинная любовь множит жертвы, лампадой чистою горя.
– Это кто сказал? – спрашивают все.
– Мериме, Жан. На сто тридцать второй странице.
Бегут в библиотеку, сынок ищет. Есть Мериме – только не Жан.
– Жаль, – говорит гость. – А у Жана так много истин.
Это хорошо, что так любили истины, сказанные великими людьми. Но еще сильнее любили у нас то, что запрещено. Напечатано, но запрещено. Вот это найти, прочесть, ну просто – радость безмерная. Запрещено цензурой – вот это-то и надо. Молодые девушки зачитывались до обалдения, ходили после такие умные, таинственные.
Один такой умный спрашивал меня:
– Прочли?
– Прочел, – отвечаю.
– Теперь вы будете влиять. Должны влиять, – сказал он мне поучительно.
Один родственник мой сказал мне:
– Равенство правовых субстанций есть мерило общественного сознания.
Я сразу увидел – «прочел».
– Валяй дальше, – говорю я.
– Абстрактные идеи масс не выявляют тезиса законченных прогнозов мышления.
– Замечательно, – говорю. – Это ты откуда?
– Это мой вывод…
И вот один такой пациент и принес запрещенную книгу тому моему приятелю, владимирскому доктору, который мне о князе Боголюбском рассказывал. Принес книгу в страхе и трепете. Книга – запрещенная. По-русски написана. Издание – Лейпциг. Сверху написано: «Долой камарилью».
Доктор прочел и сказал мне:
– Тощища. И почему запрещена – неизвестно.
Взял он у себя в библиотеке подходящую по размерам книгу. Попалась «Огород». И отдал он ее переплести переплетчику. Нутро всё запрещенной книги выдернул, а «Огород»-то вставить велел внутрь. Вышла книга с картинками.
– Вот у меня книжка, – говорил он знакомым. – Читать осторожней.
И сзади дома доктора, в саду, в бане, вечером читали, закрыв окошко, учительница его маленького сына, фельдшерица, ее племянник и другие, все читали.
– Ну что? – спросил доктор как-то за чаем. – Какова книжечка?
– Обман, – говорят ему все. – Там всё про капусту, репу, морковь, черную смородину.
– Вы ничего не поняли, – сказал мой приятель-доктор. – Надо между строк читать. Черная смородина – вы думаете, просто так смородина?.. Ан нет. Это черная сотня. Морковь – красное знамя.
– Я так и думала, – сказала фельдшерица. – Парники – это, наверное, дворянские институты благородных девиц.
Книгой стали зачитываться опять.
Его родственник как-то говорит мне:
– Там черт знает что написано, если между строк читать.
– А что же? – спрашиваю.
– Да про сорные травы!.. Все – вон. Это ясно. Обрезать всходы. Это – «долой камарилью»… Не всё, конечно, сразу поймешь. Нарочно запутано. Но когда вдумаешься серьезно, видно всё, что и как. Вот горох убирать на зиму в сухие помещения. Ясно, что это патроны для восстания.
Словом, книга имела успех.
Один какой-то из судейских, самых махровых политиков, долго думал над книгой и сказал:
– Ерунда! Тут ничего нет политического. Вас обманывают.
– Как! – завопили все. – Кто обманывает? Вы говорите как тупица. А красная и белая смородина, по-вашему, ерунда?
Судья опешил, взял книгу и сидел дня два в бане. Потом заявил, что согласен: намеки есть, ясно, особенно – где молодые всходы.
– А желтая и синяя репа? – стали его перебивать. – Это, по-вашему, что такое?.. Это жандармы, Третье отделение. Синий и желтый кант.
– Пожалуй, – согласился судья. – Отвезу-ка я ее в Москву… Там лидеры политические, мои друзья, всё разом расшифруют.
И увез. Только, возвращаясь назад, забыл он эту книгу на станции. Ну ее нашли и отдали железнодорожному жандарму. Тот посмотрел книгу, видит лук, морковь, капусту и подумал: «Отдам я ее начальнику, человеку старому. Он любит лук сажать у себя в огороде. Вот она ему и понравится».
Отнес он эту книгу недалеко, к начальнику. Тот начальник надел очки и вечером за чаем смотрел книгу. Картинки прекрасные. Только сбоку как много написано пером, карандашом. Когда он прочел, у него на лысой голове встали последние волосы дыбом.
И отнес он ее в управление. Там собралось начальство. Читают – понять ничего невозможно. На картинке клубника, хорошенькая картинка, а написано: «Российская проституция». Особенно задумались жандармы над хорошенькой картинкой. Решили отправить книгу в Петербург в центральное отделение политического сыска.
В управление, где лежала книга, зашел писарь и, увидев книгу, заинтересовался от нечего делать. Посмотрел картинки, увидел клубнику, засмеялся и сказал:
– Это, значит, не иначе как Шурка Кудлашка. Или Машка Клубника. – И написал сбоку «Верно» и расписался: «Иван Сученко».
Владимирское жандармское управление книгу отправило в Петербург.
Ну и пошла переписка с Петербургом. Писаря Сученко допрашивали:
– Ты знаешь эту книгу?
– Так точно.
– Это ты написал тут?
– Так точно. Я писал. Чего же, все пишут. Так что, это я писал.
– Кто это Шурка Клубника?
– Очень даже приятная проституция.
– Да ты смеешься, что ли! – кричат на него.
– Никак нет. Ее завсегда Клубникой зовут. Я у ней напереди всех. А другим не очень. Отхаживает.
– Да ты знаешь ли, сукин сын, – говорят ему, – что через твое тут писание нас всех под суд отдают.
– Никак нет, не знаю…
Под суд, правда, никого не отдали, а писарь Сученко под арестом сидел.
Вот и весь рассказ про русский «страшный» огород.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































