Текст книги "То было давно…"
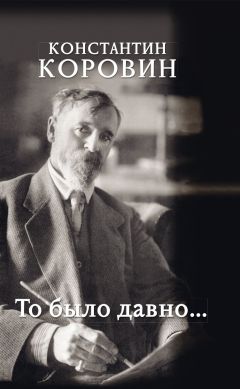
Автор книги: Константин Коровин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Племянница
Вспоминаю я одно лето в Москве. Была жара. С утра я работал в декоративной мастерской, которая помещалась на самом верху Большого театра. Она была под самой крышей, которая раскалялась днем. В таком пекле я чувствовал себя несчастным, думал – есть люди, живут на даче, в природе, купаются и пьют воду с лимоном и сахаром. Ух, как пить хочется.
– Василий! – кричу я. – Где сельтерская вода?
– Чего вода, – отвечает Василий. – Тута чисто в печке сидим. Усе бутылки лопнули.
– Ну-ка, сбегай поди. На вот деньги. Купи сельтерской и лимонной воды.
Василий уходит и скоро возвращается. Говорит мне:
– Вас внизу какой-то человек дожидается. Велел, чтобы вы сейчас вниз к нему спустились.
– Кто же он такой? Сказал он тебе?
– Ничего не сказал. Видать, что хромой. Ему сюда не дойтить.
– А лицо у него толстое?
– Чего вот. Прямо шар.
«Это Чича», – подумал я.
– Пейте воду и уходите все, – приказал я. – Приеду завтра в девять часов утра.
Переодеваясь, я видел, как радостно рабочие пили из горлышек бутылок. Мы вместе бежали вниз из душной мастерской.
Мой приятель Николай Дмитриевич Чичагов, судебный следователь, прохаживался внизу в вестибюле театра. Увидав меня, сказал, смеясь:
– Невозможная жарища. Как ты это можешь работать там, под небесами? Едем сейчас в Кусково, к Жеребкову. Там пруды – будем купаться, есть окрошку, а завтра вернемся.
– Я не знаю Жеребкова.
– Как не знаешь? Александра Григорьевича! Помнишь, ужинали в «Праге»? Ты же говорил – «остроумный человек». Человек замечательный, душа. Но строгий и теперь стал моралист, не любит пошлостей, анекдотов. Просил приехать к нему на дачу. Пишет мне, что соседняя дача там, в Кускове, его погубила. На этой даче живут какие-то люди, которых он раньше никогда в жизни не видал и не предполагал, что такие существуют на свете. Пишет: «Приезжай и спасай меня; они отняли у меня мою племянницу».
– Какую племянницу? – спросил я.
– Очень милую, молодую, которой он в свои преклонные годы отдал всё внимание, заботы и гордится ею. Знаешь, так бывает, надо же для кого-нибудь жить.
Вспомнил я Кусково, деревянные купальни на тихом пруде, где до воды спускались огромные ветви ив, где кричит иволга и пахнет липой и водой.
– Поедем, Чича, – согласился я.
Тарахтим на извозчике на Курский вокзал. Чичагов, закрывая глаза, весело смеясь, говорит:
– Понимаешь… «Дача полна исключительно аморальными людьми», – так и пишет.
– Что же это за люди?
– Жеребков говорит, что какие-то юноши и женщины. Приезжают ночью или поздно вечером, и начинается черт знает что. Каждый день именины, рождения, кутеж, пляс, пение, и поют такую ерунду:
Генерал-майор Батьянов,
Ах, Батьянов генерал!
Генерал-майор Батьянов,
Да Батьянов генерал…
И так всю ночь… Он говорит: «Вынести невозможно, хочу уезжать». Стой! – крикнул Чичагов извозчику. – Зайдем в лавочку, невозможно, пить хочется.
На Садовой, около загородки, где акации жалкого сада покрыты пылью, вывеска «Овощная лавка».
В лавке пахнет капустой и керосином. За прилавком лавочник в фартуке, облокотясь, разговаривает с околоточным. Тот хрипло говорит сквозь зубы, а на губах блестит квас:
– Никакого покоя нету, а в эдакую жару пьет кто что. И столько народу пьяного…
– Зельтерской нету, – говорит мне лавочник. – Выкушайте говоровский квас хороший, в жару этакую оченно хорошо.
– Это верно, – вставляет околоточный, – им одним, верите ли, ей-Богу, спасаюсь… Вот жара какая…
На террасе дачи Александра Григорьевича, к которой мы подошли, какой-то человек в чесучовом пиджаке, увидав нас, посмотрел с испугом и ушел на верх дачи.
Мы вошли на террасу, постучались в дверь.
Слышим голос:
– Что вам угодно?
– Дома Александр Григорьевич?
Молчание. Потом спрашивают оттуда:
– По какому делу?
– Скажите, что Чичагов приехал.
Дверь отворилась.
– В чем дело, любезный? Я приглашен. Он дома? – спрашивает Чичагов.
– Дома, – отвечает человек мрачного вида, – только я-с не «любезный», а инженер путей сообщения. Идите, он там, – указал он на дверь комнаты и ушел.
Дверь заперта. Мы постучали. Дверь немного приоткрылась, и выглянул Александр Григорьевич. Он как-то особенно разглядывал нас, испуганно. Это был человек высокого роста, полный, лысый. На висках торчали седые волосы, и ярко и испуганно светились серые глаза. Лицо было красное, губы опустились вниз, и выражение было какое-то лошадиное.
– Входите, входите, – сказал он тихо.
В небольшой комнате окно было завешено пледом. На столе горела лампа, лежал большой букет роз, обернутый прозрачной бумагой, коробки конфет, перевязанные лентами, конверты, бумага. Видимо, хозяин писал и был озабочен.
– Рад, что приехали, – сказал он. – Окрошку заказал. – И, отвернув плед у окна, послушал, водя серыми глазами во все стороны. – Примолкли, сукины дети, заскучали… Ага… не нравится… – сказал он, показав пальцем в направлении соседней дачи. – Понимаете ли, прислугу подкупил. Кто эти, – спрашиваю у ней, – аморальные прохвосты, которые здесь живут? Прислуга-дура – не знает: Говорит – студия. Странно… какая студия? Не знает. Но я всё узнал, все имена и фамилии этих их дам. Ну и устроил им праздник. Заскучали голубчики… растерялись немножко… Ходят как в воду опущенные… ха… ха… – И он, покраснев, смеялся.
– А где Надежда Ивановна? – спросил Чичагов.
– Уехала, – ответил Жеребков озабоченно, – к тете уехала. Дача эта. Говорю ей: «Ведь это подонки общества, морали никакой. Подумай, что поют». Представь, а она мне отвечает: «Как весело там!» Понимаешь? Но я с нею битых три часа говорил, доказывал, говорил о прогрессе, цивилизации и в конце концов убедил ее. Убедил. Согласилась наконец и уехала отдохнуть от этого соседства…
– Ну, брось, – говорит Чичагов. – И что ты сидишь здесь один взаперти?
– Работа, брат. Пишу. Пишу письма. Женщинам. Их женщинам, понимаешь. Любовные письма пишу. Посылаю каждый день письма, конфеты… От любовников, понимаешь. Сочиняю, меняю руку. Смотри – сколько… – И он поднял пачку писем на столе. – Утром рано еду в Москву и раздаю знакомым, чтоб передали – кто куда едет. Кто в Киев, Одессу, Петербург. А оттуда они приходят сюда, к ним… Рассылаю конфеты, букеты их барышням… Всё изменилось. Перестали петь. Уже неделю молчат. – И он опять приоткрыл плед и послушал, сказав: – Молчат… Не нравится, значит. Вот увидишь, всех перессорю. Как в банке пауки перегрызутся. Погодите. Тонкая, брат, работа… Ни в одном деле никогда не был так занят, как теперь.
– Ну, брось, – сказал Чичагов. – Пойдем купаться.
В пруду, как в зеркале, отражаются большие деревья, и вечернее солнышко освещает деревянные купальни. Мы прошли по мостику. В купальне пахло водой. На деревянных лавочках одевался какой-то кудрявый молодой красавец высокого роста. Он элегантно завязывал галстук. Надев шляпу и взяв трость, он прошел внутрь купальни, согнулся и смотрел в щелочку соседней купальни. Обернувшись к нам, он весело позвал рукой, сказав:
– Сосед, пойдите сюда.
Александр Григорьевич подошел.
– Посмотрите-ка, – сказал молодой человек, – купаются… Прехорошенькая одна… Интересно. Это я дырочку провертел… – И франт рассмеялся.
– Это что же вы делаете, милостивый государь, – сказал Жеребков строго. – А знаете ли, какая за это ответственность; 136-я статья Устава Особого положения и 232-я Уголовного…
– Пустяки, – сказал, смеясь, молодой франт.
– То есть как – пустяки? Позвольте, позвольте… А если моя жена купается?
– Ерунда. Какая жена. Жена неинтересна, немолода… Вот племянница ваша очаровательна… Я прямо влюблен. Красота. Афродита…
– Какое же вы имеете право?! – говорил, задыхаясь, Жеребков.
– Какое право? Бросьте ерунду. Я теоретик искусства, эстет… Вы же не понимаете красоты. У вас нет возвышенных чувств… Купаетесь с пузырями… Вас не восхищает красота. Вы не эллин, а обыватель… – Он, проходя, сказал мне тихо, смеясь: – Ну и сердитый сосед у нас – я ведь всё нарочно, там никто и не купается.
– Видели? – говорил Жеребков, волнуясь. – Вот этот голубчик с соседней дачи. Какова скотина, а? Слышали, а она с ними познакомилась. Странное время… Нравы – ужас!
Вечером на террасе дачи сидим за столом и едим окрошку. Уже спустились сумерки, на столе горит лампа. Тихо, слышно только, как трещат в траве кузнечики, и пахнет сеном.
На соседней даче послышались голоса, веселый смех и звуки гитары. Жеребков насторожился. И вдруг женский голос запел:
Раз один повеса, Вроде Радомеса,
Стал ухаживать за мной.
Говорит: люблю я,
Жажду поцелуя!
Ну, целуй, пожалуй,
Черт с тобой…
Александр Григорьевич побледнел, опустил ложку и водил глазами во все стороны.
Голос пел:
Дум высоких, одиноких,
Непонятны мне слова.
Я играю, слез не знаю,
Мне все в жизни – трын-трава.
И мужские голоса подпевали: «Ей всё в жизни трын-трава…»
Жеребков встал, бросил салфетку и быстро сказал:
– Едемте, едемте сейчас, едемте в Москву…
Он переоделся и взял под мышки портфель, спустился с террасы и быстро пошел на станцию. Мы пошли за ним. Рядом со мной инженер путей сообщения.
Он мне тихо сказал:
– Вот… Умный человек… мораль одолела. А ведь голос-то – ее! Это племянница пела…
Когда, спеша, мы шли на станцию, были слышны смех и пение с соседней дачи. Мне хотелось вернуться туда, где пели эту ерунду: это веселье сливалось с летней ночью какой-то правдой и радостью жизни.
Прошли годы. Весной утром приехала ко мне высокая молодая женщина – на лице ее были горе и слезы, – и сказала:
– Прошу вас, Коровин, поедемте, попишите его, его часы сочтены.
Я взял холст, краски и поехал с ней. Дорогой купил пучок фиалок.
Худой красавец, еще молодой, лежал на постели. Я положил фиалки к его красивым бледным рукам. Он пристально смотрел на меня, когда я писал. В его прекрасных глазах была видна смерть. Вдруг я увидал – это он, тот франт, который был в купальне в Кускове…
Я сказал ему:
– Помните купальню в Кускове?
Он как-то горько улыбнулся.
На другой день я приехал и увидел у подъезда большую толпу молодых артистов. Прекрасный режиссер Вахтангов умер.
Первая любовь
Был у меня приятель, человек здоровый, роста богатырского, лицо такое серьезное, а сам веселый, смеялся как-то особенно: закрывались его желтые глаза, лицо краснело, и, бывало, так и закатится смехом. Был он архитектор, и звали его Вася. Страсть у него была к рыбной ловле на удочку.
Летом он приехал ко мне в деревню, один, никого не захватил с собой. А в деревне у меня гостил в это время другой приятель, доктор Иван Иванович, доктор хороший, клинический врач. На кожаной куртке всегда носил большой знак доктора медицины. Человек был тоже очень серьезный. Лицо такое ровное, блондин, глаза светлые. Большие баки, расчесывал ровно. Любил живопись. Картины смотрел долго, бывало, скажет: «Да, это не наука…»
Приятель Вася что-то был очень мрачен. Взял стакан чаю и сел у окошка. Глядел в зеленый сад, где звенели малиновки. Хорошо летом в деревне.
– Что, – говорю я, – что с тобой, милый Вася? Ты как день неясный, опечалился чему?
– Да, да-с, – сказал он, опустив голову. – Если бы вы, Константин Ликсеич, были человек серьезный, я бы вам рассказал, а то у вас всегда всё шуточки, а ведь жизнь серьезна. В ней так нельзя, шуточками всё. Приходится подумать. Не знаешь, что и откуда приходит. Вот женщин возьмите. Знаете ли, что они все с гандибобером?
– Как, Вася, что это, гандибобер?
– Вот видите, я серьезно говорю. А вы на шутку хотите поворачивать. Я уже вижу, с вами нельзя сурьезно говорить ни о чем.
– Слушай, Василий Сергеич. Постой. Я, честное слово, не знаю, поверь мне, что такое гандибобер.
– Тогда что же с вами говорить. Вы не знаете ничего. Софья моя была женщина хорошая, правда. А вот, черт знает, что с ней сделалось.
– Что же сделалось?
– Но вот послушайте. Увидите, что.
– Что же, Вася, случилось?
– А то – узнать ее нельзя. Я думал, что нездорова. Нет, не поймешь. Знаете, что она мне сказала?
– А что?
– А то. Вы, говорит, на меня смотрите как на самку. Я думаю: что такое? «Какую самку?» – спрашиваю. А она молчит.
Доктор Иван Иванович встал с тахты. Близко подошел и пристально посмотрел на приятеля Васю.
– А ко мне по делу, – продолжал приятель, – приехал клиент. Я архитектор ведь, дело большое. Всё раньше было обдумано, переговорено. Ну и говорит мне: «Сегодня всё кончим. Приезжайте в ресторан “Прага”. Там мы подпишем условия. Жена моя там будет и зять. Я вас познакомлю с ними».
Деньги-то на постройку у отца. Он мне говорит, а у меня в голове «самка». Сами посудите, расстроился я. И не знаю, почему я и скажи клиенту: «А вот вы на жену как на самку смотрите?» Он встал, скоро простился и уехал. А через полчаса записку присылает – обед откладывается. Ну, хороша штучка?..
И Вася смотрел на меня, прищурив один глаз.
– Пустяки, – успокаивал я приятеля. – Мало ли что. Ну ей кажется, что ты мало отдаешь ей души. Вот уезжаешь от нее.
– «Уезжаешь». Она терпеть не может деревни. Я звал ее, дак не едет! Говорит – тощища.
– Любишь физически, – сказал доктор.
– Позвольте, позвольте, – горячился приятель Вася. – Что такое «души», «физически»? Вот вы, как и она, ерунду порете. Я-то понял, в чем дело.
– В чем же, Вася?
– Ав том, что она в библиотеку записалась. Да-с. И спрашивает меня: «Тебе нравится Катюша Маслова, из Толстого, “Воскресение”?..» Я ей отвечаю: «Нет, придумано. Да и в чем дело?» – говорю ей. Мы раньше читали на даче. А она мне говорит: «Раньше я не понимала, а теперь поняла». И ночью спрашивает меня: «Кто я, по-твоему? Лиза из “Дворянского гнезда” или Вера из “Обрыва”?» Я ей говорю: «Вот что, Софья, прошу тебя, не сделайся ты дурой из Чистопрудного переулка» (я живу у Чистых прудов). Вот вам смешно, а мне совсем не шутки. Понимаете, начиталась. Так озлилась, что уехала от меня к своей матери.
– Неужели на нее так влияет прочитанное? – говорю я.
– Бывает, – вставил доктор Иван Иванович. – Вы говорите, прочитанное влияет. Вот как влияет… Государь приезжал на днях в Москву, знаете ли, войну объявлять. Так вы не заметили, как вся Москва разыгрывала «Войну и мир» Толстого?.. Прочтите-ка первые страницы, не заметили? Да-с. Не заметили? Много есть таких. Прочтут, начитаются и дудят в одну дудку Что прочитал – таким и ходит. Умным таким. А своего ничего нет.
– Не знаю, ничего не вижу тут особенного. Женщина спросила, к какому типу она подходит, – сказал я. – Пустяки, не обращай внимания, Вася.
– Э, да-с. Вы так думаете. Вот и вы финтите, а художник. Какая ерунда получается. Не обращай внимания, говорите. Не обращайте. А вы после этого будете в дурачках ходить у ней. А мне что-то не хочется.
– Верно, – заметил доктор. – Не годится.
– Прав, – сказал Вася, указав на доктора. – Как Софья сказала мне, не знаю, почему, я вспомнил одну Ольгу. Раз я видел ее. Знаете, я взял да к ней и поехал. «Вот, – говорю, – что вышло со мной». А она слушает меня, пристально так смотрит. А я ей говорю: «Я еду к вам, на рыбную ловлю, на Глубокие Ямы. Как хорошо там, на реке». Ольга и говорит, так особенно говорит: «У вас сейчас глубокая яма. Тут, – и положила мне на грудь руку. – Это, – говорит, – вы хорошо придумали, но не всё. Возьмите, – говорит, – меня туда с собой. Или я приеду». Я удивился. «А мать что скажет? Брат и все?» – «Ничего, – говорит, – вы приятелям скажете, что обнову нашли».
В это время пришел крестьянин-рыболов Павел.
– Здрасте, Василий Сергеич, – говорит Павел. – И вот хорошо, в самый раз в Ильин день приехали. Глядел я с горки, на Глубоких Ямах, что сомов играет! Под грозу, знать. Плескают весь омут. Один, ух, здоров, видал я, пудов на восемь. Вот с тебя будет. Боле.
Василий Сергеевич открыл глаза и вдруг сказал:
– Его на утку ловить надо. Знаешь, Павел, на галку жареную поставим, на воробьев. – И Вася, взяв ружье, пошел с Павлом стрелять галку и воробьев.
Пропал Вася на Глубоких Ямах. Прошел день, другой – его нет. Я обеспокоился. Приехал Павел, на лошади и говорит:
– Василий Сергеич приезжать велел на Глубокие Ямы. Ух, и сома поймали. Здоров. Барыня с ими там. Она пымала.
– Я поехал с доктором. У большого леса, который шел в гору, лежали, как зеркала, Глубокие Ямы. С одной стороны из воды, где отражался темный лес, выглядывали бревна старой разрушенной мельницы. Иван-чай лиловыми цветами высился над водой.
Сбоку, у берега, стоял старый сарай, из которого вышла поразительной красоты юная женщина. Светлые волосы, как лен, ложились на щеки, солнце освещало добрые голубые глаза.
Когда я подошел, она, покраснев, сказала:
– Посмотрите, какого я поймала.
Я рассмеялся. Она протянула мне руку, смеясь, говорила:
– Да нет, другого. В воде. Пойдемте. Я ждала показать вам. Я его пущу опять на свободу.
Из сарая вышел Вася:
– Пойдемте, пойдемте. Смотрите, какая штука. Вот так черт.
Когда мы подошли к берегу, девушка потянула веревку и показалась огромная голова сома.
Ольга близко подвела сома к берегу и, наклонясь, говорила:
– Сом, а сом! Я тебя поймала и вот пущу опять. Ступай туда, в омут, к водяному. Когда мне будет плохо, скажи ему, слышишь, сом, а сом! Скажешь?
И странно было видеть это красивое лицо девушки рядом с мордой чудовища, которое смотрело на нее маленькими белыми глазками.
Она отвязала веревку, сказала «Ну, иди», – и толкнула морду рукой. Сом повернулся, пошевелил лентами на своей спине и медленно пошел, пропал в глубине.
В разговоре с сомом в Ольге было что-то красивое и детское.
Доктор Иван Иванович поехал вместе с Ольгой Александровной, а я и приятель Вася пошли пешком.
– Знаете, что, – говорит мне дорогой Вася. – Понять не могу, что со мной. Вот первый раз в жизни чувствуешь, вот в этом месте, – показал он на грудь, – такое чувство красоты, счастья, радости, что никогда у меня не было раньше. Похоже было как-то вроде, когда слышал сонату Шуберта. Но это сильней. Что-то, что не пойму. Так хорошо. В этом месте, вот тут, – показал он на грудь. – Должно быть, тут душа находится.
– Вася. Ты, должно быть, влюблен.
– Что вы, – испугался Вася. – Вот так штука. Никогда не было раньше. Заметьте, всё кругом, всё – лес, небо, дождь шел, – всё по-другому, всё в какой-то неведомой красоте. Всё не так. Всё по-другому. Вот я смотрел, как ходит Ольга. Как она красиво ходит. А она посмотрела мне в глаза, и вдруг вот тут, внутри у меня, сделалось так хорошо, и я поцеловал ее в голову. Подумайте, я сплю на сене, и она близко… А я утром, когда умывались с ней у реки, руку робко поцеловал. Только и всего, что смотрел. Увидал, что она какая-то другая, и так мне хорошо, так хорошо, как никогда не было.
Я увидел, что глаза его наполнились блеском слез.
– Что ты, Вася?
– Простите. Это я так, – сказал он, вытирая платком глаза. – Это первый раз со мной в жизни. – Слушайте, Константин Алексеевич. А не эта ли штука, которая вот тут, внутри у меня, – называется любовь?
– Да, Вася, должно быть, – засмеялся я почему-то. – Это и есть любовь. И представь, притом мне кажется, что у тебя – первая.
– Неужели? – И он, сев на землю и закрыв глаза, смеясь, сказал: – Вот так история. И что они надо мной разделывают – понять невозможно…
Собачий Пистолет
Помню, как-то летом, рано утром в деревне, слуга Ленька подал мне телеграмму:
Вот принес сегодня в ночь со станции сторож Петр. Опоздал маненько. Говорил, что шел после дежурства домой. Так вот на Ремже, у мельницы, только плотину хотел перейти и видит – какой-то мохнатый сидит на мосту у плотины. Увидал Петра-то да так с плотины в омут а-ах!.. Петр думает: «Чего это?» А у его фонарь с собой, он ведь сторож железнодорожный, путь осматривает, ходит с фонарем-то, привык… Он и подошел, где лохматый сидел, и видит: гармонь лежит на мосту, поддевка и четвертной штоф. Он понюхал бутыль, слышит – вином пахнет. Думает: «Глотну». И глотнул разок да и другой, третий… Видит, водка. Нутро у него в радость ударило. Думает: «Чего же это человек в омутину бросился, меня, что ли, напугался?» Поставил бутыль. «Уйду лучше, – думает, – от греха, а то в ответе бы не быть, кто его знает – может, утопился…» Только уйти хотел, а тот ему из омута и кричит: «Что, хороша водочка-то чужая?!» А Петр ему: «Чего чужая, а ты там, в омуту, почто сидишь? Вылезай». Тот вылез, а у его в мешке рыбы что… Это он руками из нор линей здоровых таскает. Глядит Петр, а у его в сквозь волосья – рога кажут… Петр-то думает: «Батюшки… да ведь это водяной…» И от его бегом. Вот и опоздал по тому случаю – с телеграммой.
Покуда Ленька рассказывал, я прочел телеграмму. Написано: «Приедем, вторник. Дог, Николай, Павел, доктор Собачий Пистолет». Подписано: Юрий.
«Что такое, – думаю. – Дог – это Василий Сергеевич, его так назвали за высокий рост и дородство. А вот доктор Собачий Пистолет – непонятно…»
– Да ведь сегодня вторник?
– Вторник, – говорит Ленька. – Эвона! – закричал он, глядя в окна. – Едут, в ворота заворачивают. – И побежал встречать гостей.
Приятели приехали немного озабоченные, с ними новый их знакомый, которого я однажды видел в Москве, в Литературном кружке. Он подошел к нам, когда я ужинал с Сумбатовым, и что-то часто и много Сумбатову говорил. Он писатель – пишет в журнале «Женское дело». Он так скоро говорил, что у него слово за слово застегивалось: «Женское дело» он произносил – «женское тело».
Из себя он был высок, худ, блондин, волосы длинные, приехал в черном сюртуке. Приятели мои все переодевались полегче, так как стояли жаркие дни. У Юрия Сергеевича рубашка шелковая, ворот обшит красными и голубыми петушками, огромный живот перепоясан пояском от Троице-Сергия. Коля Курин остался в белой крахмальной сорочке, но тоже для приличия опоясался ленточкой: ему дала тетенька Афросинья. Доктор Иван Иванович в чесучовой паре. Павел Александрович в зеленом охотничьем камзоле. Василий Сергеевич в шерстяной кофте, на которой штемпель профессора Егера.
– Потому в Егере, – сказал он, – что у меня хронический ревматизм.
Новому знакомому – писателю – я предложил красную кумачовую рубашку. Надевая ее, он сказал скороговоркой:
– В первый раз надеваю эту красную азиатскую рубашку палача… Но что делать, жаркое лето.
Было чудное утро. На террасе моего деревенского дома сидели за чайным столом мои приятели. Чай со сливками, клубника, малина, мед, оладьи.
Шут меня угораздил, взял я со стола из своей комнаты телеграмму и говорю Юрию Сергеевичу:
– Что такое в телеграмме, я не понял, написано: «Доктор Собачий Пистолет…»
И вдруг новый приезжий, писатель, вскочил из-за стола, побледнел, сморщил брови, глядел то на меня, то на Юрия Сахновского.
– Это что такое еще? – сказал доктор Иван Иванович. – Какой собачий пистолет? Я собачий пистолет? Это что еще?
Кругом все засмеялись. Тогда новый знакомый, подойдя ко мне, взял меня под руку, потянул в дверь, внутрь дома. И часто, запыхавшись, заговорил:
– Я… я… Я приехал к вам с этим господином… Невозможно, культуры нет, понимаете… Нет! Глубоко сидит татарщина. Еще Шекспир сказал, то есть Толстой: «Горе невежества…» Я не позволю… Я приехал спасти вас от этих варваров. Вы не понимаете, кто они. Узнаете, но будет уже поздно… Сегодня в вагоне этот субъект, когда ехали, смел сказать про мою жену, окончившую Бестужевские курсы: «Она с придурью…» Как вам нравится?
Он, глядя на меня, говорил без остановки, и с губ брызгали слюни. Глаза вертелись во все стороны. Говорил и останавливался, сложив руки, смотря на меня.
– Успокойтесь, – сказал я, – в чем дело? Это они так… – Наливаю ему из графина стакан воды: – Вот выпейте, успокойтесь, дорогой…
– Я не дорогой, у меня есть имя – Василий Эммануилович. Я в литературу несу и внес, а он смеет мне говорить: «А жаль, что с вас Шишкин не написал дубовую рощу…» А? Как это вам нравится? У меня цепочка на жилете золотая, он спрашивает: «Золотая цепочка?» Я говорю: «Золотая». А он говорит: «Златая цепь на дубе том…» А? Подумайте… – И он выпил залпом стакан воды: – Азиатчина.
– Ерунда, – говорю я ему, – Юрий шутит и надо мной тоже… Вот и в телеграмме написал: «Доктор Собачий Пистолет».
Я пошел на террасу, он встал и пошел за мной. Как только мы показались на террасе, Юрий Сергеевич сказал, показывая на нового приезжего:
– Он ничего. Горяч. Только вот говорил, что жена у него дура была.
Новый знакомый только что взял в это время Ягодину клубники в рот. Он поперхнулся, побледнел, захрипел. Доктор Иван Иванович вскочил, поднял ему голову кверху и стал бить кулаком по спине. Писатель закричал:
– Не позволю! Молчать!
– Ладно, – сказал доктор. – Прошло. А то ведь ягода проскочит в дыхательное горло, ну и ау!
– Я не позволю мою жену!.. – кричал новый гость. – Милостивый государь, моя жена!..
– Какое ты имеешь право, Юрий, женщину при мне называть дурой? – встав и подняв высоко брови, сказал Павел Александрович.
– Что это значит – при мне? – быстро вставил новый знакомый. – Кто вы такой, милостивый государь? А при мне?! Я – муж! Что значит «при мне»? Кто вы? Потрудитесь мне объяснить.
Трудно было что-либо разобрать: все говорили, все кричали. Вдруг около террасы раздался зычный голос Василия Сергеевича:
– Ленька, качай!
И всех нас окатила пожарная кишка. Юрию попало прямо в рот. Поливало всех: и нового знакомого, и милого Николая Васильевича, который кротко молчал.
– Я не позволю! – еще кричал новый гость. – Что же это у вас делается?
– Вали, вали! – кричал Юрий. – Полей меня, Вася, еще. Отлично. Лето… Эх, жизнь, красота!
Коля Курин тихо говорил мне, вытирая салфеткой шею и голову:
– Зачем это Юрий привез к тебе Собачий Пистолет?
– Так это он Собачий Пистолет? – спрашиваю я. – Почему?
– Он так часто говорит – как лает. Ну его Барошка в кружке и прозвал. Его теперь все так зовут. Он обижается ужасно…
Странно, но после того как Василий Сергеевич полил спорщиков, все стали покойнее, легче.
– Ты не знаешь, Юрий, отчего это умные люди всегда такие сердитые? – спросил Василий Сергеевич. – Вот вы, – обратился он к новому знакомому. – Чего вы всё сердитесь? Всю дорогу сердились и теперь обижаетесь. Вы писатель, ну и пишите. Столько ерунды написали. А надо жить уметь хорошо, весело. Не надо сердиться. Юрий – ведь он все зря говорит, а вы, дорогой, приехали в деревню – тут радость, отдых, рай…
– Позвольте вам сказать: я не «дорогой», у меня есть имя и отчество – Виктор Эммануилович. – И Собачий Пистолет, посмотрев на всех с презрением, встал и ушел с террасы.
Юрий, смеясь, говорил:
– Он мне рассказывал, что жена его была хозяйка, любила хозяйство, а он писал роман под названием «Вперед». Однажды она без него рукопись взяла и сожгла, растапливая плиту. Он с ней разошелся – она ушла от него. Я сказал: «Должно быть, она была того… дура, хотя, может быть, и хорошо, что сожгла ваши рукописи». Вот он и взбесился на меня.
– И ты давно его, Юрий, знаешь?
– Нет. Только по кружку встречал.
И мы все пошли купаться на речку.
После купанья, за завтраком, пришел крестьянин-охотник, приятель мой Герасим Дементьевич, со всеми поздоровался – «С приездом вас» – и, посмеиваясь, сказал:
– Вот пришел, а со мной Шурка-телеграфист со станции. Он тоже по охоте мастер и рыбу ловить. Оченно ему охота поглядеть на Собачий Пистолет, что в депеше прочел…
Мой новый знакомый опять вскочил. Приятели ржали, как лошади.
– Давай кишку, Ленька! – крикнул Василий Сергеевич. – Давай кишку в окно!
Нас снова полили. Подействовало, все сразу успокоились.
– Это ведь верно – водой надо, – сказал Иван Иванович.
– Вот видите, – сказал новый знакомый. – Кто вас окружает?! Проснитесь! Неужели Репин, Айвазовский, Маковский могли бы жить в такой компании, допустить такое снижение идеала?..
– Маковский и Айвазовский? – лукаво и полувопросительно сказал Юрий Сергеевич. – А Шишкин, наверное, написал бы с вас дубовую рощу…
– Ну и барин, сердит… – говорила, качая головой, тетушка Афросинья, – вот сердит… Ежели бы прежнее-то время, всех бы он выдрал вас на конюшне…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































