Текст книги "Сага о стройбате империи"
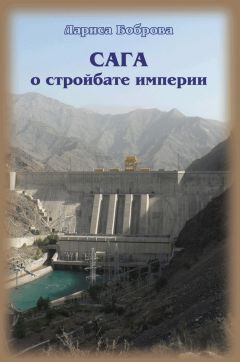
Автор книги: Лариса Боброва
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
33. Свои действительно очень кричали
Едва Терех открыл рот и произнёс:
– Несмотря на все сложности со спуском воды, о которых вы знаете, нам предложено развить нашу деятельность в этом направлении и спустить водохранилище полностью, – крик поднялся действительно необыкновенный.
На предложение Тереха всё же выслушать представителя ЭПРОНа, уже ознакомившегося в общих чертах с сутью работ, первым взорвался Тарханов со своим: «Зосим Львович, зачем так сложно?» и пятнадцатью более простыми способами взорвать ГЭС к чертовой матери. И понеслось:
– Ирригаторы не вложили ни дня, ни копейки!
– Сизифов труд!
– Рано или поздно, не в этом году, так в следующем, им придется смириться с мыслью, что минимальный объём водохранилища должен оставаться!
– Они еще не созрели для такой глобальной мысли!
– А мы будем самовзрываться, пока они зреют!
– Лес рубят, щепки летят!
– Это не взрыв, это диверсия!
– В том, что нам хотят навязать, нет элементарного здравого смысла!
Терех тем временем вытаскивал из пачки четвертушки бумаги для заметок и машинально мастерил из них самолётики, складывая бумагу углом, разравнивая сгибы ногтем. Когда самолётик был готов, он складывал его гармошкой от носа до хвоста и принимался за следующий.
– А затыкаться как?
– Всегда надеются, что кто-то ляжет грудью на амбразуру, заткнет пальцем дырку в плотине…
– И такой всегда находится, вот ведь!
– А нужно не взрываться! Встать перед плотиной… А что? Нас же пятнадцать тысяч! Целая армия!
– И её не будет.
– И скажут, что и не было.
– Ты и детей посчитал?
– Не так однозначна ситуация, чтобы становиться перед плотиной… Немного не та…
Зажав очередной самолётик в кулаке, Терех ударил им по столу и, тряся зашибленной рукой, сказал:
– Думаю, мы всё же выслушаем представителя ЭПРОНа.
Владимир Ильич Минервин, невысокий, интеллигентного вида человек в очках, мало похожий даже на бывшего водолаза, сидел, втянув голову в плечи, и с растерянной полуулыбкой переводил взгляд с одного лица на другое, в зависимости от того, какое кричало громче.
– Положение сложное, – сказал он всё с тою же полуошеломленною улыбкой, – Но не совсем безнадёжное. Замена электромоторов на гидравлические займет примерно неделю – там глубина метров сорок. Дальше – хуже. Глубина шестьдесят метров, тросы сняты, гидравлические моторы работают медленно. Организовать постоянное дежурство у проушин вряд ли удастся, – он говорил медленно, негромким голосом. – Очень большая глубина, и чем дольше человек сидит под водой, тем больше время отсидки в кессонной камере. Время её увеличивается в геометрической прогрессии, иначе кессонка, кессонная болезнь… Пока у нас одна кессонная камера, но даже если подойдёт водолазный бот, то… Чёрт его знает, но без определённой доли удачи, боюсь, на это потребуется слишком много времени.
– Значит, подъём затвора вы не гарантируете? – вскинулся Лихачёв. Похоже, это единственное, что его интересовало.
– Мы постараемся. Сроки нехороши.
– А если затвор не поднимут, то…
– Его взорвут! – сердито сказал Терех.
Снова погалдели.
Потом выслушали взрывников и покричали ещё, пока не встал Лихачёв и, возмущенно сверкая глазами, не сказал, что менее всего ему нравится позиция начальника, который сложил руки и решил, понимаете, капитулировать. Что пока есть хоть один шанс из тысячи, чтобы отговорить высокую комиссию от столь рискованного мероприятия, нужно сопротивляться. И он бы хотел, чтобы начальник присоединился к установке на сопротивление или хотя бы не мешал.
– Движению сопротивления.
– Нет этого шанса, – сказал Терех.
– Всё равно! Надо упираться до конца! До приказа!
– Когда будет приказ, будем думать, как его выполнить! А сейчас надо думать, как этот приказ не допустить!
Терех огляделся вокруг, остановил взгляд на Вебере, тоже взъерошенном, но не принимавшем участия в общем крике и никак не выразившем своего отношения к происходящему.
– Ты-то что думаешь, Владимир Дмитриевич?
– А барахтаться надо всегда, – неожиданно твердо сказал Вебер. – Помните лягушку, которая взбила масло? Она барахталась до последнего, хотя и знала, что из крынки ей не выскочить. Всё-таки барахталась.
Они ещё не могли поверить в то, что это может произойти. Расчет Тереха на психологическую подготовку явно проваливался.
– Мы будем упираться до конца!
– Хоть рогом!
– Как дети, – тихо сказал Степанов Шкулеповой, уже было поверившей в эту тысячную долю. – Но молодцы.
У обычно скептичного Шамрая тоже блестели глаза.
– Есть шанс у женщины! – хохотнул он. – Хотя его и нет.
– Ты имеешь в виду стройку?
– Только никаких воплей насчёт «ни рубля, ни копейки», – сказал Терех. – Защита должна быть корректной, инженерной и грамотной.
Для выработки стратегии и тактики сопротивления было решено перейти в кабинет Лихачёва. Встали, задвигали стульями, возбужденно переговариваясь, двинулись вон. Тарханов вдруг заинтересованно остановился перед Терехом, уставился на кучу смятых самолётиков перед ним, возмущённо спросил:
– А где же ваши чётки, Зосим Львович?
Терех пожал плечами.
– Может, завалились куда? – Тарханов с готовностью нагнулся, присел на корточки.
– Да уже обыскались, – раздраженно сказал Терех. – И дома, и здесь…
– А в машине? – Тарханов, прижав щеку к полу, заглядывал под тумбы стола.
– И в машине.
– Хорошо искали? – спросил Тарханов из-под стола. – Не надо было терять. Точно хорошо искали?
– Отстань! – сказал Терех. – Вылезь оттуда!
* * *
В приемной опорожняли самовар, поставленный Машей, толпились вокруг с чашками в руках и навешенными на пальцы сушками.
– Люся! Не уходи! – крикнул Лихачёв остановившейся у двери Шкулеповой. – Перед кем мы выпендриваться будем?
– Он хочет сказать, – фыркнул Шамрай, – перед кем он выпендриваться будет!
Степанов и Шкулепова вопросительно посмотрели на Шамрая.
– Ты-то что думаешь? – спросил Степанов.
– А чёрт его знает. Но я вспоминаю паводок шестьдесят девятого, когда уже был котлован и шёл бетон. Прогнозы на катастрофический паводок были известны с зимы, и всё говорилось, что надо бы нарастить перемычку, но у Хуриева с Тархановым всё руки не доходили. Нормальный ход событий, наша природная леность и расчет на авось… Пока вода не подперла так, что пришлось наращивать перемычку трое суток без передыху. Я ни до, ни после не видел, чтобы так работали: тут же резали арматуру, тут же варили, тут же наращивали опалубку и закрывали её тут же свариваемой пленкой, подсыпали дорогу… И так трое суток. Даже когда менялись бригады, один просто брал из рук другого электрод, вибратор, и всё… На третьи сутки у Тереха не выдержали нервы, и он потребовал снять людей: «Это опасно! Смоет всех к такой матери!»
– И ещё кричал: «Внизу Ферганская долина!»
– Точно. С патетическим жестом в сторону долины. И тогда Лихачёв ухватил его под руки, втащил в вагончик и закрыл за собой дверь. Что он там ему говорил, – неизвестно, но вагончик трясся очень сильно.
– А, легенда о трясущемся вагончике, – сказал Тарханов.
– Для тебя – легенда, поскольку ты, как помнится, в это время управлял плавучей насосной внизу. Да, так вот, не знаю, что он там ему говорил и отчего трясся вагончик, – Шамрай смеющимися глазами покосился на Лихачёва. – Но вышед оттуда, начальник махнул рукой и уехал с перемычки. И мы её отстояли. На арапа.
– Ничего подобного, – возмутился Лихачёв. – Я всё тогда посчитал. Ты считал перемычку, я – воду.
– Вода перестала подниматься на третью ночь.
– Собственно в пик, докатившийся до нас.
– То поднималась вместе с растущей перемычкой, а то перемычка растёт, а вода там же. И кто-то крикнул – хорош, ребята, всё!
– Это был я, – скромно сказал Лихачёв.
– Все мокрые, вымотанные, одни зубы блестят – Ура!.. Побросали вибраторы, подошли к краю…
Щедрин, слушавший всё это, вопросительно подняв брови, недоуменно спросил:
– Это когда нас затопило с нижнего бьефа?
– Ну, – неохотно согласился Шамрай.
Щедрин улыбнулся.
– Они любят вспоминать, как им удалось отстоять перемычку, и никогда не вспоминают о том, что котлован всё-таки залило.
– Нет, почему, – сказал Шамрай. – Это было потрясающе. Когда уработанные в усмерть люди вышли из туннеля, нас, наверно, человек сто было, то на месте котлована увидели… Нет, это было потрясающе. Такие предрассветные сумерки, и даже не понять, что-то серое, туман, что ли, потом нет, не туман, такая серая поверхность и по ней неуправляемо кружит что-то, плот не плот, а на нём… Мокрый и посиневший от холода Тарханов.
– Это ты в предрассветных сумерках разглядел? – спросил Тарханов.
– Эта была перевернутая плавучая насосная, которой он управлял, – кивнул в его сторону Шамрай. – Все остановились, как громом пораженные. Полный отпад. А плот с Тархановым все кружил и кружил, то приближаясь, то удаляясь от берега. Потом кто-то выразил наши общие чувства общей фразой из трех матерных слов. Кто-то хохотнул. Потом смеялись все. Я никогда больше не слышал такого здорового хохота. Ну, а потом спасали Тарханова. И как видите, спасли.
– Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
– Но согласись, Вилен, – Шамрай обернулся к Щедрину. – Залиться с нижнего бьефа – это не то, что пропустить воду через себя. Водичка постояла и сошла, ну, посушились потом, вычистили. А вот если бы она рванула под напором через перемычку?! – Шамрай покачал головой. – Костей не собрали б, не считая механизмов.
– Начальник чётки потерял, – сказал вдруг Тарханов.
– Этого нам только не хватало!
* * *
Ничего существенного, что могло бы остановить решение о взрыве, в головы не приходило. Причины такого решения были не ясны. По крайней мере, не убедительны. Ну, хлопок, и что?..
Поговорили о хлопке. Что хлопок это не ситец. Это порох! И вся довоенная политика хлопковой независимости страны диктовалась именно этим. Весь Чирчикский каскад строился одновременно с хлопкокомбинатами, чтобы делать взрывчатку, так сказать, в местах отдаленных.
– Но сейчас, кажись, независимость страны зависит от другого вида оружия.
– Дак закрываются урановые рудники в Майли-Сае. Выработаны, – хмыкнул кто-то.
– Других, что ли, нет?
– И чё, мы теперь с берданкой наперевес? Против атомной бомбы? Как Ворошилов на коне… против танков…
– Да этих бомб накоплено столько, что хватит весь земной шарик несколько раз взорвать!
– Стратегическое значение хлопка всего лишь демагогическое прикрытие. Дело в амбициях.
– Водяного, что ли?
– Водяного в том числе. Ну, кто такой Непорожний и кто такой Водяной? Министерство энергетики – это… Империя! Государство в государстве. Не только на Чирчике каскад одновременно с хлопкомбинатами строили, но и сейчас так – параллельно с ГЭС в Сибири – алюминиевые заводы; КАМАЗ, ВАЗ по Волге, всю промышленность по Днепру, да и в Египте не только станцию строили, но и промышленный комплекс. Полдня нужно перечислять, что строило и строит министерство энергетики.
А министерство водного хозяйства? Водоканал он и есть водоканал. Конечно, Водяному приятно министерство энергетики прищучить.
Тут амбиции другие.
У нас об этом не говорят, разве только о русском великодержавном шовинизме, что полный бред, если посмотреть, насколько хуже в России народ живёт, чем в тех же азиатских республиках. Но шовинизм существовал всегда и везде, как давление большего народа на меньшие. Скажем, в Прибалтике – литовский, на Дальнем востоке – якутский шовинизм.
– Иди, ты!
– Да. А здесь – узбекский. Если уж правящая верхушка Узбекистана решила, что это ей надо, она киргизам не уступит. А нам тем более. Мы пришли, построили и ушли. Мы вообще здесь никто. Стройбат. И Косыгин на них не смей давить – корректность со стороны старшего брата должна быть, всякое давление боком вылезет. И это прекрасно понимают и Союзное руководство, и ЦК.
– Ну, точно, рабы на галерах!
Было что-то унизительное в этом взрыве. Действительно, это уже как с рабами на галерах – берут в плен, приковывают и направляют против своих же. Об этом Матюшин сказал, Евгений Михайлович, котоминский начальник. Котомин хмуро молчал.
И Лихачёв, и все остальные знали, что в принципе – это возможно. Технически. Они могут всё. Они могут, но этого нельзя. Нельзя допустить, чтоб труд тысяч людей на благо и созидание был объявлен ненужным. Но об этической стороне дела вопрос даже не стоял.
И поэтому говорили более о зацепках, что потребуют дополнительного времени и сил. Их было множество, и они если не могли отменить, то, могли, чем чёрт не шутит, объективно задержать взрыв, возможно до момента, когда он потеряет смысл. Начали с затвора, с неодинаковой длины их цепей, одну из которых в своё время удлинили, приварив арматурину прямо к уху затвора. Через час зацепок набралось на две страницы убористого почерка Щедрина. После чего решили ещё подумать по отдельности, а уж завтра на свежую голову обсудить, что кому в эту голову придёт.
* * *
Малышевой не было ни в гостинице, ни у Котоминых. Светлана сидела на высоком крылечке неподвижно и праздно.
– Ну, что там? – она медленно повернула голову навстречу Алисе.
– Одевайся и сопротивляйся.
– Страшно-то как… – Светлана продолжала сидеть, не меняя позы и незряче глядя перед собой.
– Володька пришёл?
Светлана кивнула.
– Молчит. Борщ трескает. Хочешь есть? – Алиса замотала головой. – А чаю?
– Потом. А Малышка где, не знаешь?
– А Бог знает, где их черти носят. – Светлана помолчала. – Похоже, она не собирается со своим мужем жить.
– И слава Богу – рассеянно сказала Алиса. – Сколько можно позволять ему у себя на шее сидеть.
– Где вы их находите, таких мужиков-то…
– А их и искать не надо. Нынче такой мужик пошёл, что норовит либо на шею сесть, либо жениться повыгоднее – в смысле тестя. Или карьеры, что часто одно и то же. Это только у вас по медвежьим углам они сохранились, так сказать, в первозданном виде. А ты ещё на Котомина тянешь.
– Ничего я не тяну. Кошмар какой-то… А у Пьянова что за жена?
– В каком смысле? Да нет, там другой случай.
– Она действительно на Зойку похожа?
– Похожа. Видимо, это его тип женщины. А может, и выбрал, потому что похожа.
– Малышка говорит, что она ноги тянет.
Алиса фыркнула.
– Ты слушай её побольше. Она наговорит. Нормальная баба, нормальные ноги. Большие, правда. Зойка конечно лучше, на наш взгляд.
– «Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, что они прекрасны».
– Да. «Терять их страшно, Бог не приведи».
Скрипнула калитка, вихрем налетела на них Малышева, с воплем «А-а-а!» обхватила обеих, так что все трое стукнулись лбами, затормошила, наконец, втиснулась, влезла между ними с довольной донельзя рожей. Шедший за нею Мурат невозмутимо пережидал сцену встречи, потом с длительным любопытством разглядывал Шкулепову а она его, пока с кличем «Э-э-э!» он не кинулся обнимать всех троих, так точно копируя Малышеву, что они расхохотались.
Малышева с Муратом ездили вниз, снимать спущенные водохранилища и теперь перебивали друг друга.
– Издали такой блеск, как вода, только жирный, подъезжаешь ближе – а это грязь. И пароход на боку лежит.
– А хлопок вот такой, мне по грудь и тоже жирный. Мурата в нём и не видать. Одну кепку видать.
– А у берегов грязь уже трескается.
– А Лихачёв нас на завтрашнее совещание не пускает, – вдруг обиженно говорит Малышева. – Говорит, если любопытно, приходите без аппаратуры.
– Если решат не взрывать, вам это совещание не понадобится.
– То есть, как не понадобится?
– Дались тебе эти совещания, – говорит Мурат. – Она у нас любит на начальство смотреть, думаешь, зрителю это интересно? И плёнка на исходе. Если решат не взрывать – поеду домой. Можно сказать, я лично заинтересован, чтобы вас не взрывали. И денег нет Света, одолжи денег, а?
– Сколько вам? – рассеянно спрашивает Светлана.
– А если будут взрывать?
– Толика пошлём. За деньгами и плёнкой. У меня вот такой ассистент, – Мурат показывает большой палец, – но через две недели его надо хоть на день домой отпускать, иначе он без бабы своей… Я тоже домой хочу.
– Хоти, – говорит Малышева.
34. А верёвку с собой брать?
И был ещё день, и был вечер. И настало утро того самого дня – дня поражения. Лихачёв чувствовал, что они перегорели за прошедшие двое суток. Терех это знал?.. И на это рассчитывал?.. Если только можно, аве Отче… И жара с утра, жар – словно не в воздухе, а в теле – колючий, сухой. И совсем душно, дурно в здании управления, уже не остывающем за ночь. Если только можно… Два длинный лестничных марша наверх, где воздух совсем горяч, и колюч, и наэлектризован, хотя в приемной сырой, только что вымытый пол, распахнуты окна и двери, лопасти потолочных вентиляторов загребают воздух. И он послушно в путь потек, и к утру… На всех лицах одно – поражение. Щедрин отводит глаза. Степанов дверной косяк подпирает, будто на похоронах. Но почему? Потому. Лихачёв знал это также хорошо, как и остальные: в принципе – это возможно. Технически. Они могут и это. Они всё могут. Они такие – битые, ломаные, гнутые. Они могут всё. Но этого нельзя. Нельзя выкручивать руки. И заставлять взрывать то, что строилось двенадцать лет. Нельзя допустить, чтобы труд тысяч людей во благо и созидание был объявлен ненужным и малоценным. По человеческой этике. По какой угодно. По Галактической. Человек существо созидающее. Номо… С ним так нельзя. Нельзя с ними. И тем не менее… Им придется это вынести, это поражение. И унижение. Если унижение, тогда уж может в ноги повалиться?
А вот и гости. Что-то много их. Решили давить количеством. Водяной цветёт. А что Пётр Степанович? Непорожний? Хмурятся – Терех ему обстановку докладывает. Лицо закрытое у министра, ничего не прочтёшь. Голову наклонил и супится, так что не видно глаз. Ведь было в этом что-то – в ноги, эх!..
Водяной кинулся Степанову руку жать, решив, что тот по его вызову прикатил, другую отводит то ли чтоб обнять, то ли по плечу похлопать. Счас ему… Александр Алексеевич Степанов пальцы подал, высокомерно прикрыв глаза набрякшими веками, головой не шевельнул, губа брезгливо выпячена. Вот так, есть должности, а есть личности, понятно?.. Похоже, Водяному понятно, но он с уверенностью сангвиника, что аппетит ему не испортят, улыбается, откидываясь и отклячивая круглый зад, но пальцы Степанова не отпускает, заглядывает ему в лицо. Однако хлопать по плечу и обнимать передумал – левая рука гибко перешла в патетический жест…
И тут раздается ернический вопль горластого Тарханова: «Ха! Ты уже министр?!» Так что оборачиваются оба министра сразу, а Тарханов хлопает по плечу одного, ещё молодого мужика из свиты. Именно «ха» – Багин. Свита Водяного увеличилась за счет ирригаторов Казахстана, и Багин среди них.
– Пока ещё нет, – говорит тот, сдержанно отстраняя плечо, и щурится, смущённо, что ли? Будто прячется за прищур.
Шамрай скалится вполне дружелюбно:
– Что, не хватает воды рисовым полям Казахстана?
– Не хватает, – говорит Багин.
– Трубу до рисовых полей Казахстана! – орёт Тарханов.
Кто-то фыркает, видимо, представив себе многокилометровую кишку через всю долину и дальше.
Всё так же щурясь, Багин озирается по сторонам, кивает одному, другому, потом, наткнувшись на лихачёвский взгляд и весь напрягшись, кланяется и ему:
– Здравствуйте, Герман Романович.
Лихачёв молчит чуть дольше, чем нужно, вяло меряет его взглядом с ног до головы:
– Здоров, коли не шутишь.
Багин отводит глаза в окно, руки в карманах, вид правый и слегка смущенный.
– Какие уж тут шуточки, – говорит, – Хороши шуточки.
И Лихачёв почти благодарен ему за это смущение – «всё-таки не чувствуют они себя правыми до конца». И вдруг непоследовательно и праздно думает, – Интересно, знает ли Багин, что здесь Шкулепова, Люсенька? И понимает почему-то: Не знает, не виделись. Чёрт, всё дыбом, а тут такое рядовое праздное любопытство и житейская наблюдательность, будто на завалинке сидишь, пенсионером либо бабой.
Двинулись в кабинет Тереха министры, за ними с завихрениями, как в воронку – свита. Надежды не было. Вместо неё зияла бездонная дыра, без всякого отклика. Следом за гостями переступили порог, скученно потоптались, расселись по оставшимся местам. Министры – по одну сторону большого стола, свита – на стульях под стенкой напротив, по другую сторону стола – взрывники, ЭПРОН, Терех, Лихачёв почему-то в его кресле, меж ним и министрами… Эх, эх…
А вот и Люсенька Шкулепова, дождался у косяка Степанов – грузный, как атомоход, Шкулепова за ним. Он и думать забыл – смотреть, как она ходит, движется, перетекает. Рука выставлена параллельно степановской спине, как на египетском фризе, четкая стрижка тяжелых волос… Степанов грузно осел у шкафа, она – рядом, ломко, юрко, чтоб понезаметнее, как ящерица. Замерла, голова набок, слушает, что он там бубнит, Степанов, кивает. Лицо серьёзное, внимательное, ничего не видит, даже как у Багина глаза зажглись-засветились… Что они там со Степановым замышляют? Опять Степанову кивнула, сказала что-то. У Багина бесконтрольное лицо и сияющий взгляд. Вот как, оказывается… Она снова поднимает хмурые глаза, почти с досадой, как на что-то отвлекающее – и смотрит ошеломленно, как спросонья. Держись, девонька! Поверила. Узнала. Чуть кивнула.
Она смотрела на Багина какое-то длительное мгновение без всякого напряжения. Смотрит и моргает. Багин первый опустил глаза. У неё чуть дрогнули брови, взгляд ушел в сторону, в сторону, пока не наткнулся на забывшиеся лихачёвские глаза. И опустила голову. А он всё смотрел на медленный, слабый румянец, заливающий шею, щёки, скулы. Думал – надо сразу, без хитрости. Хитрость-то страусиная… В ноги!
Лихачёв встал, отодвинул кресло. Но Непорожний сказал ему:
– Сядь, – и повторил: – сядь, Герман Романович. Давай – без истерик.
– А никаких истерик, – сказал Лихачёв. – У меня тут полсотни позиций, которые придётся так или иначе решать, чтобы выполнить постановление партии и правительства, – последние слова он произнес врастяжку, почти ёрничая. – Это такой ком, с которым трудно справиться и в большие сроки. Причём – он будет только нарастать.
– Давай его сюда, – сказал Непорожний, и стал листать скрепленные страницы распечатки их соображений. – Вы, я вижу, хорошо поработали эти дни.
Потом отложил их в сторону и начал с того, что «обсуждать вопрос – есть ли резон вскрывать правобережный туннель или нет, мы не будем – резон есть», а, стало быть, «будем говорить только о том, как это сделать быстрее и с меньшими потерями».
– В живой силе и технике? – быстро спросил Тарханов.
Лихачёв видел, как непроизвольно дернулось лицо Котомина, побелевшие костяшки суставов на собственных сжавшихся кулаках, неподвижную фигуру Тереха, сидящего с убитым видом, подперев рукою голову – пусть министр повоюет с таким коллективчиком, Терех будет воевать, когда будет приказ. А коллектив никак не мог поверить, что с ними может произойти то, что противоречило элементарному здравому смыслу.
* * *
Как ни неожиданно для Алисы было появление здесь Багина, оно не могло выбить её из того состояния острого внимания, когда происходящее воспринимается каким-то общим ощущением, и говоримое – лишь первый, поверхностный его пласт. Общий накал полярных сил был бесконечно сильнее любых частных условий, хотя в первый момент она и перестала понимать, что говорит ей Степанов – так зашлось и сорвалось сердце, доколь же оно будет заходиться и срываться, так что стынет лицо?.. И ответное, почти благодарное тепло на тянущий свет глаз, – «А ты говорил, не свидимся…» Как легкая паутина, налетевшая на провода высоковольтной линии – незаметная вспышка, и всё, всё. «Вот когда оборвалось», – мелькнуло и пропало, осталась данность – они на разных берегах, и сейчас она там, где Котомин, и Коля Пьянов, и Лихачёв, и Терех, и Валера Шамрай…
* * *
Они еще оборонялись с каменными лицами, упорством и тупостью солдат, не получивших приказа об отступлении. И очень контрастно – лица свиты, словно дошедшей до каменной стены закрытого и поднявшего мосты города, несколько растерянные, но с уверенностью, что недоразумение скоро будет растолковано и всё образуется. Этот легкомысленный настрой читался в легком шуме среди гостей, во взглядах по сторонам, в том числе и на Шкулепову, в коих мужской интерес ещё имеет место. Это было неинтересно.
Только у неё никак не укладывалось в голове, что министр энергетики оказался на другой стороне и действовал, как стенобитное орудие – он не хотел этого взрыва и, судя по рассказам о разоре нижних ГЭС – боялся его не меньше строителей, и, тем не менее, бил по своим стенам с настойчивостью тарана. Пахло пылью, бедой…
Может, пропустить воду через себя – это этика стройки, а взорваться и отдать всё – этика министерства? Вряд ли министр вёл двойную игру – вот, выяснял, убеждал, но… Тем более что взрыв технически выполним, при всех сложностях. И при всей своей бессмысленности. Так мог себя вести министр водного хозяйства, жизнерадостный лупоглазый баловень, но не их министр с лицом пожилого терпеливого мастера и руками молотобойца…
На Багина она больше не смотрела. На Багина смотрела Малышева из своего угла – сочувственно, слегка приоткрыв рот, с недоумением и ясно читавшейся мыслью: Приперся! Дурак! Чего приперся-то?!
* * *
Малышева очень хорошо относилась к Багину Когда-то он навсегда купил её тем, что только и сказал: «ёлки», запихнул в газик и повёз за восемьдесят километров к дорожникам, несмотря на конец рабочего дня, собирающийся дождь и отсутствие всякой необходимости ехать туда самому. Повёз только потому, что в те времена в документации дорожников мелькала подпись – И. Луговский. Не Луговской, а Луговский, что реже, но дело не в редкости. Дело в том, что это была фамилия её мамы, её деда. Перед самой революцией этот её дед посадил на телегу бабку с детьми и уехал по Столыпинскому набору в Сибирь, на свободные земли. И они поначалу там и осели и, может быть, так бы и остались сибиряками, если бы на третьем году саранча не съела всё на корню. Бабушка рассказывала, что в тот год на пасху, веривший в Бога, но не жаловавший попов дед не велел ей тащиться с куличами в дальнее село, тем более что моросил мелкий, затяжной и благостный дождик. И дед велел ей поставит куличи на пригорочек – Бог и освятит, вся земля под Богом. И бабка послушалась. Но в тот год пришла саранча. Спасаясь от голода и бескормицы, они двинулись на юг, к киргизам, где и прожили до самой революции, а после неё дед решил вернуться на родину.
Это отдельный рассказ, как они возвращались, как у них отняли лошадей, и дед отлавливал отбившихся чужих. Как шальной пулей убило их младшенького и его похоронили посреди чужой степи. Они приехали на Украину, но земли у них по-прежнему не было, и дед опять нанялся в батраки, надорвался на первой же пахоте и умер, прохаркав кровью три дня. И бабку никто не хотел брать на работу с тремя детьми, даже богатый родственник, муж бабушкиной тетки.
И отдельный рассказ, как бабушка шла в город по прокаленной степи с Ваней на руках и девчатами, уцепившимися за юбку, чтобы сдать Ваню и Лизу в детский дом, а потом с самой старшей, девятилетней Настей, её, Люськиной мамой, вернуться в село, где один куркуль соглашался взять её скотницей, а другой – девятилетнюю маму в няньки, но это всё – без «короедов» – без Вани и Лизы. И дорога отмерялась расстояниями между глубинными степными колодцами, и измученная бабка у одного из колодцев решила бросить в него диток и прыгнуть сама. И уже наклонилась с Ваней, пытаясь оторвать его от себя, и Ваня закричал. И бабушка поняла, что он будет кричать до самой воды и с девчатами ей уже не справиться. Поэтому она дошла до города и до детского дома.
И отдельная история о том, как мама служила в няньках за харчи и одежду, как рубашка из мешковины растирала ей кожу на ключицах, и она придерживала её над собой руками. Как пьяный хозяин гонялся за нею, десятилетней, и она не по-детски понимала, зачем; как выскочила босиком на снег и добежала до дома еврея-портного, и осталась у них помощницей. Как бабку попрекали, что она отдала дочь в услужение жидам, а те подобрали ей одёжки и отправляли в школу вместе со своими детьми. Как Ваня с Лизой висели на заборе приюта, выглядывая бабушку и Настю. Всё это очень длинная история, пока мама оказалась на рабфаке, а у бабушки появилась хатка, куда она смогла забрать из приюта Ваню и Лизу.
А потом Ваня в тридцать втором тоже решил податься в город к Насте, сестре, а бабушка плакала и не пускала его, но он всё равно ушёл. И сгинул – и к маме в город не пришел, и домой к бабушке не вернулся. Ему было шестнадцать лет. Мама говорила, что видно он тогда и сгинул – зима была голодная и лютая, а тетя Лиза – что ей всё кажется, что вот откроется как-нибудь дверь, и он войдет.
И тут – И. Луговский. Дорожное СУ И среди бумаг в багинском вагончике она опять видит И. Луговский. Или даже – И. М. Луговский. И спрашивает, как зовут этого Луговского. И Багин говорит – Иван Матвеевич, кажется. Она смотрит на Багина и переспрашивает: Как? И у неё звенит в ушах. И ещё спрашивает, сколько ему лет, лет сорок семь – пятьдесят? Торопясь, рассказывает всё о Ване, бабушке и колодце. И Багин только и говорит, – «ёлки», сажает её в газик и везёт туда, где табором стоят дорожники. По дороге на них обрушивается ливень, и они останавливаются на Кок-Беле, на самом перевале, под тремя чинарами – переждать дождь, льющий стеной. И Багин рассказывает ей о городе Климентине, который снился ему как какая-то гипотетическая родина. Он был сыном строителей, Багин, родился на одной стройке, рос на другой, учился на третьей. Ему казалось, что средь переездов попадался и Климентин – город на холме, обложенном каменной кладкой с прорастающим в щелях вереском, но родители не подтверждали… И вот пока они стоят под тремя чинарами и Багин рассказывает ей про Климентин, она совершенно уверяется, что Иван Матвеевич Луговский – их Ваня.
Потому что если она очутилась здесь, почему не мог очутиться здесь Ваня? Он даже родился где-то здесь, это мама родилась на Украине, тетя Лиза – за Уралом, а Ваня и родился здесь. Правда, бабушка умерла давно, а мама не помнила названия долины, а ведь тогда и казахов звали киргизами. Когда Малышева приехала сюда, мама прислала ей целую школьную тетрадку со словами и выражениями, которые помнила с детства. Не все они по произношению совпадали с киргизскими, не в этом суть. Но когда она попала сюда, у неё было ощущение, что она должна жить здесь, под этим небом, меж этих гор, в виду семи перспектив хребтов. Это потом, в Москве, она иногда принимала за горы московские облака, и у неё падало сердце, когда осознавалась ошибка. И вот это падение сердца было тоской и ностальгией. Она должна была жить здесь по внутреннему ощущению и внутренней уверенности, почему же не мог жить здесь Ваня?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































