Текст книги "Сага о стройбате империи"
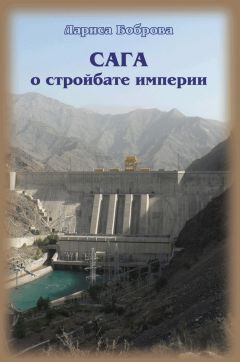
Автор книги: Лариса Боброва
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Часть вторая
Ты это видел, Господи…
21. Старый и новый Музтор
А Малышева появилась на Кызыл-Ташской земле уже весной, летом даже – в самом конце мая, как раз к событиям, которые, как скажет Валера Шамрай, произошли только для того, чтоб ей было что снимать. Появилась, вися как переброшенное пальто на руке оператора Котова, здоровенного мужика с хроники, – руки-ноги до земли и до земли волосы.
Май она проторчала на студии – студийное начальство никак не могло взять в толк, что ей делать на ГЭС без операторской группы, не могло понять ясной как день необходимости залезть везде самой, всё посмотреть, со всеми поговорить, сориентироваться – что снимать, кого и о чём.
Никак не могли закрепить за группой оператора – не занятые почему-то отказывались, отводя поскучневшие глаза с невнятными оговорками о растянутости съёмок, о приблизительности сроков запуска фильма в производство и тому подобном. Потом оператора нашли, режиссёр говорил, что Малышева должна знать его по ВГИКу – на год позже неё кончал. Но это не только другой курс и другой факультет – другое поколение, на сценарном все, как правило, старше. Ему года двадцать четыре, работал на студии до ВГИКа, но то, что недавно его закончил – хорошо, как раз тот случай, когда рвутся делать «большое искусство». А те, что в кино давно – стоят по горло в болоте и – «не делай волну, падла»…
Пока Мурат что-то снимал в прииссыккульском колхозе, а в мае там не такой уж рай – ледяные ночи и обжигающие дни. Но у него там дядька в Тюпе и куча всякой родни, и он пил кумыс и парился в баньке, – в озере вода ещё холодная. И с ним жена Мамлакат, в просторечии – Кеша, красавица писаная, тесть режиссёрского соседа по площадке рыдал, увидев её: «Мадам Баттерфляй!» И дочка Салташка, похожая на папу, как две капли воды, будет ли красавицей, пока неясно, но папа тоже ничего.
Все это она узнает позже, увидит и Кешу и Салташку и всю Муратову иссыккульскую родню, но это будет после, когда спустят водохранилище, для фильма не хватит нескольких планов с «большой водой», и Мурату придётся исхитриться подснять их на Иссык-Куле…
А начнется для Малышевой всё вот так: чужая группа хроники, едущая за сюжетом для «Новостей дня» снимать начало Аксая, следующей ГЭС Нарынского каскада, она потащится с Котовым смотреть Аксайский створ, потому что начало Музторской ГЭС есть только в чёрно-белой плёнке, а режиссёру вынь да положь цветное начало. Хотя знала, что нечего ей ловить на Аксае – другой створ, другие горы, совсем складчатые, гофрированные, граниты и песчаники, неправдоподобная графика каменных завихрений с редкими кустиками дикой вишни – розовое на коричневом и уже голубой! Голубой Нарын, а не тот, что был до водохранилища – цвета какао с молоком, или жёлтой злости в паводок и дожди, или жидкого столовского кофе в самую малую воду…
Котов погнал её через висячий пешеходный мостик на другой берег, чтоб она там помелькала для оживляжа белой футболкой и кепочкой. На другом берегу гулял по тропке ослик, она немного прогнала его хворостиной и даже прокатилась на нем, очень миленький оживляж получился, она потом видела – общий план, и на нем мелькает что-то белое, будто порхает носовой платок…
Шофёр их Рафика был неуловимо похож на давнего кызылташского маркшейдера, тоже Бориса, который сейчас варганил какое-то могучее сооружение на Иртыше. Все незнакомые люди поначалу чем-то похожи на кого-то, даже не всегда вспомнишь, на кого, пока не станут знакомыми и похожими только на самих себя. Но сейчас лезла в глаза схожесть – в прищуре глаз, повороте головы, в интонациях, даже в том, как на выезде из города он обошёл на кольце косо стоящий троллейбус, а потом отбояривался от гаишника, – «Шеф, я думал, он сломался, он как-то раком стоит!»
И побежала через три перевала дорога длиною в белый день, и за первым – Сусамырская долина, какою Малышева никогда её не видела – рыжая, с полосами осевшего и тоже грязно рыжего снега. Раньше эта долина была только белой или только зелёной, или одновременно и белой, и зелёной – не успевал сходить снег, а трава уже перла щёткой, будто и зимовала такая – зеленая-зеленая… А сейчас был рыжий цвет осенней травы и холод, Рафик промерзал на ходу, Котов с ассистентом грелись водочкой, шофёр Борис на скорости восемьдесят километров тыкал пальцем в сторону, – Глянь, лиса! Совершенно не заботясь, как при этом идёт машина, будто запустил её на прямую как стрела дорогу и теперь может отдыхать и глазеть по сторонам до следующего перевала.
Лисица пересекла рыжую жухлую траву и что-то вынюхивала на осевшем грязно-буром снегу по-кошачьи брезгливо отряхивая лапы. Борис ударил по тормозам, Рафик встал как вкопанный, лиса лениво оглянулась и не спеша пошла дальше прогулочным шагом, зная, что нечем у них стрелять, да и кому она нужна, такая облезлая в эту пору.
Перевал Алабель, как всегда, дымился снегом и туманом, домики дорожников всё также стояли вдоль трассы в часе пути друг от друга, и, ниже по Чичкану в каком-то из них жил дорожник-голландец с женой из давних переселенцев-голландцев, по совместительству преподававший в музторской школе английский язык.
А дальше – старый Музтор, ещё не залитый, но брошенный и уже уходивший в небытие своими саманными стенами. Все крыши, окна, двери, всё, что можно было разобрать, спилить и свезти, – свезли и разобрали на дрова, и стены его быстро оседали, превращаясь в прах. И хотя новый Музтор красовался своими прибалтийскими крышами на недоступном воде плато, этот, брошенный, являл собой жуткое зрелище распада, трагедии и насилия. Немудрено, что на это клюют почти все – попадаются Распутины на этой уходящей под воду родине. И хотя ближе к правде, что здравый народный смысл спокойно принимает перемены к лучшему, жуть в этом, конечно, есть: жили, строили, растили деревья, а какие здесь были тополя! А потом, оказывается, ничего не стоят усилия и старания всей жизни, весь ужас в этом – ты ладил свою жизнь, строил, перестаивал, мотыжил землю и выбирал из неё камни, растил сады и тополя, и всему этому грош цена, всё перечеркивается почти подаренным коттеджем с общей стеной на двух соседей. А этот Музтор, о котором в древних книгах написано, уходит в небытие.
Какой здесь был разноголосый, разноязычный рынок – не только киргизы, и татары, но и корейцы, и украинки в вышитых блузках и намистах клекочут на киргизском языке, а русский язык для них – украинский: «Чи вы нэ руськи?» И Малышева спрашивает: «А звидкы вы родом?» – «Так мы тутэшни, батькы ще колысь перейихалы…» Голландцы… Русские старообрядцы жили по Токтобеку и на оградах их предков сидят живые вороны вперемешку с вырезанными из дерева и почерневшими от времени. А мимо возвращается с базара на дальний выпас молодая киргизская семья – отец на лошади, жена на ослике, детишки на другом – в притороченной к седлу расписной деревянной люльке… Старуха в тёмных одеждах, с ясным иконописным ликом поднимает для благословения два пальца: Спаси вас Бог! – Салям алейкум! И старуха долго смотрит вслед молодой семье молодого народа. Это всё – когда они идут в Музтор круговым маршрутом, и злой Саня Птицын тащит в рюкзаке собственный электрический утюг, подложенный туда кем-то из шутников… Разминувшись с молодой семьей на крутом склоне, они смотрят сверху, как те переезжают мостик через ручей, как в мерцании света и тени мелькает меж ореховой листвы яркая люлька на спине добродушного ослика, алое платье женщины, расшитая войлочная шляпа главы семейства…
Когда-то гордое племя населяло эту долину, – «и если даже войско пойдет, одного камня будет достаточно», чтобы обрушить лавину и камнепад, ни покорилось оно ни джунгарам, ни Кокандскому ханству, но впустило многих, теснимых нуждой и властями. Десять веков тому назад возник здесь богатырский эпос – Манас, и век назад – родился великий акын Токтогул, чьим именем будет названа строящаяся ГЭС. Оболганный манапами, акын был угнан по этапу в Сибирь, якобы за конокрадство, хотя гнали его, конечно, за набатные песни.
А великий батыр Манаса в своё время пытался перекрыть эту реку, обрушив у самого горла ущелья огромную скалу, и отсюда пошло название котловины, Кетмень-Тюбе, то есть, гора, обрушенная кетменём. Может быть, поэтому так естественно было принято и строительство ГЭС, и переселение…
Эта скала уже ушла под воду, сохранившись разве на фотографиях и в кадрах хроники, остался на пленке и яркий праздник ярмарки, а вот зимнего Музтора Малышева так и не нашла – с невероятными даже для высокогорья морозами под пятьдесят, с деревьями и кустарниками в курже… Лохматая от инея лошадёнка тащит от фиолетовой реки сани, оледеневшие вместе с бочкой, заиндевевшие ворот тулупа и борода бабая, боком сидящего на санях, нимб на собственном пуховом платке – холод подолгу стоял на дне котловины, словно выпадал в осадок.
Рафик подпрыгивал на выбоинах старой, уже не ремонтировавшейся дороги, захлестывающейся здесь петлей – вверх по Нарыну к старому мосту, а потом – вниз, к подъёму на перевал Кокбель. А новая дорога уже пробита выше по склону, в обход водохранилища, которое в полном объеме зальёт и старый Музтор, и мост…
Если бы Малышева ехала со своей группой, они бы поехали по новой дороге, через Новый Музтор, и заскочили бы к Шкулеповой, которая сидит на своей Бурлы-Кие, но Котова не интересовал ни новый Музтор, ни Шкулепова, ни Бурлы-Кия, и они проскочили мимо, пусть Шкулеповой икнется от того, что они проезжают мимо.
Режиссёр-постановщик ориентировал её в основном на перевозки – последние восемьдесят километров до стройки все эти валы, турбины, роторы и статоры волокли на трейлере, впряженном в сцепленные между собой «Ураганы» – военные тягачи от «тополей», по каким-то причинам снятые с вооружения, самое тяжёлое оборудование тащат восемь ураганов, и это – зрелище, хотя и один ураган может кого хошь напугать – такая громадина, зелёный крокодилище с пучеглазо вытаращенными кабинами по бокам. Режиссер сам хотел подснять в Ленинграде ещё и погрузку турбин на пароход в белые ночи, проезд по водному пути до Красноводска (ей задание – уточнить сроки) для вот такой рекламной картинки как ГЭС строит вся страна. Ничего, кроме рекламной картинки, в проекте пока не было, да и съёмки, порученные их группе, назывались не фильмом, а «уходящими объектами», тем, что могло уйти, быть упущено, не снято и потому потеряно для фильма.
На колдобинах старой музторской дороги, среди наползающих яуфов – Котов что-то предпринимал только если громыхало и сыпалось, – из Малышевой вытряхнуло всё, чему она училась вместе с наставлениями режиссёра, они оба знали, что суть фильма выплывет во время съёмок, и не очень беспокоилась, что доложенная редколлегии схема так прямолинейно примитивна – «ГЭС строит вся страна». Но «раз я хочу снимать, раз ты хочешь снимать, что-то выявится в процессе, должно выявиться, если оно там есть». Плохо, что установка – «чтоб никакой тонировки». Мало кто может перед камерой связно выложить всё, что думает: инженеры начинают говорить о технических решениях, рабочие – по образцам телевидения – выполним взятые соцобязательства, возьмем большие, дружный коллектив бригады, поднимем на ещё высшую ступень, устраним недостатки, протянем руку братской помощи… Люди поразительно красивы в работе – точны, экономны движения и у бетонщиков, и у доменщиков, а перед камерой выясняется, что им руки некуда девать, в голове туман, во рту каша – рукастые мужики, а они без головы не бывают… Что за страна, где человек только на пахоте в полный рост, хотя в этом, может, и есть сермяжная правда. Фильмы стареют, почти все, остается немногое – ну, «Потемкин», ну, «Мать Иоанна», Чаплин, один Чаплин, а окружение и партнеры – уже пыль, тлен, труха… А хроника остаётся. Даже то, что Малышева еще снимала любительским «Кварцем», сидя в ковше экскаватора на перекрытии: худенький Юра Четверухин у прорана, дирижирующий МАЗами, словно горящий на морозе и ветру; Вася Хромов, почему-то ухвативший Вебера за грудки… Кстати, Юра Четверухин умеет говорить… Светланино светящееся вниманием и сочувствием лицо, на котором отражается всё, что ей говорят, слушание-переживание, словно смотришься в чистую воду… Или лицо Асипы – совершенная лепка скул, лба, подбродка, угловатая и одновременно текучая пластика движений – вот кого снимать!
Улыбаясь, Малышева глядела на шофера их Рафика, все меньше и меньше походящего на того, другого Бориса, когда-то влюбленного в Асипу… И ещё бы дядю Белима снять, Асипулиного отца, со звездой героя на груди и смущённой улыбкой на круглом лице… Правда, дядя Белим туннельщик, и Асипа за это время родила троих и, наверное, уже не была ни грациозной, ни красавицей. А Малышева помнила её нежный румянец и белозубую улыбку, и два зубика, слегка налезавшие друг на друга. Если бы они были прямыми и не налезали друг на друга, Асипуля много бы потеряла. Потом Светланка скажет, что Асипуля по-прежнему красавица, да и куда могло деться обаяние человека, которому все смотрели в рот? И дядя Белим такой же круглый, широкий и добродушный, и Котомин по-прежнему робеет перед ним.
– Дак заробеешь, – отзывается тот. – Стою я перед ним и вижу, что меня ровно в четыре раза меньше.
– А мать-то, Апушка, жива?
– Жива, – говорит Светлана, – Жива-здорова, не бойся.
А чего ей бояться, дела давние, десятилетней давности дела.
* * *
Ещё когда всех обучали основам альпинизма, и уже Шамрай от лица проектировщиков ногу сломал на учебной скале, ей, Малышевой, всё было мало – и она поперлась с альпинистами на какое-то пробное восхождение. Вечером альпинисты пели у костра свои дурацкие песни, что никак не кончались, и ей уже хотелось завыть, только уж как-нибудь совсем по-волчьи, и, чтоб не завыть, она пошла от костра подальше и залезла с тоски на большущее дерево, и свалилась с самой верхотуры – подломился сук. Летела она вниз головой метра три, наверно. Летела и думала: голову жалко, и подтягивалась, чтобы перекувыркнуться. А потом: шею сверну, и ещё подтягивалась. И грохнулась спиной чуть пониже лопаток. Если бы дольше лететь, она б перевернулась и на ноги встала, но не успела.
Позвоночник остался цел, хотя ушиб был страшный, и ещё сильное растяжение поясничных связок. Она покаталась по земле от боли, а когда боль чуть стихла, попыталась встать. Выяснилось, что она может только стоять и лежать. У костра всё ещё пели, и она прервала пение пренеприятным известием, для начала потерпев, сколько могла. Её запихнули в пуховый спальник и снова принялись петь, а ей становилось всё хуже и хуже.
И утром, естественно, ни на какое восхождение она не пошла, но убедившись, что она может стоять на ногах, её отправили назад, в поселок, с самым молодым и страшно стеснительным альпинистом Мамасали. Вначале она шла с передышками буквально через каждые двадцать-тридцать метров и так – километра три. Потом пастухи дали им лошадь, и Мамасали пытался везти её поперек седла, но боль стала совсем нестерпимой. И они снова шли. И так до автотропы, где Мамасали оставил её под орехом и рванул в поселок за «скорой». И ей пришлось полтора месяца проваляться на щите. Хирург был молодой и по началу велел ей сесть, хотя садиться она не хотела. Тогда он посадил её силой, и она вырубилась.
А Апушку положили в их палату уже под конец её пребывания в больнице. Дядю Белима она тогда так и не увидела, он квалификацию повышал на каких-то курсах. Только Асипа прибегала и торчала в окошке, разговаривая с матерью, которой, наверно, было тоскливо с ними – Апушка совсем не знала русского, а они не говорили по-киргизски. Малышевой – что, ей Саня Птицын письма писал: «Слышал, мать, что ты упала с печки», Котомин басил: «Будешь знать, как с чужими ходить»; а Багин кидался яблоками, если она спала, и почти всё время на окне кто-нибудь висел из управления или от проектировщиков.
А потом среди ночи её разбудила соседка по палате – «Апушка не дышит». Они включили свет, откинули одеяло, – та лежала в луже крови. Их молоденький хирург перепугался, прибежал Виктор Гасанович, главврач, кинулись искать донора со второй группой крови, а у Малышевой как раз вторая. Проверили. И сдвинули койки. УАпы никак не могли вену найти, и сделали надрез на предплечье, и соединили их с Малышевой через какие-то трубочки и колбочки.
Апушку утром увезли в долину, а Виктор Гасанович еще с неделю носил Малышевой шоколадки, хотя чего ей сделается, она здоровая тогда была и толстая. У Виктора Гасановича скуластое и смуглое восточное лицо и неожиданно совершенно синие глаза, – мать у него была русская.
Малышева и думать забыла про больницу, когда ей на шею бросилась незнакомая киргизка в широком платье, в которой она не сразу узнала Апу. Крепко ухватив за руку, она тащила её куда-то и всё говорила «дочка, дочка». А потом достала из сумки и протянула большое яблоко. А дочкой была вышедшая из магазина Асипа. Они потащили Малышеву с собой, она не очень упиралась, было любопытно, как живет киргизская семья, и понравилась Асипа. Дома её посадили в красный угол и принялись угощать, она смутилась, но Асипа смеялась: «Ешь, я всё равно к тебе приду и всё у тебя съем!» И пришла, и стала приходить часто, влюбилась в Аскера Салганова из их общаги, а Борька в неё. Аскер только улыбался и прятал за очками глаза. Саня Птицын и Коля Пьянов навязались ей в телохранители, а Борька тащился сзади и время от времени вопил: «Асипа, выходи за меня замуж!»
А когда Аскер поехал домой за невестой, они уже все хором уговаривали Асипу идти замуж за Бориса. «Дети красивые будут, как Виктор Гасанович», – приводила последний довод Малышева. Но Асипа только качала головой, – она пойдет замуж только за своего. «Салганов – казах», – сомневалась Шкулепова. «Любовь зла», – смеялась Асипа. И однажды Борис привел за руку Мамасали, усадил перед Асипой – вот, жениха тебе нашел. Асипуля, сидевшая на шкулеповской кровати, поджав ноги, нагнулась за тапочками, счас, только шнурки завяжу. А Мамасали пялился на Малышеву и краснел.
Потом Аскер привез невесту, – ничего особенного – девочка с веснушками в красном просторном платье, правда, с косами до подколенок. Асипа точно лучше, в ней была повадка, вот. А Борис как-то сник, а потом уехал на Вилюй, оказывается, он всю жизнь мечтал вертикальные штольни рубить в вечной мерзлоте. Доходили слухи – он и там публику развлекал, сидючи на стойке кафе и распевая под гитару, так это он и тут делал. А потом женился там, с треском, увел у кого-то жену. Всё правильно, он ничего не делал без треска, он такой и был. По нему тут пол-общаги девок сохло. Ещё слышно было – пожар какой-то тушил и обгорел очень. И так появился в Москве – мать, я не загорел, я горел! И гитары с ним не было – пальцы рук ещё плохо слушались. И они вдвоём пошли к шкулеповскому соседу снизу, церковному батюшке, выпросили гитару, и батюшку в гости пригласили, батюшка молодой оказался, пришёл, не побрезговал. И они с Борисом до поздней ночи водочку на кухне кушали и песни пели, очень хорошо они спелись тогда, водой не разольешь…
* * *
Они зацепили только край нового Музтора – с модерновой глыбой торгового центра позади островерхих крыш двухэтажных коттеджей, сквозящие дворы за ажурными оградами в дымке юных деревцев, с костерками и мангалами и даже кое-где поставленными на лето юртами, с неправдоподобно нарядными для домашней работы алыми платьями женщин. Всё это мелькнуло и осталось бы позади, а лучше бы вовсе не мелькало, потому что их рафик, дико вильнув, подпрыгнул и встал как вкопанный поперёк дороги. Малышеву садануло по голени, и вместе с грохотом подающих внутри Рафика яуфов, ей показалось, что что-то ударилось о борт снаружи…
Борис выскочил из машины, пропал, как в фокусе, был шофёр – и нету, и из зеркала заднего обзора с отпрянувшими домами и оградами, метнувшимися алыми язычками платьев, сужающейся дорогой – жутко дохнуло бедой. И там, на дороге, было что-то неподвижное, мягкое и страшное этой своей неподвижностью и мягкостью, а потом спина стремительно наклонившегося Бориса заслонила это. Она выскочила следом со сбитым, забитым от ужаса дыханием.
Борис медленно распрямлялся, держа на руках ватное тельце мальчишки. Она видела руку, бережно и точно лёгшую под спинку ребёнка, с пришедшейся к затылочку ладонью, вторую руку, подхватившую ножки и попку, видела бегущих людей, неизвестно откуда взявшихся и мгновенно составивших небольшую кричащую толпу вокруг Бориса, перекрывшего крики вопросом «Кто мать, вашу мать?» Выдвинув плечо, он понёс мальчишку к машине, велел Малышевой – садись вперёд! Бережно опустил ей на руки мальчика, втолкнул ближнего из толпы в машину – показывай, где больница! Хлопнул дверью. Машина развернулась почти неощутимо, неощутимо поехала. Малышева почувствовала, как безвольное, тяжёлое поначалу тельце напряглось на её руках, увидела, как открылись бессмысленные глаза, медленно наполнились слабым изумлением… Потом малыш пошевелился, и она легонько прижала его к себе.
Мальчишка заревел в голос уже на больничном дворе, стал вырываться из рук несущего его Бориса, и улыбнувшись белыми губами, тот прижал его к себе и толкнул спиной входную дверь.
К счастью, мальчишка отделался общим сотрясением, даже синяков на нем не осталось. Еще три часа ушло на милицию и обзор места происшествия. Дети играли, и мальчишка, спасаясь от преследователей, с криком обернулся назад и сиганул через арык, и ударился о бок не успевшего увернуться рафика. И отлетел на мягкую обочину.
Когда наконец они тронулись в путь, Малышева закатала штанину и увидела на голени огромную шишку величиной с яблоко – жестянка перебила ей вену. Ногу обмотали мокрым полотенцем, а в Кызыл-Таше Котов вынул её из машины и, взяв под мышку, отнёс в гостиницу, поставил перед конторкой администратора и опершимся о неё мэром Петром Савельичем Шепитько. И у Малышевой упало сердце – «плохая примета».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































