Текст книги "Сага о стройбате империи"
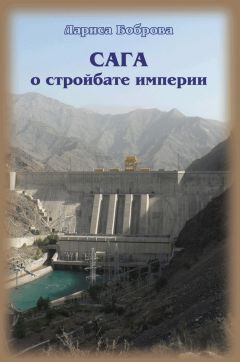
Автор книги: Лариса Боброва
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
«Ты всегда его любила больше меня!» кричала когда-то Наталья, кого любить и кого жалеть, и над кем она плакала, стоя над Саней и гладя его по лёгким волосам? И что ей до того, что им всем до того, что будет думать ворон Амиранов о всех о них и о Наталье тоже?
16. Даёшь пусковые отметки!
Еженедельная планёрка на сей раз была объявлена расширенной, и всем подразделениям было вменено присутствовать в двух лицах, как начальника, так и главного инженера. Что обычно не практиковалось – достаточно было кого-нибудь одного, чтобы выяснить, кто кому наступил на мозоль, не выполнил или не додал, что нужно согласовать, увязать, отдать в принудительном порядке или выбить в срочном.
Кабинет Тереха забит людьми и заставлен стульями, гул и дым как в загазованном туннеле, взрывы смеха. Шкулепова проскользнула следом за Карпинским в угол, где Кайдаш усадил её на стул, подняв геолога, молниеносно раздобывшего себе другой у какой-то зазевавшейся задницы.
Терех похлопал ладонью по столу:
– Сегодня нас много, но это не значит, что надо шуметь больше обычного, – он сбоку, по-птичьи взглянул на Лихачёва, – Давайте, я думаю, так: вначале решим все текущие вопросы, где чего не хватает, и кто кого обидел, а потом у главного инженера есть сообщение, как он выразился, «в порядке бреда».
– Соображения, – сказал Лихачёв.
– Хорошо, соображения, – Терех оглядел присутствующих. – Плотина, что с третьей секцией?
– Нормально, уже бетонируем, – сказал Хуриев.
– А со спиралью четвертого водовода?
Хуриев покосился на своего главного инженера Тарханова.
– Заливают, – мрачно отозвался широкий, сутулый от своих размеров начальник Гидромонтажа Никитин. – Трижды сорвали работы на спирали. Допросили Четверухина, говорит – у нас выхода нет.
– Им так удобнее, – прокомментировал кто-то.
– Себе б на голову лили, если так удобнее, – всё так же мрачно сказал Никитин.
Терех вытянул шею в сторону Хуриева, которого было плохо видно за другими, поинтересовался:
– Вы вначале насосы устанавливаете, потом льёте? Или наоборот? – Хуриев с Тархановым молчали. – Завтра же согласовать работы на спирали!
– Это значит, – начал заводиться Тарханов, – что мы каждый день, как минимум, будем смену простаивать!
– Да вы жёлоб навесьте! – удивленно поглядев на Тарханова, сказал Котомин.
Тарханов открыл было рот и снова его закрыл.
– Один ноль, рассмеялся кто-то.
Давно известно, что вопросы согласования между плотиной и туннельщиками решались лучше, если присутствовал один начальник и один главный инженер, в любом сочетании, Терех даже всерьёз советовал заранее согласовывать представительство, чего те упорно делать не желали.
Если на планёрке присутствовали два главных инженера, то получалась коррида, бой гладиаторов и сплошное неприличие, публика веселилась, а Тереху оставалось разве свистеть в два пальца. Начальники же управлений, Хуриев с Матюшиным, ни до чего толком договориться не могли, каждый, по выражению Тереха, отстаивал «свои местнические интересы».
* * *
– Я о подаче пара на полигон.
– Дежурный вопрос, – сказал Терех, как только летит план, так пара где-то не хватает.
– Неуправляемая схема получается! Хоть ставь задвижку и ликвидируй регулировочную аппаратуру… Все идет на хозяйство Рогача!
– Пока не поставишь вентиль, будешь платить за всю котельную, – сказал начинающий нервничать Лихачёв. – Там всего сто пятьдесят метров трубы надо, чтоб не ходить и не задвигать пять задвижек…
– Запишите, – Терех кивнул на протокол, – в двухсуточный срок решить схему подачи пара на полигон. В противном случае отключить Рогача. – Он обернулся к начальнику управления промпредприятий: – Когда закончите вторую котельную?
– У меня народу мало.
– Могуч советский народ! – сказал Терех. Собрание хохотнуло. Терех посмотрел на Вебера. – Ты монтировал котельную на створе?
– Это после того, как она сгорела?.. В какой-то степени. В основном – Четверухин.
– Может, вы с Тархановым посоветуетесь и выделите кого-то в помощь?
Тарханов возмутился:
– Когда сгорела котельная, сняли экипажи с машин и поставили на монтаж… Болезненно, с дебатами. А потом часть их осталась монтажниками…
– Я имею в виду специалистов.
– Может, Четверухин будет ещё и бегать задвижки вам задвигать? – разозлился Тарханов.
– Подумать надо, – вздохнул Вебер.
– Так и записывать?
– Ага. Он подумает. Я лично думать не буду.
– Так и запишем. Веберу в течение недели решить вопрос с котельной, а Тарханову выполнить это решение. Всё!.. А теперь страшный вопрос Евгения Михайловича. – Терех посмотрел на вальяжно откинувшегося на стуле начальника управления туннелей Матюшина, удобно устроившего левую руку на спинке стула соседа.
– Я о загазованности третьего туннеля, – сказал Матюшин.
– Нормальная загазованность! У них там вентиляция работает процентов на двадцать пять!
– Они туда дизелькран загнали!
– Забрать дизелькран на полигон, поставить очиститель!
– А я думал, ты дизелькран от бензинового не отличишь…
– А как же козловой?
Лихачёв взорвался:
– Кран монтируете вы, а не мы, и нечего нам рассказывать о ваших внутренних неурядицах! – и тут же пожалел, что взорвался. Было это в нём, наорёт, потом опустит голову…
И если бы у него спросили, как бы он хотел работать с людьми, он ответил бы, не задумываясь: «как начальник». Как Терех, то есть. Он хотел бы быть таким же добродушно ворчливым, как Терех. Сам он мог и обижаться на него и сердиться, но их отношения были уже «вон из ряда». На Лихачёва начальник мог и обидеться, и обижался, и надеялся, и уповал, и рукой махал, взваливая на себя его обязанности. Тут уже отношение иного порядка, как к равному что ли… А иногда и более сильному. Так что их отношения – не показатель.
А вот факт открытого коллектива – показатель. Открытого коллектива открытых людей. Не зря говорят – каков поп, таков и приход. Терех был из тех добродушных характеров, которые совершенно лишены злопамятности, никогда не поминают прошлых грехов и не делают из них глобальных выводов на будущее. Как личность он был уже на том уровне, когда поведение по совести совершенно естественно, потребности в самоутверждении – никакой, когда человек уже действительно «папа», старейшина, миротворец и верховный судья, неуязвим для уколов самолюбия и не нуждается в доказательствах и подтверждениях собственной правоты, отсюда и его угрозы типа «или вы разберитесь или я буду принимать решение не разобравшись». Впечатление, что сомнения его почти не мучают, это он о Щедрине говорит – «очень уж он интеллигент, очень уж его мучают сомнения». Кто-то выскакивает – «он не отвечает за план!» Для Тереха как бы не существует проблемы выбора. Решат без него – хорошо, нет – «запишите». Без долгих размышлений, почти интуитивно понимая всё из пререканий и всегда – в точку. Он никогда не настаивал на своём, но если дело заходит в тупик – «давайте еще минуты три послушаем, как вы пререкаетесь, а потом запишем, что кому делать. Если не договоритесь»…
И все это добродушно. И твердо. И иногда кажется, что если бы не Терех, строительство ГЭС давно бы превратилось в строительство Вавилонской башни и давно развалилось.
– Чего ты кричишь? – говорит Терех начальнику Жилстроя. – Значит, очень хорошо строили, раз никто коллектор не эксплуатирует, а он четыре с половиной года работает. А что с булочной и автобусными остановками?
– А что булочная, завезли оборудование, а там такие финтифлюшки для шляп! Булки теперь на них вешать?.. А насчёт автобусных остановок уже начали шевелиться, выбрали проект, стенки такие, из кирпича, в сеточку…
– Нам нужно не шевелиться, а автобусные остановки.
– Должно быть красиво, раз столько времени выбирали!
И так далее. И ещё:
– Депутаты поселкового совета не явились на сессию.
– Привести в принудительном порядке! – сказал Терех.
– И не забыть увести!
* * *
Лихачёв встал. Ждал, пока стихнет общее веселье.
– Ни для кого не секрет, что финансовое положение стройки не из лёгких. Образовался как бы разрыв между настоящим положением дел и тем, за кого нас держат. Причем фактически его и нет, мы сдаем работу по частям, заказчик нам попался понятливый, я имею в виду дирекцию…
– Ага, скоро каждую дверь отдельно будем принимать.
– Мы идём в старом графике пуска, но с дырой в кармане и множеством недоделок. Нормальный ход событий на сегодняшний день – до конца ещё далеко, а выжить необходимо сегодня. Но если мы будем продолжать в том же духе, то докатимся до того, что нечем и срам будет прикрыть. Короче. Что нужно для того, чтобы наше финансовое положение улучшилось? Я считаю, – убедить Госплан, министерство в нашей состоятельности. А это можно, только перешагнув рубеж, отделяющий просто стройку от стройки пусковой. То есть, выйти на семьсот семьдесят третью отметку по всему комплексу.
Тарханов присвиснул.
– Не свисти. И так денег нет. Прошу всех внимательно отнестись к моим словам. Мы тут прикинули, и оказывается, это не такой уж бред – семьдесят третья отметка. По плотине, зданию ГЭС и монтажу агрегатов. Передвинуть сроки поставок оборудования нам забыли, и оборудование идет…
Кто-то фыркнул.
– Дирекция принимает.
– Скоро девать будет некуда.
– Узкие места есть, – продолжал Лихачёв, – Это второй строительный туннель, металл, естественно, и… – он посмотрел на начальника автотранспортной конторы Домбровского и ничего не сказал, потому что если Вячеслав Прокофьевич сейчас «возникнет», то всё пойдет наперекосяк. Перевел взгляд на Котомина с Матюшиным, спросил, – Как вам всё это нравится? В смысле – сколько времени вам потребуется на туннель, на его проходку и бетонирование?
Матюшин с Котоминым переглянулись.
– А когда надо? – озабоченно спросил Котомин.
– Вот это ответ! – Тереха приводила в восторг котоминская немногословность.
– Можно пока с кабельного туннеля снять людей, механизмы, – сказал Матюшин.
Котомин кивнул:
– Проковыряем.
У Лихачева раздувались ноздри. Все вскинулись, словно заслышав зов трубы. Впереди был просвет, и планёрка била копытами.
– Теперь металл…
– Может, неликвиды разобрать? – спросил Толоконников.
– Неликвиды продадим, – подхватил Терех, – остальное привести в работу. Алексей, – он повернулся к начальнику Гидромонтажа Никитину. – Может, мы за тебя металлолом сдадим, а ты нам обрезки листа?
– Зосим Львович, я не обещаю!
– А ты пообещай. Или тебе приказ нужен? Тарханов ладно, он с похмелья…
– Причем тут Тарханов? – возмутился тот.
– А Жилстрой всегда отличался демократичностью, интернационализмом и широтой взглядов и всё отдаст без приказа…
– Почему без приказа?
– Хорошо, я издам приказ. Или вы думаете, что мы все двести сорок семь метров плотины будем так укладывать?
– Почему двести сорок семь? Было же двести сорок три!
– Это лучше всех Шепитько знает! – хохотнул кто-то.
– Сократить подсобные предприятия…
– Что ты возьмешь на гравзаводе?
– Манукяну укладывать столько бетона, сколько максимально сможет.
– Шестьсот кубов при нормальной организации работы.
– Ну а теперь самое сложное – транспорт, – сказал Лихачёв. – Что скажешь, Вячеслав Прокофьич?
Домбровский, всё это время молча вертевший в руках подставку для карандашей, поставил её на стол.
– А что тут скажешь? Бред, как тут изволили выразиться вначале. Причём уже коллективный бред! И ничего больше.
Стало тихо. Все как бы опомнились, может, и в самом деле бред? Лихачёв разозлился:
– А если попробовать?
– Что за стремление обязательно устроить аврал?.. Вы у работяг спросили?
– Прокофьич, у тебя ж асы в белых рубашках ездют, а ты – «работяги», – сказал Тарханов. – Асы должны укладываться в любой график…
– У меня графики для людей, а не для самоубийц!
– Мы сворачиваем гравзавод пока, бетонный – ещё не работал на полную мощность, заполнителей на полгода хватит… Может, некоторые машины поставить на бетон?
– Что я БЕЛАЗы буду на плотину гонять? Чем вы их принимать будете?
– У тебя там и КРАЗы есть…
– Давайте послушаем его главного инженера, – предложил Терех.
– А что слушать?.. – главный инженер автобазы Сарынбаев пожал плечами. – Сами знаете, у нас весь автопарк после капремонта. И хотя сама идея мне нравится…
– Вы же хвастались, что они у вас после капремонта лучше новых!
– Лучше. Но я тут посмотрел и могу назвать цифру – сколько из них бегает последние дни. И ещё резина. Мы же без конца навариваем старые покрышки. А если будем срывать подачу этик шестисот кубов?
– Так что гарантировать ты не можешь?
– Нет.
– А попробовать возьмётесь?
Сарынбаев беспомощно оглянулся на Вячеслава Прокофьевича.
– Ему сейчас не до того, – сказал Тарханов. – У него скоро цыплята вылупятся, весенний опорос опять же…
– Сам-то ты тоже был против!
– Я? Я против котельной!
– За коллектив и коллективный бред. Я повторяю и буду повторять, что план нужно выполнять, а не перевыполнять, что не в рывках…
Терех взорвался:
– Ты можешь понять, что на прежних отметках ты ещё два года будешь наваривать покрышки и ставить машины на капремонт по третьему и четвёртому заходу? А так – мы со следующего года уже будем получать пусковые фонды? Новую резину, машины?
– А если не выберемся? И парк разрушим, и пуп надорвём?
Терех откинулся на спинку кресла, завертел четками.
– Вячеслав Прокофьевич, мы с тобой на жизнь смотрим по-разному, давно уже выяснили этот вопрос и давай не будем к нему возвращаться. У тебя сейчас успехи лучше наших – это понятно, ты фактически замкнут на самого себя. Да, отлаженность производства и малая зависимость от смежников дали блестящие результаты – ты это доказал, спас, можно сказать, стройку и, я думаю, спасешь её ещё раз. Профилакторий, оранжереи – это замечательно, но знаешь, без чего не может обойтись человек? Без перспективы. Это механизму нужен только уход, а человеку нужны ещё и перспективы. Подожди, не перебивай. И твоим асам нужны перспективы. Они люди, а не механизмы. И стройка – коллектив людей. Организм. Поэтому я в порядке приказа прошу тебя обеспечить укладку бетона по, как ты его называешь, авральному графику и вывернуться, хоть «на пупе». Что, Маша?
Маша, растерянно стоящая в дверях в ожидании конца его речи, сказала:
– Вячеслава Прокофьевича срочно, – отыскала глазами начальника техинспекции, кивнула и ему, – И вас тоже.
Оба вышли один за другим. Если в таком сочетании – значит, что-то случилось. Терех, хотя и спокойно, сворачивал совещание:
– К нашим перспективам относятся Курп-Сай, Кампарата и опытная плотина на Бурлы-Кие. Надеюсь, Карпинского и Люсю никому представлять не надо. Вадим, сколько, ты сказал, там примерно до развилки?
17. Авария в карьере. Домбровский
В это время в приемной Домбровский бросил трубку на рычаг.
– Поехали!
Понявший всё из его отрывистых вопросов техинспектор только спросил:
– Где?
– Правобережный карьер! – Домбровский бежал вниз по лестнице, а в груди его заливало чем-то горячим и липким. «Если бы… если бы этот «организм» не посадил в кабину девушку-нормировщицу то остался бы жив!»
Но он посадил, и прокатил на спуске, где стоит знак – «40 км», как минимум, на восьмидесяти. И в результате нет обоих.
«И никаких перспектив!»
Над крышами управления с воем пронеслась «скорая» – девушка, оказывается, была ещё жива, когда её высвободили из сплющенной ударом кабины. Домбровский развернул газик по виражу, вдогонку за «скорой». Но девушка умерла в те считанные минуты, что машина мчалась к больнице, и вой сирены, родивший какую-то надежду, теперь продолжал звучать в ушах просто звуком беды.
Домбровский слышал слова хирурга, видел перчатки, которые тот стягивал с рук, и вторые носилки, накрытое простыней тело на них, а потом к ним приставили и те, первые. Отогнул край простыни, будто стягиваемых за ненадобностью перчаток и слов хирурга было недостаточно, чтобы осознать всю бесповоротность случившегося.
Он, видевший танки, наматывающие на гусеницы только что бывшие живыми тела, думал, что видел всё, касающееся смерти, и не знал тогда, что смерть в мирное время страшна именно своей бессмысленностью. Всю жизнь связанный с транспортом и дорогами, он каждый раз поражался чувству беспомощности и отчаяния, и не сразу понял, что к этому привыкнуть нельзя. Гибели на войне было оправдание в неизбежности потерь. А нелепость случая в мирной жизни не могла приобрести черты закономерности или неизбежности. В смерти всегда была вина живых, всегда его вина, и если хорошо поискать, она всегда находилась…
* * *
В сорок пятом Домбровский вернулся в город, откуда в феврале сорок второго уехал на фронт выпущенным на скорую руку лейтенантом. Город, откуда писала ему письма пятнадцатилетняя дочка архитектора – неуклюжий подросток, школьница в чёрном фартуке, вечно натыкающаяся на стулья в огромной квартире и стукающаяся о все углы. Даже локоть руки, которой она подпирала подбородок, слушая их часовые споры с отцом, время от времени соскальзывал со столешницы вниз. Эта нескоординированность ребенка не вызывала раздражения, скорее – желание оградить, прикрыть рукой угол стола, о который она должна непременно ушибиться, отодвинуть стул, стоящий на дороге, локоть от края… Больше писать ему было некому – он не успел обзавестись настоящей девушкой, и писал письма практически ребенку, отвечавшему старательно и аккуратно. Он не заметил, когда почерк потерял корявость – в нём появилась стремительность, а в несложных поначалу мыслях – острота и точность наблюдений. Её письма придавали ему вес в глазах окружающих, но он всегда чувствовал в этом некий обман – себя и окружающих, и отвечал снисходительно, как ребенку, но отвечал, боясь, что эта единственная ниточка оборвется, и уже ничто не будет связывать его с той настоящей – бывшей и будущей жизнью, которая оборвалась с войной, но должна быть после и продолжаться бесконечно.
Изменение почерка и сути писем он заметил уже после капитуляции. Их часть стояла в фольварке какого-то немца, оставшегося немцем до последнего дня войны – так было ухожено и разумно его хозяйство – с автопоилками в коровниках, подвесной подачей сена, с теплицами, имевшими ухоженный вид даже под битым стеклом, с погребами, где всего было вдоволь, в том числе и винных бочек, которые в честь капитуляции опустошали славяне. Разумность хозяйства как бы повернули Домбровского лицом к теперь уже близкому будущему. Ему не было жалко того, что добивали окончившие войну победители. Он видел, как одни хлебают из котелков выдержанные вина и как другие, тут же, в свете костра, ели обычную перловку походной кухни, трезвые совершенно и вспоминали какую-то лошадь «с понятием» и какой-то лесок за горушкой, где кончается деревня. И уже прикидывали, чем они займутся, добравшись до этой горушки и этой деревни.
С двумя такими мужиками они обошли хозяйство и внимательно всё рассмотрели и пощупали, стараясь понять и унести в памяти чужую разумность и умение. Они отвинтили по автопоилке в скотнике, дотошно рассмотрели приспособление для уборки навоза, и он нарисовал на хозяйской мелованной бумаге три одинаковых схемы подвесной подачи сена.
Тяжелая мебель и потемневшие корешки книг наводили на мысль об архитекторском доме, а не о дочке архитектора. Сидя в кабинете хозяина, Домбровский просмотрел последние письма и тут заметил лёгкость и стремительность почерка, и ум, который не мог принадлежать красавице. Лена. Он почему-то думал, что неуклюжий подросток вырос в некрасивую, но умную и добрую девушку, и вот такую, умную и добрую Лену ему, может, уже не захочется ограждать от ушибов и ссадин. Но эти письма были единственной нитью, соединявшей его с настоящей жизнью, нитью, не обрывавшейся три с половиной года, хотя он совершенно не представлял себе, какой она будет, будущая настоящая жизнь.
Его бил озноб. И уже горячечным бредом представлялась ему ухоженная страна, залогом чего гремела в мешке автопоилка и белели на столе три одинаковые, нарисованные от руки схемы подачи сена.
А Елена оказалась чудесной – светловолосой, худенькой девушкой с бледным, освещенным горячими карими глазами лицом, с лёгкой стремительной походкой. Он понял, что тогда, зимой сорок второго – птенец ещё только учился летать в стылой зимней квартире, расшибаясь о мебельные углы, и что такая Елена полетит за ним, куда бы он её не позвал.
Он поехал механиком в МТС, потому что это было ближе всего к горячечной мечте о благоустроенной земле. МТС оказалась кучей железа под стылым небом степи, рассыпавшаяся, раскатившаяся и уже враставшая в землю всеми своими колесами и частями. Вместе с несколькими уцелевшими на войне мужиками они подняли её в ту страшную зиму, отремонтировав и поставив на колеса всё, что могло на них стоять. Домбровский не любил вспоминать ту зиму: она казалась продолжением войны, всё, что он понял тогда – вот таким был тыл и такой была работа в тылу. Зато в первую же весну они подняли земли всех пяти колхозов, и засеяли, и собрали урожай. Сорок седьмой был голодным, и только они во всей области выполнили план поставок и накормили своих. А через их сёла шли и шли голодные и опухшие люди, и накормить всех было нечем. И потому была потом другая МТС, ходоки которой повалились ему в ноги в ту голодную зиму. Её тоже пришлось восстанавливать с винтика, но это было ещё страшнее, ибо всё, что могло ещё служить, было отвинчено и растащено. И он из механика превратился в доставалу. Но после той, Охлушевской МТС, в него поверили.
А потом был приказ о сокращении сроков строительства Волго-Дона, куда его направили. Приказ, направили – не в этом дело. Домбровский к тому времени понял, что такие вопросы в такой огромной стране надо решать глобально, иначе их не решишь. Нужна база, нужна энергия. Индустрия.
И легла под колёса пожизненная дорога строительств. У них было много чего с Леной.
Этим двум, оставшимся лежать там, под белыми простынями, сейчас было столько, сколько им с Леной в сорок пятом. И у них уже не будет ничего.
* * *
…Покарёженный ЗИЛок со сплющенной крышей кабины лежал на боку, возле него топтались два милиционера, диспетчер и несколько шофёров с остановившихся неподалеку бетоновозов. Перед Домбровским расступились, как расступались всегда, и он закричал на ребят с КРАЗов – «Чего стоите? Поглазели и двигайте к такой матери!» – каркающим, каку ворона, голосом. Чуть позже подъехал Сарынбаев, Шамрай с Лихачёвым, Вебер, потом Терех. Проделали то же, что и Домбровский – посмотрели на ЗИЛок, поднялись на дорогу к карьеру, прошли до следа шин к обрыву, потоптались.
Была какая-то связь между криком Тереха на планерке и аварией в карьере, но Домбровский не мог уловить, какая. Мысль ускользала, в который раз он стоял на дороге, и всё казалось нелепым, вся его жизнь. Он умел организовывать производство, умел считать деньги, умел выжимать всё возможное из того, что имелось в его распоряжении, но с этим он не мог поделать ничего.
То, что он сделал из автобазы здесь, посторонним казалось фантастикой, журналисты шли косяками, как и желающие перенять опыт. А он просто сделал хозяйство таким, каким оно, по его разумению, должно быть. И всё. И только. Даже вместе с подсобным хозяйством. Сейчас вон строят КАМАЗ и рядом возводят сельскохозяйственный комплекс, который должен обеспечить работающих на нём людей молоком и мясом. А они в своё время – приехали сюда и сели на шею республике, конечно, в счёт фондов поставок, но после фантастически снежной зимы шестьдесят шестого – шестьдесят седьмого годов, когда поголовье скота снизилось чуть ли не в половину, сели на шею в самом прямом смысле. Стада здесь почти всю зиму на подножном корму, а в тот год дома завалило по самые крыши. Тюки прессованного сена сбрасывали с вертолётов и овцы бежали за его тенью, как за мамкой… По прогнозам поголовье восстановится года через три, не раньше. И тогда он завёл подсобное хозяйство, что показалось чем-то вопиющим. Не автобаза, а колхоз. Натуральное хозяйство. Дурной тон, наконец. А крику! Чабан числится слесарем! А что делать, если у него нет штатной единицы чабана? Людей-то надо кормить. Когда обвалилась Гнилая гора, и он пригнал отару овец, выменяв её на ЗИЛок в Уч-Терекском колхозе – никто не охнул, а вот то, что он оставил с десяток овцематок от этого стада – почему-то вызвало переполох. Сейчас вон – он и породу закупил, и развёл – молчат, привыкли. Ну, подзуживают некоторые. Терех – тот молчит. Лихачёву сауна нравится и плавательный бассейн в профилактории. А в кошары ходить – увольте. И зубы предпочитают лечить у Сабира, в том же профилактории. Хотя зубы здесь ни при чем.
Ну, свои – ладно. Тут какая-то эстетика. Но ревизии из области, в обком сколько таскали! «Постановили». «Занесли в протокол». Он всё записал на спрятанный в портфеле магнитофон, – совсем уж было в Москву собрался, в народный контроль. И тут – постановление о подсобных хозяйствах. Алиев сам прикатил извиняться, а он кассету ему поставил – слушай!
А перегон машин на капитальный ремонт в Волгоград, через полстраны?
Дважды Терех издавал приказы о его увольнении. Первый раз, когда он поставил пятьдесят машин на ремонт, срезав все заявки до минимума. И второй раз – когда уволил тридцать человек – пьяниц с соответствующим числом прогулов. Тереха тогда сам министр Непорожний спускал на тормозах – мол, от таких подарков не отказываются. Это он-то, Домбровский, подарок.
Правда, на базу капитального ремонта Терех согласился сразу но это уже после перекрытия: не знали, с какой стороны подойти к створу, деньги были, их надо осваивать, Терех тоже умеет деньги считать. И ещё раздражала явная нелепость перегона Кызыл-Таш – Волгоград.
И ещё никто не знал, чем дело обернётся, что впереди консервация стройки. Пять лет ни одной новой машины. Капремонт не только по первому, но по второму и третьему разу – и ходят, как новенькие. А за профилакторий Домбровский уже ни перед кем не отчитывался – появился фонд предприятия. Чтоб каждого рабочего раз в год подлечить от всяких гастритов-радикулитов – кто ему столько путёвок выделит? А так – двадцать четыре дня лечись, питайся – без отрыва от производства. И даже в принудительном порядке. Но это в начале было, потом разобрались, как и со столовой, с пекарней. Построили чуть ли не в счёт субботников, а уж на теплицы и бассейн никого и уговаривать не пришлось. И БЕЛАЗы он взялся испытывать не от хорошей жизни – по крайней мере, грохочут вон по окружной дороге с гравийного завода на бетонный. И на карьер согласился – выверил уклон, поставил знак «40 км», а в результате…
* * *
Приехав сюда, Домбровский увидел черный гараж на пять ям, весь транспорт – под открытым небом, половина бездействует Правда кое-где торчат из-под машин ноги или зад возвышается над радиатором – каждый водитель выходит из положения, как может. Дороги – и это в горах! – разбитые серпантины, зауженные развороты. И катят! Да еще как! Первое, что он потребовал – это пробить дорогу от автобазы напрямую через отрог, срезав тем самым два её витка вверх и соответственно – вниз. А старое шоссе осталось, по нему гуляют те, кому неохота карабкаться на всю высоту терренкура.
А теперь согласился на этот карьер…
Прожив на свете пятьдесят лет, Домбровский знал, что правда не одна, что она не общая для всех. Правд столько, сколько и людей. И все правы. Каждый по-своему. И ругань потому, что каждый считает себя правым, а не только, когда один – ангел, а другой – потрох. И каждый поступает по своей правде. Хотя она иногда совпадает с чужой. И если по справедливости – Терех умел суммировать эти правды для общей пользы. Он не навязывал свою волю, а всегда находил что-то допускающее их сочетание. Что это, способность смотреть на всё отстраненно, как бы и не имея собственного мнения? Сейчас он не мог припомнить, чтоб Терех предлагал когда-либо какие-то свои решения. Он только формулировал задачи, которые, как он говорил, «ставила перед ними жизнь». И любил оптимальные решения, как «наименее насильственные» и близкие к создаваемому жизнью. Бред какой-то. Точно формулировок Тереха Домбровский не помнил. Помнит только, как однажды он кричал Тереху что «создаваемое жизнью» тяготеет к бессмысленности. Ну да, это когда ему указывали на его насильственные действия «во благо». «Мы с тобой идейные противники»… Тереха не переубедить – если убедил – значит, оба правы. Терех позволял ему делать всё, пока это «всё» не шло в разрез с интересами стройки. А пошло бы – смог бы и запретить: «Попросить в порядке приказа».
Может, он взвился на «коллективный бред» оттого, что ему пообещали что-то после аврала, какие-то блага? Он испытывал лишь одну потребность – создавать. Эта потребность сидела в нем, как арматурина в железобетоне. Он родился с нею, и сломать её можно только вместе с ним. У него была своя правда, и она чего-нибудь стоила. Правда работы, дела. Она, может быть, не была конечной. Но её можно увидеть, пощупать руками, она понятна как факт и как факт неопровержима.
Он ставил на «обезличку» – утром никто не знал, на какую машину сядет. За её состояние, как в аэрофлоте, отвечает механик, а не водитель. По опыту только в этом случае складывалась самая высокая производительность, независимо от того, как отремонтирована именно твоя машина. Схема должна быть повторяемой, когда дело касается производства. Если идет бетон. Строительство – это транспортировка. Если никто не знает, кто на какую машину сядет, техника готовится лучше, её состояние не зависит от того, кто на ней ездит. Машины у него не ломаются, у него что-то происходит с людьми…
Хлопнул дверью Саша Куманов, его второй главный инженер, – первого он выгнал. Ушел и третий, Сарынбаев четвертый, держится. Выражение приветливости на круглом лице, узкие щёлки монгольских глаз. Крик на него не действует, только щёлки глаз становятся совсем узкими, ничего не прочесть в них – ни бешенства, ни осуждения. Выдержка это или воспитанное тысячелетиями восточное уважение к старшему, за которым может быть Бог знает что, даже снисходительность к старческому маразму? Или равнодушие. Хотя в работе он цепок. Голова без шеи, сидящая сразу на плечах, кругло переходящих в сложенные перед собой руки, поза почтения и согласия. Вот уже пять лет. Этот не уйдет… И это наследник?
Вечным отпечатком остался в памяти поворот кумановской головы с чубом, свисающим на лоб, полыхнувшие бешенством глаза.
А Сарынбаев неподвижно сидел перед ним с вежливым вниманием и бесконечным терпением на лице…
Летела в борщ ложка, брошенная Стаднюком, борщ – в лицо, скользил по кафельной плитке пола опрокинутый стул… Боком вышла ему эта столовая с бесплатным питанием. Культура быта, культура поведения… Скатерти-салфетки, ножи, вилку в левой, нож в правой. Молодежь слушала, терпела. Посмеивалась, он же видел. Так ещё к Стаднюку прицепился и получил: «А пошёл ты! Я и за свои поем, без нотаций!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































