Текст книги "Сага о стройбате империи"
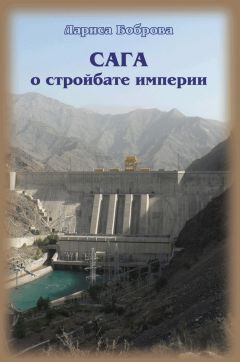
Автор книги: Лариса Боброва
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
И все согласились с ним.
Дядя Белим погрозил Лихачёву пальцем:
– Ты следи, чтоб в следующий год нас опять… Ты понял, Герман Романович? Воды не будет шесть лет…
– Прямо как у библейского Иосифа – шесть лет урожайных, шесть неурожайных… Шесть тучных коров, шесть тощих…
– Семь, – сказал Шамрай с тупостью подвыпившего любителя истины. – И сон, кажись, снился фараону.
– А фараону сон снился! – изумилась Малышева. – Отцу фараона! То бишь, Усубалиева… У меня пленка есть!
Следующим встал Тарханов. От него, как от главного инженера плотины, ждали если не благодарности, то хотя бы благодушия, так как плотина, слава тебе Господи, уцелела. Но он с неодобрением и мрачностью оглядел расслабившихся взрывников и произнёс:
– Я хочу сказать не о героях сегодняшнего дня. Не о тех, кто взорвал. Я хочу сказать о тех, кто хотел нам помочь. О водолазах, гидромонтажниках…
Услыхав про героев дня и уже не слыша, о чем же собственно хотел Тарханов сказать, Котомин взорвался:
– Надо говорить, не мы построили, а вы взорвали, а мы – мы построили, и мы – взорвали! – он громыхнул стулом, зацепил что-то локтем.
Рядом с ним встала Шкулепова.
– Ты!.. – сказала она Тарханову и задохнулась. – Положим, мы бы отказались это делать. Положим. Тебе бы не было от этого лучше, Тарханов. Тебе бы пробили сквозную дыру в плотине, как Водяной и обещал. Только менее аккуратную. И вряд ли наша совесть была бы от этого чище. Хлопок, п… п-порох, противостояние… Таково наше время… Пришли, когда пришли. В другое – не придем. Господи, ведь мы рабы своего времени! Мы все… п-подневольные палачи друг другу… – она сглотнула близкие слезы. – Но то, что ты, Тарханов, по отношению к нам палач добровольный – не делает тебе особой чести…
– Ты что, Люся? Я не хотел…
– Ты хотел. Ты всё время нарывался.
– Вы что, ребята?! Бросьте! – ошалело глядя вокруг, сказал Гена Волков.
– Нельзя быть чуточку беременной, Тарханов, – сказал Лихачёв. – Мы все хотели – приблизить пуск, не жаться, вздохнуть свободнее… Все – и ты, и я…
– И мы, – сказал Степанов. – Потому что от вашего пуска зависело, быть или не быть Кампарате. И опытной плотине тоже…
– Благими намерениями вымощена дорога в ад, – сказала Шкулепова. – Но взрывники тут вообще ни при чём! И Володя, и Василий Иваныч, и дядя Белим. И Саня…
– Его надо было поставить на денёк рядом с нами, чтоб его хоть разок пот прошиб от страха, когда вода выбивает бур!
– Ребята, ребята! – Гена Волков застучал вилкой о графин. – Он же просто хотел сказать о нашей неудавшейся авантюре! – Гена опустил голову, махнул рукой. – Не смогли мы вам помочь. Но мы, честно… У каждого по паре кессонок и больше…
– О чем ты, Гена? – Котомин потянулся к нему. – За тебя я выпью. За всех вас! За всех, кто хотел нам помочь! За всех, кто стоял рядом с нами!.. За Сеню Багина…
– Не надо за Сеню, – сказал Вебер.
– За Сеню Багина, – настырно повторил Котомин, – За всех, кого подставили вместе с нами, и кто вместе с нами уродовался! За всех! – он кивнул на Тарханова, – И за него тоже.
– Тошно всё это, – сказал Тарханов.
– Ах, тебе тошно? – Котомин опять стал приподниматься на стуле. – Тебе тошно? А ты, – он задохнулся, – Ты знаешь, что чувствует баба, когда её изнасилует взвод? Нет? А я теперь знаю!.. Я всё теперь знаю!
– Теперь мы все это знаем, – флегматично сказал Лихачёв.
– Не-е-ет, вы смотрели! Вы все смотрели! А я… Черный прынц! Нас…
Хромов с силой усадил, вдавил его в стул за оба плеча.
– Не боись, Василич, отобьёмся!
– Ну, всё, хватит! – Терех встал. – Хватит, я сказал!
Стоял над всеми щуплый, седой. Возвышался.
– Дети мои! Ох, какие вы ещё дети! Именно поэтому мы должны встать. Должны про-ти-во-сто-ять. Пока мы не придумали ничего другого, нужно противостоять. Хотя бы так. Чтобы, слышишь, Люся? Чтобы осуществились благие намерения! И должны стремиться их осуществить! И должны выдержать двойную, тройную, нечеловеческую нагрузку… Потому что иначе нельзя. Нельзя не выстоять. Потому что мы тоже часть живой, неистребимой жизни, ради которой, я не знаю как кто, но мы здесь, в конечном счёте, и уродовались. Всё! Отдыхать!
– Явились, – сказала Светлана, – Голубчики!
– Нормально, мать, – почти висящий на Мурате Котомин легонько отстраняет с дороги жену и рушится на диван.
Малышева икает.
– Господи, – говорит Светлана, – Водички попей!
Шкулепова в Инкиной комнате собирала вещички. Теперь все могут перебраться в гостиницу – «девочки, ваш номер освободился!» И вдруг слышно, как распластанный на диване Котомин смеётся всё громче и громче, и на подушке подпрыгивает его голова, словно остатки истерики полились через край, стоило ему принять горизонтальное положение. Сколько же отрицательной энергии накопилось в этом мужике, если и сейчас, распластанный и почти раздавленный, он всё ещё исходит нею, и подпрыгивает на подушке его голова? С трудом он говорит сквозь смех:
– Сизифов труд! – и снова хохочет. – Сизиф, твою мать! Двенадцать лет! Двенадцать лет и один день! Треть сознательной жизни… И всё – коту под хвост.
– Ну так уж и всё, – примирительно говорит Светлана.
– Всё. Всё!.. Я не хочу больше строить!.. Ещё два таких камушка вкатить и спустить. Зачем?
– Ради процесса, – говорит Малышева.
– Чихать я хотел на процесс! Больно хреновый процесс!.. Положил я на него!.. ГЭС – на воду воду – на хлопок, хлопок – на взрыв!.. – он ёрнически кривит рот. – Про-ти-во-сто-ять! Выстоять!.. Ха-ха! Для ответного удара! – Светлана молча смотрит на него. Замерла Шкулепова у дверей. – Я не хочу работать на ответный удар! Удар – и никого не будет! И ничего!.. Замечательный процесс!
Инка смотрит на него круглыми глазами и жмется к Светлане.
– А зачем ответный удар, – говорит Светлана, – Пусть хоть они выживут.
И прижимает к себе девятилетнюю дочь. Ребенка, который в пять лет самостоятельно и неизвестно как выучился читать, в шесть – одолел два класса музыкальной школы, и на которого они все смотрели с тревогой и изумлением, потому что, как говорила Шкулепова, самоутверждение у неё пошло не по женской линии…
Они стояли и смотрели на Светлану, прижимающую к себе дочь, на Котомина, медленно поднимающегося с дивана, стояли как в столбняке, пока Котомин с грохотом не повалился Светлане в ноги, не обхватил её вместе с дочерью, не ткнулся в колени головой.
– Мать, я не политик! Я землеустроитель!.. Но ты же видишь! Я занимаюсь хрен знает чем!
Лицо Шкулеповой мгновенно заливают слезы.
– Но ведь это… дурная бесконечность! – говорит Малышева.
Шкулепова поворачивает голову, глаза её становятся сухими.
– Ты думаешь, от лягушачьей икры бесконечность менее дурная? И Мурат не выдерживает:
– Вот потому что вы такие, вас и надо защищать! Потому что вы такие!
– Защитнички, – говорит Шкулепова и бросает в сумку зажатое в руках платье. – Защитнички… Куда бы от вас деться… – она поднимает с пола сумку и идет к двери, метя пол свисающим платьем.
На пороге опомнившийся Мурат трясёт головой.
– Целый день кино! Целый день кино, а у меня кончилась пленка. – Он отнимает у Шкулеповой сумку, запихивает в неё волочащийся подол, оглядывается на Малышеву. – Вот тебе и жертвенность, вот тебе и чувство пути. Вот тебе всё, что ты хотела…
– Добро не жизнестойко, – горестно говорит Малышева. – Всегда убивают самых добрых, и самых нежных, и самых смелых… И так всегда. Какая-то мародёрская цивилизация…
– Это у них мародёрская цивилизация! – говорит Мурат. – Вначале истребили индейцев, потом негров завезли, чтоб было кому на них работать. В первую мировую вмешались к дележу, во вторую – тоже к разделу и дележу… А потом нейтронную бомбу придумали! Апофеоз мародёрства! Платье останется, а её не будет, – он кивает на идущую впереди Шкулепову.
– Не нуди, – говорит, не оглядываясь, Шкулепова. – Ваш любимый Хемингуэй оттуда… И Фолкнер, и Марк Твен, и Апдайк…
– А потом они своих передавят!
– Не нуди, не нуди, ох, не нуди! – Шкулепова хватается за голову.
– Ты тоже можешь сказать, как Светлана? – спрашивает Малышева и останавливается. – Тоже – пусть хоть они выживут?
И они какое-то мгновенье смотрят друг на друга. Потом Шкулепова говорит:
– Я не имею права. У меня нет детей, – она вырывает сумку из рук Мурата и соскальзывает вниз по склону, напрямую.
Малышева кидается за ней, хватает за руку.
– Люся! Люсенька!
– Отстань от меня! Я устала! – и обе падают, а потом сидят в обнимку на склоне и плачут. Мурат в растерянности топчется наверху, и рядом с ним, за заборчиком, стоит Пётр Савельевич Шепитько, держась руками за штакетины, потом достаёт большой носовой платок, вытирает лицо.
– Девчата… Как пожар…
Часть третья
Оправдание добра
43. А это были пузыри земли
«Впереди бежал дед Мороз. На мосту он сшиб шлагбаум, как финишную ленточку и, набирая скорость, побежал по стране с такой стремительностью, что Новый год в Москве наступил на час раньше, хотя никто этого не заметил»… Так рассказывал Мурат о новогоднем пуске.
Но как же далеко до него было в конце лета и в сентябре-октябре! Словно ход событий, раз отклонившись, никак не мог войти в должную колею, несмотря на все усилия людей. События сминались, налезали друг на друга, и дед Мороз действительно бежал в ту новогоднюю ночь – прочь из машзала, через туннель, мост, подальше от места действия…
* * *
Через день после взрыва Котомин посадил в «Жигули» всех своих баб – Светлану с Инкой, Шкулепову и Малышеву, отвёз вниз, в Ош, и погрузил в ЯК-40, летевший рейсом на Чолпон-Ату. Пообещав встретить их здесь же через двенадцать дней, он впал в какое-то мутное оцепенение, словно сделал последнее нужное дело. По привычке к осеннему отпуску, когда хороша охота, он не стал ничего менять и, отпустив в отпуск своего непосредственного начальника Матюшина и механика – мужика совестливого и вполне могущего заменить их обоих на какое-то время, он с не вполне осознанной сладостью остался один в пустом доме, в почти пустой конторе и на створе.
Только из необходимости кормить собаку он варил супчик на двоих, иногда жарил яичницу, часов с восьми проваливался в сон в настежь распахнутом доме; просыпаясь утром, словно выбирался из глубокой ямы со смутным недовольством, что жену с дочерью отправил всего лишь на двенадцать дней, что надо было бы услать их на все двадцать четыре, как можно дольше продлив это оцепенение распахнутого настежь дома, полусуточного сна и почти полного, благостного молчания.
В один из дней он залез в штольню, из которой в будущем намеревались вставлять затвор. Штольня была залита водой, несмотря на тяжёлую металлическую плиту, которой был придавлен узкий зев рамы, и даже сквозь воду доходил какой-то нехороший, дребезжащий звук – бетон не успел набрать прочность, и рама сидела неплотно. Это не вызвало ни эмоций, ни мыслей – осталось лишь сведением, зафиксированным сознанием.
Но теперь, едва провалившись в сон, он видел эту воду: она вскипала бурунами и дребезжала тяжёлой металлической плитой, пока что-то не сорвалось там, не охнуло с металлическим скрежетом, похожим на окрик «Приказ!»
Он сел на постели, не сразу отходя от ужаса, вызванного металлическим скрежещущим голосом. «А это были пузыри земли», – почему-то пришло ему в голову.
Он снова откинулся на подушку, хотя понимал, что больше не уснёт. Лежал с открытыми глазами, припоминая, откуда шёл этот звук. Ниоткуда. Как будто обвалился свод, сминая металлические арки.
Так. Ну, первый приказ, можно считать, он выполнил, когда приехал сюда по распределению. Мог ведь отбухать три года и слинять. Но остался, вжился к тому времени. И в голову не приходило, что это никому не нужно. Раз этим занимается столько людей, значит, это нужно. Стройки всегда были данностью нашей жизни – «стройки коммунизма».
А это были пузыри земли…
Что сделал Сеня Багин со своим правом голоса? Сказал, что заслонки не отрегулированы? Вот его, Багина, и кинули их регулировать. Вдруг вспомнилось: это же был шестьдесят пятый год! Ну да! Инка родилась в мае шестьдесят пятого. А в новогоднюю ночь шестьдесят пятого он хватал Багина за грудки: – А ты зачем в партию вступил? – и устраивал стрельбу с фейерверками. А Багин отдирал его от себя: – Чтобы иметь право голоса…
Они ж ничего тогда не поняли! Им казалось, что всё ещё впереди. Даже состояние некой эйфории припоминалось, – Ну, турнули Никиту Сергеевича за кукурузу и волюнтаризм! Значит, есть более конструктивная программа, нам не известная. Должна быть. Им казалось, что всё только начинается, а на самом деле был стоп и полный назад. Откат. Лаковый разворот «Огонька», где Хрущёв снят вместе с космонавтами, ещё вчера сложенный и прикнопленный к стене в теходеле таким образом, что на нём оставались одни космонавты; потом этот разворот во всю ширь, с Никитой Сергеевичем посредине… Вряд ли в техотделе что-то поняли… Скорее, свободомыслие таким образом выразили…
А уж сам Котомин «вступал в ряды», твёрдо зная, что иначе ему работать не дадут. Что это – как заявить о своей приверженности идеям социализма. Что на самом деле так и есть. Он стал человеком с такой позицией – ему надо работать, и если для того, чтобы ему дали работать, нужно сделать то-то и то-то, он это сделает Выполнит формальности. В отличие от Багина, который вступал в парию, чтобы «иметь право голоса», считая, что его голос может что-то значить…
И только старик Володин, слушая их эйфорические бредни, сказал тогда же, в шестьдесят пятом, или даже в конце шестьдесят четвёртого:
– Как вы не понимаете? Это просто ещё одно звено в той цепи, которой не видно конца! – он знал, что говорил, он много чего знал…
В свое время старик Володин был личным пилотом наркома Дальнего Востока и потерпел аварию – что-то отказало в его гидроплане. Он восемь суток проболтался в океане, пока его не подобрали японцы, и только в сорок седьмом году обменяли на кого-то из своих. И всё, что он видел, летая с наркомом, он потом прошёл сам и рассмотрел как следует уже с другой стороны, изнутри. А дурёха Малышева подарила ему книжку Экзюпери… Реабилитированный и получивший пенсию Володин работал у них конструктором до тех пор, пока перед самым перекрытием не сорвалась бадья в строительном туннеле и не уложила двух ребят, ударно бетонировавших свод. Следствие установило, что дефект был не в володинской конструкции, и даже не в доморощенном её исполнении в здешних мехмастерских, скрытый порок был в самом металле, из которого эту конструкцию выполнили. Но для Володина это уже не имело никакого значения – он ушёл в тяжелейший запой и постоянно сидел на кладбище в компании ребят, которых его бадья отправила на тот свет. И в Майли-Сай – лечить от белой горячки – его увезли прямо оттуда…
Похоже, что Володинская «цепь» продолжает греметь, ну, не кандально, полегче, этакими добровольными веригами, уже в фарсовом исполнении. И то, что Рашидов доказал, что он важнее Усубалиева, – это уже частности… Это их байское дело. Кто-то из вологодцев, вон – привез частушку из метрополии: «Эх, средь некошеного луга! Воробей дерёт грача! В этом личная заслуга! Леонида Ильича!» Не в этом дело…
Это в тридцатых, сороковых годах великие стройки коммунизма начинались с этапов. А сейчас кинули клич – и поехали!
Котомин снова сел, сжал руками голову. Ему казалось, что её сейчас просто разнесёт. Но он понимал, что надо додумать до конца, до абсурда, и если эти мысли в конце концов приведут к абсурду, он их спокойно отбросит и уснёт.
Ну, зачем кидают клич и эшелонами отправляют на край света и подальше с глаз – это понятно. Чтоб землю грызли, глядишь, чего-то освоят и обживут необжитые регионы, а главное – чтоб под ногами не путались, не мешали и не участвовали… С сильными труднее тягаться, и труднее ими помыкать. Сколько же их было, этих строек коммунизма, где гробился цвет страны? Народа? Коммунизма нет, нет ягодок, нет и цвета.
Ну, почему посылают, понятно. А мы-то почему едем?
Все ушлые с курса остались в городе. Уезжали – сильные, честные, прямые. И он уехал, хотя мог и остаться. Мог выбирать, с красным дипломом-то. Но не хотел оказаться среди ушлых и умеющих устраиваться. И ещё, самое главное: Они не укладывались там, в своих метрополиях. Не укладывались в штатные расписания, в сложившуюся систему отношений – производственных и общественных. Вот это ощущение тоскливой скуки от общепринятых мнений, кем-то давно расписанных установлений, не подлежащих изменениям. Что после вузовской несвободы будет несвобода другая, только клетку сменишь, и ещё придется приноравливаться к ней… Они ехали на край света, чтоб не шестерить и не пихаться локтями, ведь не на красную же тряпку лозунга… Хотя и внимали легендам – газетным и изустным…
Где родился, там и пригодился… Почему же мы там не пригодились? Такие, какие мы есть? Почему вписаться можно, лишь снивелировавшись? И почему мы не нужны там такие, не поддающиеся нивелировке? Карапет вон, – вернулся в свою Армению, по которой тосковал, и опять не прижился. Хотя здесь казался достаточно гибким… В Армении у него вначале угнали и разбили машину, потом пригрозили убрать самого… Встал он там поперек горла… Ну, это крайность, когда за счет объекта возводятся в основном особняки для начальства и нужных людей… А в основном, в целом, почему они там не ко двору? В метрополии? Уж не потому ли, что могут вдруг додуматься до решения не только инженерных проблем, но и социальных?
Всё сходилось. Всё слишком сходилось, чтобы быть абсурдом.
В груди была такая теснота, что Котомину казалось, что вот-вот лопнет сердце. Он пошарил на тумбочке в поисках сигарет, закурил. Тедька спрыгнул с кресла, подошёл, стуча когтями, ткнулся мордой в колени. В груди понемногу отпускало, дышать становилось свободнее. Подумалось вдруг с весёлым отчаянием:
«Но ведь мы живы. Мы живы – никого не смыло, не затопило. Мы ещё можем поправить хотя бы то, что натворили здесь. И ещё можем вернуться в метрополию. И начистить ей морду. Только не надо возвращаться в одиночку, как Карапет…»
44. Гибель Юры Четверухина. Поминки
Через двенадцать дней Светлана с Инкой и Алиса стояли в аэропорту Оша на том же месте, высматривая Котомина и его машину Малышева укатила прямо на студию – запаниковав дня за два до отъезда, она позвонила режиссёру, сразу закричавшему, что нужно срочно сдавать сценарий, иначе фильм у них отберут, и как производственную единицу отдадут другому режиссёру и для другого фильма. И она уехала на перекладных, выйдя на дорогу в замечательных белых штанах, купленных здесь по случаю. К приезду в столицу республики штаны уже никак нельзя было назвать белыми: покрытая пылью с головы до ног, Малышева одной рукой поддерживала в подоле футболки большой полосатый арбуз, в другой была сумка. «Меня катили» – рассмеялась она на изумлённый взгляд ещё не переставшего злиться режиссёра, и обязалась написать сценарий в три дня.
Так вот, через двенадцать дней Малышева в срочном порядке писала сценарий в столице республики, а Светлана, Инка и Алиса стояли на пороге Ошского аэропорта и тщетно высматривали Котомина и его машину.
Котомина не было. Последний автобус ушёл в двенадцать, день перевалил за половину, и перспектива втроём, с вещами, добираться на попутных за триста километров, радовала мало. Светлана вспылила: «Хоть бы раз…» и осеклась – к ним через забитую машинами площадь шёл мрачный, набычившийся Тарханов, словно грёб по пояс в воде. Золотистый Светланин загар мгновенно стал зеленовато-мертвенным.
– Что? – выдохнула она одними губами. – Что с ним?
– Не с ним, – отчётливо сказал Тарханов. И нагнулся. Собрал в обе руки всё, что перед ними стояло, и, не оглядываясь, пошёл к машине.
Уже сев за руль, сказал:
– Юрку… – и тяжело сглотнул. – Юрку Четверухина убили.
Подробностей в Кызыл-Таше не знали. Убили в поезде. Труп сняли в Соль-Илецке. Котомин поехал туда на грузовике, с одним шофёром. Оттуда гроб повезут в Саратов, на родину.
Галя Четверухина с дочками, Оксаной и Таней, жила там с лета.
Дорогой молчали. В зеркало заднего обзора Тарханов видел только круглые Инкины глаза, незряче глядящие на дорогу. Что происходит в этом ребёнке, он представить себе не мог. Только за Ташкумыром, через два часа пути, Инка спросила:
– Мама, а Оксана с Таней вернутся?
– Не знаю, – сказала Светлана. И заплакала.
Котомин дважды звонил Тереху. Подробностей не сообщал. Юрка за кого-то заступился там, в поезде. За какую-то девушку. Случилась драка. Непреднамеренное убийство. Убившего сняли с поезда вместе с ним.
* * *
Котомин вернулся через две недели, почерневший, как головешка. Уже и Малышева вернулась – отписалась. И все отпускники – и Шамрай, и Птицыны, и Матюшины, и Шкулепова приехала на выходные с Бурлы-Кии – собрали что-то вроде поминок у Котоминых. Пришли Домбровские, Тархановы, Манукяны.
Котомин встал, чтобы что-то сказать в память о своём школьном друге, долго стоял, время от времени открывая рот, беззвучно, как рыба. Потом сказал:
– Крючок… – он не знал, почему у него всё свелось к крючку почему торчал перед глазами, как наваждение, вагонный никелированный крючок для одежды. Если б о гладкую стену, да о что угодно, Юрка бы вывернулся. Он был подвижный, юркий, цепкий. – Крючок в купе. И человека нет. Нашего с вами… товарища.
Для следователя это было ординарное до зевоты, непреднамеренное убийство. Накажут, конечно. Котомин прочёл показания девушки – их было четверо в купе: она, Юра и те двое. Вначале всё было нормально. Потом они позвали девушку в вагон-ресторан. Они и Юру звали, да он не пошёл. В ресторане взяли коньяк. И ей тоже немного налили. Она не хотела пить, но потом всё же немного отпила. Она собиралась платить за обед сама, но один из них накрыл её руку с кошельком ладонью, и сказал: «Оставь на завтрашний обед». Дружески. И она почему-то поддалась тону. Платил второй. Когда вернулись, Юра вышел покурить. И с ним тот, что говорил: «Оставь на завтрашний обед». А второй к ней полез. Она вывернулась и хотела выскочить за дверь, но дверь оказалась запертой на защёлку, и отодвигалась только на небольшую щель. Она вставила в щель ногу и пыталась открыть дверь. Но мужик был очень здоров, а второй удерживал Юру, она слышала: «Оставь, без нас разберутся». Но Юра дёргал дверь и кричал: «Открой, паскуда, кому говорят». И тот открыл. «Паскудить будешь в другом месте. Понял?» Тот смерил его взглядом с головы до ног. И грязно выругавшись, сказал, что такие, как она, только нажраться за чужой счёт норовят. Юра спросил: «Сколько?» А девушка: «Я сама отдам». Положила на стол трёшку, выскочила в коридор, боялась, что расплачется. Там ещё что-то говорили, она слышала. Потом голоса стали громче, и она хотела вернуться. Но не успела. Что-то грохнуло там, кто-то упал, и стало тихо. Она дёрнула дверь, и увидела лежащего на полке навзничь Юру, запрокинутое его лицо и кровь на виске. И закричала. Так пронзительно, как только могла. Это она хорошо помнит – желание кричать как можно громче…
У мужиков чемоданы оказались набиты оренбургскими пуховыми платками. Они утверждали, что он сам полез, и его только отшвырнули. О крючок. «С документами какой-то кооперации», – сказал следователь. «Липа, конечно, сейчас проверяют». Сам не зная зачем, Котомин попросил показать убийцу. Ему отказали. Тогда он закричал: «Выпустили, да?» – «Нет». Потом почему-то решили показать. «Только без эксцессов». Он сидел и смотрел на вошедшего вместе с милиционером мужика. Тот, видимо, уже успокоился за время отсидки, в глазах тоска. Лицо в суточной щетине, обрюзгшее. Сам довольно рыхлый, хотя и молодой. Здоровый. Остановился против следователя и покорно ждал, когда к нему обратятся. Котомин ожидал увидеть скота. Наверно, он таким и был там, в купе. Но за эти дни в нём проступило что-то человеческое. Котомин сказал: «Посмотри сюда». От неожиданности тот дёрнулся, как от удара, повернул голову. Серое лицо его стало покрываться испариной, глаза ускользали. Котомин сидел и смотрел, как плавится и растекается чьё-то лицо, чья-то воля, но легче не становилось. Не было ни злости, ни гнева. Что он хотел увидеть? Спросил у следователя: «Он вам нужен?» Тот качнул головой: «Нет, – и милиционеру: – Уведите».
Котомин видел Юру последним. В Саратове гроб уже не вскрывали. Он видел его лицо, его вытянувшееся, окоченевшее тело, всё ещё как бы запрокинутую голову, небольшую ранку на виске. Странное ощущение, что это что-то другое, а не его друг. Что это тело не имеет отношение к его другу.
Он думал, что всё будет гораздо тяжелее. Но он почти ничего не чувствовал. Какая-то пустота вокруг него, в нём. Отстранённость окружающего, где всё происходило по какой-то непонятной логике, враждебной ему также, как и Юре, но по странности позволявшей ему вывезти гроб с телом друга… Котомин сам себе казался явившимся из мира теней.
Ехали через Уральск, почти без остановок, меняясь за рулём. Шофёр Алексей был неунывающий лихой парень. В подменке он не дремал в кабине, а бросал ватник в кузов и растягивался рядом с гробом. Юра таких любил. Котомин был не подарок, Юра с детства терпел все перепады его настроений, но любил он таких, как Алексей – лёгких людей. Ему бы понравилось, что тот спит рядом с гробом.
Котомин дремал в кабине. Даже не из странности сна рядом с покойником. А из предчувствия отчаяния, которое навалится, едва он упадёт рядом с гробом. Безысходность и так душила его.
…От Озинок начался дождь, затяжной, осенний. К ночи не выдержали, остановились в какой-то деревне, уже за Ершовым, у первой избы, в окнах которой тлел свет. Попросились ночевать. И не сказали, что за груз в кузове. Алексей поставил машину во двор, прошёл в дом. Дождь хлестал во всю, и вот эта ночь, темь, проливной дождь…
Он не стал рассказывать, как там, на чужом подворье, под проливным дождём он ткнулся головой в кузов, в котором стоял гроб с Юрой, и твердил, ржаво ухая и лая сквозь плачь: «Ты прости, Юр, прости, что я тебя здесь оставляю, на дожде, гроб цинковый…» От рыданий голова его билась о борт, но он не как не мог задушить их в себе, пока не вернулся Алексей, не отодрал его от борта, и терпеливо ждал, когда он успокоится…
* * *
Котомин сказал:
– Мы не смогли сказать хозяевам, что в кузове.
Что поняли все они, за поминальным столом, из его сдавленных фраз?
На него смотрело двадцать пар глаз. Таких глаз он не видел больше нигде.
Потом Тарханов сказал:
– Похоже, что мы двенадцать лет прожили в резервации.
Теперь двадцать пар глаз смотрели на него. Юрина нетронутая рюмка на пустой тарелке. Ёлки, у них были основания так думать. Мир за этими горами был другим.
– В консервной банке! – сказал Котомин. – И теперь не понимаем, что же происходит в стране. Как раньше не поняли, почему нас сюда выпихнули.
– Я не знаю, что происходит в стране, – сказал Матюшин, – Я видел только море, забитое телесами. Все жалуются, что нечего жрать. Поперёк себя шире, а всё, понимаешь, недоедают. И всем – дай, и никто не скажет – на…
– Или штурмуют магазины, и хватают всё, что не попадя, – сказал Саня Птицын. Устав толкаться в московских магазинах, он купил Жене каракулевую шубу, а на оставшиеся деньги – ковёр с райскими птицами. А все разуты. И дома закатался в этот ковёр, чтоб поэффектнее раскататься, когда придёт Женя. Чтоб не заругалась. И заснул. – «Мечта барыги» ковёр называется, – Саня рассмеялся. – Мы начинали с чего? «Через двадцать лет мы будем жить при коммунизме». Ха! Мечта Никиты. Точно. Сейчас этот коммунизм остался прижатым к стенке по медвежьим углам. Чемодан пуховых платков… Шлёпает нашего Юрку только за то, что тот не позволил девку… унижать! За трёшку… Сидите по медвежьим углам, и сидите! А кругом разгул барыг. И народ туда же – жри, хватай, хоть ковёр с райскими птицами, хоть что. Всё ребята, хана. Мы разрозненная оппозиция, загнанная в угол.
– Какая мы, к чёрту, оппозиция? – сказал Котомин. – Чему?
– Хватательному рефлексу, – сказала Малышева.
Она приехала со студии с несколько ошеломлённым лицом – однажды она уже писала вместе с этим режиссёром его сценарий – это был ад, хотя тогда она просто взялась помочь. Но режиссёр опасался, что она предъявит счёт. И все её фразы выворачивались наизнанку, украшались газетным барабанным боем, и прочими красивостями только для того, чтобы потом сказать: «Картинки ваши, мысли – наши». Хотя и картинки узнать было уже нельзя. И теперь она заранее оговорила, что святая обязанность ассистента – помогать режиссёру во всём. Было даже любопытно, станут ли её в таком случае выворачивать наизнанку, и доказывать, что иначе худсовет не примет. Её не выворачивали. Худсовет принял. Режиссёр написал кусок о розочках, выращиваемых в оранжереях автобазы. И о том, что людям нужны и розочки, которые уносят в пургу под полой тулупа. Зачем нужны эти розочки к материалам взрыва и пуска, несмотря на взрыв, о котором писала она, так как была уверена, что этот пуск будет?
Но времени на споры не было.
На титульном листе режиссёр поставил только свою фамилию, хотя фактически лишь оттаскивал на машинку написанные нею страницы. Пусть так. После она попросила один из экземпляров для них с Муратом – нужно же группе иметь при себе экземпляр сценария? Но режиссёр сказал, что экземпляров едва хватает для всяких официальных дел. Ну ладно, сказала она, возьмём себе черновик, и потянула к себе рукопись. Режиссёр резво ухватился за другой её конец. Потянул к себе. Они посмотрели друг на друга. Что-то в его глазах было. Такое. Говорящее, что именно рукописный вариант, написанный её рукой и с его правками («зажглись фонари» – писала она, – «как звёзды», – добавлял он) именно этот вариант нельзя и даже опасно оставлять в её руках. Опасно для него. Он снова потянул рукопись к себе, и она отпустила. Он торопливо спрятал рукопись в портфель, щёлкнул замками. Она сидела и смотрела на него. По дороге в буфет он объяснял, что сценарий им с Муратом не нужен, что в документальном кино это только мешает, что он для сметы нужен, а не для фильма. Что документальное кино рождается буквально в процессе монтажа. Она это знала и без него. Посмотрев проявленный материал, режиссёр сказал, что они не сняли ни одного приличного плана. Из этих обрывков ничего не склеить! Им всё было понятно – просто плёнка шла вразнобой. Мурат обиделся. Они сели в монтажной, и склеили всё по порядку, событийно, одно за другим. После чего крайне возбуждённый режиссёр заявил, что фильм у него в кармане. Но взгляд, когда он тянул к себе рукопись! Небольшая неловкость, и цепкое нежелание выпускать из рук то, что уже считал своим. Они не знали ещё, что их ждёт, когда фильм пойдёт в запуск, и режиссёр, к которому не захочет идти не один директор, возьмётся директорствовать сам, списывать и класть в карман всё, что можно и чего нельзя. Как не знала Малышева и того, что, когда она появилась на студии, кто-то сказал про режиссёра, что ему каждый раз приходится объявлять комсомольский набор, потому что во второй раз к нему работать никто не идёт. Они с Муратом и были очередным комсомольским набором. И вся студия смотрела и ждала, когда комсомольский энтузиазм кончится, и начнётся элементарное понимание вещей. А забегать с предупреждениями – увольте, ещё чего не хватало. И каждый комсомольский набор хлебает под самую завязку, под плач и смех всей студии.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































