Текст книги "Сага о стройбате империи"
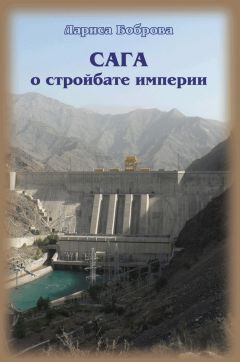
Автор книги: Лариса Боброва
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Ей не снился город Климентин. Ей снилась эта долина, её багрово-красный алевролитовый склон, с кибитками из собранных вокруг красных камней, выделенными на склоне глянцевитой зеленью гранатовых деревец с багрово-красными же цветами. Два цвета без оттенков и переходов как детском рисунке… Это южный склон; отвесно взметнувшийся северный – медовый и солнечный; меж ними посёлок со змеящейся речкой в налитом синью распадке…
Они сидят с Багиным в газике, в духоте застёгнутого на все пуговицы брезента, ливень рушится на брезентовую крышу, и она совершенно уверена, что этот Иван Матвеевич – их Ваня. И её распирает от благодарности к Багину за то, что он не оставил выяснение «на потом» и теперь сидит с нею в духоте брезента и рассказывает о городе на холме, опоясанном каменной кладкой и проросшей вереском. Она ошалело смотрит на Багина, потому что именно так выглядит её родной город если в него въезжать со стороны Ингула. И ничего удивительного там, на обложенном кладкой холме, где она жила, не было. Провинциальный город, в котором улицы спланированы, почти как в Ленинграде, лестница – как в Одессе, каштаны – как в Киеве. И любая, сколь ни будь несхожая с общепринятыми, мысль – подозрительное отклонение, а уровень разговоров такой: «Что-то стал я замечать, в гору сердце жмёть!» – говорит муж, а жена ему в ответ: «Мотор железный, а и тот снашивается!» И всё тебе утешение и мысль. Хотелось на волю, в пампасы, куда-то…
Багин-Багин, зачем ты приехал в Кызыл-Таш?
* * *
– Нет у меня моторов большей мощности, нету! Да и не встанет больший на это основание! – крик взъерошенного Никитина из Гидромонтажа взлетает над ровным интеллигентным голосом ЭПРОНовского очкарика.
Они цеплялись за каждое звено, за каждый болт и гайку и огрызались. Министры говорили о взрыве как о деле решённом, и строителям оставалось только огрызаться. И дело даже не в установке на сопротивление. Тут был какой-то психологический барьер. Если человеку надо сделать что-то нужное обществу, его коллективу и ему в частности, то его мозг начинает работать именно в эту сторону Мозг работает направленно. Но если человеку предлагают сделать что-то вредное если не всему обществу, но его коллективу и ему в частности, в мозгу происходит как бы сбой, и мозг отказывается работать. Это как в полупроводнике. В сторону полезности – пожалуйста, извернёмся, исхитримся, выдумаем и сотворим, а неполезности – ничего. Дверка захлопывается, и ничего не придумать, и даже не сообразить, возможно ли это вообще и какими средствами.
Они ничего не могли сообразить в эту сторону, и каждое звено, болт или гайка казались если не непреодолимым, то существенным и обескураживающим препятствием.
Пахло потом и почти псиной.
За три часа изматывающих подробностей Непорожний, без конца прикидывая что-то на логарифмической линейке, наконец, продрался сквозь затвор и круг проблем, связанных с его подъёмом. Выход на ригель затвора и смену моторов должно осуществить за неделю группой из пяти водолазов спасательной службы и при наличии одной кессонной камеры. Министр постарается «подослать ещё кого-нибудь» с действующих ГЭС. К тому времени подойдёт водолазный бот вооружённых сил со всем своим составом. В распоряжении водолазов будут уже три кессонных камеры, три рации, плюс военврач. Никитинские вопросы насчёт болтов и гаек будут решаться в рабочем порядке.
Далее – вскрытие туннеля.
Способы проходки, ни один из которых не исключал прорыва воды по скважинам, непроверяемость последнего взрыва, наконец, большая вероятность выхода ситуации из-под контроля. Атмосфера снова сгустилась, кондиционер с воем перерабатывал раскалённый воздух, не успевал и захлебывался. Свита сидела с осоловелым видом – легкого мероприятия не получалось, чужая трагедия казалась скучной. Багин, облокотившись о колени и подперев голову руками, смотрел в пол.
Несмотря на свежие силы взрывников, отдувавшихся теперь за туннель, все уже понимали, что неизбежная, как ливень, говорильня кончится тем, чем и должна кончиться, вот и всё. Министр давил, свита соловела, и наверно хорошо, что им сразу не дали ни на ноготь надежды. И, может быть, так лучше…
* * *
…Там, под тремя чинарами, сидя с Багиным в законопаченном газике, брезент которого постепенно намокал, а потом и вылил ей за шиворот целую лужу воды, Малышева надеялась. Дождь стихал, облака оседали на дорогу и склоны, но ехать в этом молоке было совершенно немыслимо. И они ждали немыслимо долго. А потом всё-таки поехали вниз с зажженными фарами.
Дорожники стояли где-то в районе будущего нового Музтора, и хотя было уже часов семь, Луговский оказался на месте и был похож на её маму и двоюродного брата. Или это сходство выискала надежда? Тети Лизин сын был больше похож на её маму, чем она. Сходство высветилось, как вспышкой, и поэтому она сразу сказала: «Я Настина дочка. Здравствуйте, дядя Ваня». И увидела растерянность на его лице и недоумение. Добавила, чтобы не сомневался: «У вас ведь было две сестры – Настя и Лиза». А он всё так же ошеломленно смотрел на неё, а потом замотал головой. У него не было сестёр. У него были только братья, и оба погибли в войну. А невестки были точно – Настя и Галя. И мать его до сих пор жива, можно съездить и убедиться. И Малышева попятилась к двери и чуть не вывалилась за порог вагончика. С грохотом, едва удержавшись за железную дверь. Было стыдно. Своего дрожащего от радости голоса, что запоздалым эхом звучал в ушах, – «Я Настина дочка». Стыдно за глупость всей ситуации. За то, что втравила в это дело Багина. Что ждала чуда.
Потом этот чужой Иван Матвеевич кормил их в столовой-вагончике и плеснул ей водки на дно стакана, и выпил сам, но всё это было как в вате и тумане. – «Ладно, я согласен быть твоим дядькой». – Спасибо. Спасибочки.
* * *
Еще через два часа редкостная тупость Котомина, отвечавшего на все вопросы «Ну», с запозданием и напряженным лбом, вывела Непорожнего из себя.
– Что вы всё нукаете?
– Ну, дальше, – сказал Котомин.
Даже котоминский начальник, Евгений Михайлович Матюшин, казался на редкость бестолковым. Александр Алексеевич Степанов встревал только, если его сослуживцы Антипов с Плиевым выдавали очередную ересь. Шкулепова вообще молчала в тряпочку. Только Николай Николаевич Пьянов был на высоте – считая, что в любом случае и при любом способе Гортехнадзор не даст разрешения на проходку, несмотря на тонкую усмешку министра водного хозяйства.
– Хорошо, поедем на место, – раздражённо сказал Непорожний.
У Котомина разгладился лоб. Пусть они увидят этот туннель, забитый времянками и вагончиками складов, что они ещё там увидят? Разве стену, запирающую его? И паттерну, что выглядит нелепо маленьким оконцем посреди глухой стены с шестиэтажный дом… Пусть увидят бетон, на котором будут лететь коронки буров. Пусть вдохнут стоячий удушливый воздух. Пусть залезут в паттерну по сваренной из арматуры лесенке. Пусть. Пусть увидят, как рушить то, что строилось на совесть и на века.
* * *
Публика повалила вниз, на забитую машинами площадь. Мурат, по привычке дремавший на газончике у кафе в окружении съёмочной техники, вскочил и с камерой наперевес двинулся навстречу толпе. Ближе к крыльцу стояли потрепанные бобики строителей, и свите пришлось продираться мимо них к своим «Чайкам» и «Волгам». Степанов рулил к котоминской машине, Шкулепова шла за ним след в след, Малышева – почти вслед за Багиным, которому пришлось идти мимо уже добравшегося до своего газика Котомина. Багин остановился, что-то сказал ему, протянул руку, и Котомин эту руку пожал. И потом уже слышно, как Багин говорит Володьке Котомину:
– Молодцы, По крайней мере, вас никто не обвинит в том, что вы плохо сопротивлялись.
Котомин незряче кивнул, Степанов стиснул его плечо, Котомин и ему кивнул, и теперь они все стоят тесной группой – Малышева, Багин, Котомин, Степанов, Шкулепова… И Багин, щурясь, говорит Шкулеповой:
– Как живешь, Аля?
Она медленно поднимает глаза, разлепляет губы; почти невнятно говорит:
– Как видишь, – и откашливается. – Как люди, так и я.
Багин пристально смотрит в её лицо с незрячими глазами, смотрит с какой-то почти болезненной гримасой, будто в стандартном ответе хочет уловить его настоящий смысл.
– Багин, – говорит Малышева, бессознательно повторяя эту его гримасу. – Зачем ты приехал? Почему именно ты?
– Но воды действительно нет, Малыш, – голос его зазвенел, лицо стало собранным и правым. – А кто приехал – я или другой – это уже… эстетика.
– Люся! – кричит Мурат. – Людмила Васильевна!
Машина киношников перекрывает выезд с площади, и возле неё уже нервничает милиционер. У Мурата было время выработать тактику съёмок. Едва Малышева добралась до машины, как она тронулась с места. Намного оторвавшись от остальных, Мурат велел остановить машину у моста. Их шофер Ренат дал задний ход, загнал машину на развилку к бетонному заводу и остановился.
– Как только последняя машина въедет на мост, трогай, – сказал Мурат и полез на крышу рафика. Он снял спуск машин по серпантину, их приближение, проезд, и когда последняя машина проехала мимо, Ренат почти неощутимо тронул с места и поехал следом. Малышева знала, что Ренат проедет как бог, но её всё равно всю свело оттого, что Мурат сидел с камерой на скользкой крыше рафика, пока они не остановились, пока министры и все остальные не растворились в чёрном зеве туннеля.
* * *
Посещение туннеля высокой комиссией ничего не дало, да и не могло дать, хотя Непорожний и залез по лесенке в паттерну, после чего решили сделать перерыв на обед, а после снова собраться в управлении.
Глядя на бегущую под колеса дорогу, Шкулепова подумала, что жить как люди – это жить в предлагаемых обстоятельствах. А обстоятельства таковы, что у Котомина незрячие глаза, а Степанов захлебывается горячим воздухом. Они могли жить как боги, но обстоятельства и… Вчера она только с помощью Тереха смогла переселить Степанова в номер с кондиционером. Но он всё равно будет здесь захлебываться и отекать. А как живут боги?
…Когда Алиса вошла в свой номер, Малышева стояла на балконе, вытянув шею. Приложив палец к губам, она поманила её к себе. Сверху несся яркий багинский голос:
– Совесть тоже не мешало б иметь! Распределители одинакового диаметра, заслонки не отрегулированы, вся система практически не отлажена!
– Вот этим и займётесь с завтрашнего дня!
– Я-то займусь! Но чем вы тут занимались два месяца?!
– Всё. Всё! Всё равно заслонками много не наэкономишь.
– А мне много и не надо! Мне надо сто пятьдесят кубов всего! К тому что есть!
– Проснулись, – сказала Малышева.
Шкулепова села на кровать, потерла лоб тыльной стороной ладони.
– Я рада, что он собрался.
– Ты думаешь, Багин что-то скажет против взрыва?
– Нет. Не скажет. Но я рада, что он собрался из разобранного состояния.
– Так пора бы, – сказала Малышева.
* * *
Послеобеденное заседание началось с выступления министра водного хозяйства. Он заявил, что если присутствующие специалисты не могут взять на себя ответственность по вскрытию туннеля, то он найдет таких среди работников своего министерства. Правда, степень сохранности сооружения вряд ли будет их волновать. Кроме того, существуют сапёрные части. И не надо создавать проблем там, где их нет. Проектировщики, на его взгляд, слишком осторожничают. Смешно в сегодняшней ситуации более всего заботиться о сохранности сооружения.
Дальнейшее вылилось в разработку собственно технического задания и сроков его выполнения, – фактически около двух недель.
Никто уже не трепыхался. Это был конец. Они знали, что им могут накинуть день-другой, но всё равно взрыв будет. И Терех был прав, когда ратовал за меньшие сроки и меньший измот.
Далее был составлен совмещенный с работами на затворе график всех подготовительных работ в туннеле, начиная с очистки его от всех бытовок и складов и кончая сооружением пробок в четвёртом и шестом транспортных туннелях, куда могла прорваться вода, а так же в подходящих к туннелю выработках. В трое суток предписывалось подвести к месту вскрытия коммуникации сжатого воздуха, технической воды, электроэнергии и вентиляции, а также – телефонную связь.
Остановившись на способе вскрытия туннеля с помощью минной камеры, расписали работы второго этапа: бурение передовых скважин, проходка минной штольни и камеры.
Указание о заряжении минной камеры и времени взрыва будет дано дополнительно, в зависимости от поднятия затвора.
График подписали все, кроме Котомина и Степанова. Они от подписания графика отказались.
Степанов сказал, что пока не будет пройдена хоть одна разведочная скважина, бессмысленно говорить о возможности вскрытия и, тем более, о его способе.
Министр ирригации выразил надежду, что у оппонентов всё же нет оснований утверждать, что он требует невыполнимого и чреватого человеческими жертвами.
В установившейся затем тишине был слышен лишь шорох крыльев потолочных вентиляторов. И тут Александр Алексеевич Степанов грузно встал. Трогательная его попытка если не повернуть события вспять, то хотя бы назвать вещи своими именами, выросла потом до легенды. Вытирая затылок клетчатым носовым платком, он заговорил своим свистящим, с затрудненным дыханием голосом:
– Позвольте мне, старику, сказать… Я – лицо в некотором роде постороннее и не заинтересованное ни в воде, ни в гидроэнергетике. Я день слушал, как вы собираетесь взрывать, приравнивая этот взрыв чуть ли не к вопросам жизни и смерти. Безусловно, взорвать можно всё, как и выкрутить руки Технадзору. Взорвать можно… Но… уж очень некрасив этот взрыв. Это взрыв не созидающий, а разрушительный. Да, год катастрофический, но нельзя же всё взваливать на плечи одного коллектива, одной стройки. Нужно как-то поделить последствия катастрофы… Не все же полтора миллиарда тонн хлопка погибнут в таком случае, можно отключить ту часть полей, которую вы собираетесь полить недостающими кубами… Бедствия надо встречать сообща, тем более, стихийные бедствия. А вы… Вы просто нашли крайнего, скажем так. Вот ведь в кулуарах даже среди ирригаторов идут разговоры о неотлаженности схемы полива… Что-то можно сэкономить… Пусть они сами скажут, ведь… В такой ситуации непонятно, как можно молчать…
Тонко улыбающийся министр ирригации кивнул и бодро сказал:
– Представители Казахстана предложили более гибкую и экономную систему полива. Вот мы их и кинем сейчас на отладку сети.
– А давно бы надо… – сказал Степанов и грузно осел на место.
– И сколько кубов это даст? – спросил Непорожний.
– Кубов пятьдесят даст, – сказал Багин своим напряжённым голосом.
– А надо? – с торжеством спросил Водяной.
– А надо сто пятьдесят.
– Где ж ты раньше был, сынок? – Степанов повернул голову к Багину.
Непорожний молчал. Долго молчал, опершись руками о стол и возвышаясь над ним горой. Потом сказал:
– Что ж… Значит, мы будем… крайними.
Он откинулся, распрямился. Хрустнули в шелестящей тишине пальцы. И в этой тишине Тарханов заорал, давясь смехом:
– А верёвку? Верёвку с собой брать?
– Ну давайте варягов позовем! – Непорожний тяжело засопел, отодвинул стул. – Сами, думаю, вы будете поаккуратнее…
35. Тайная вечеря
И наступили те страшные четырнадцать дней, о которых даже через два года, на премьере фильма в Москве, на которую приехали из Кызыл-Таша человек пятьдесят приглашенных, да с ближайших строек раз в пять больше, явился Гидропроект, Спецпроект и Взрывстрой, зам министра энергетики, неотлучно сидевший в те дни на стройке, пытаясь объяснить, как это было на самом деле, сказал: «На самом деле всё было гораздо страшнее. Это было очень страшно».
Какой-то библейски необоснованной обреченности разматывался сюжет, но там – Бог, рок, испытание и наказание, и месть ревнивого Бога-отца, а тут что?
В тот день, когда решался вопрос быть или не быть взрыву, и уже решился, когда их министр отодвинул стул и вышел, обходя кресло начальника с Лихачёвым в нём и длинный стол заседаний, когда следом встали гости, ближние и дальние, и, переговариваясь и потягиваясь, тоже вышли, вытекли вон, здешние остались сидеть в тупом оцепенении. Даже Терех, слова которого бессознательно ждали остальные, молчал, зябко сложив на груди руки с тем же оцепеневшим видом обреченности и жертвы.
– М-да, – сказал Шамрай, ни к кому собственно не обращаясь, – раньше в таких случаях звали Симона. Если верить Луке, Марку, Матфею… Это, кажется только у Иоанна, у самого молодого, который и апостолом, кажись, не был, после занял вакантное место, крест несет не Симон, а Сам…
– Я не знаю, – сказал Тарханов и встал. – Не знаю, кто будет нести крест, но казнить будут нас!
Он незряче шарил рукой по двери, пока не нащупал ручку, дернул её на себя и вышел. За ним поднялся его начальник, потом главный энергетик, монтажники. Домбровский, дойдя до двери и обернувшись, сказал:
– Позаседали и будет. Пора за дело. – И остановился в недоумении: – А какое ж теперь дело? – махнул рукой, вышел.
– Похоже, – сказал Котомин, кривя рот и оглядывая сидящих воспаленными глазами, – похоже, остались одни Иуды!..
– Только без истерик, – очнулся Терех. – Давайте сейчас по домам, а завтра будем думать, как побыстрее проскочить это… Этот… И забыть. И жить дальше. Строить…
И тут Пётр Савельевич Шепитько всхлипнул громко и сдавленно, и закрыл руками лицо, и уронил с тумбочки телефон, задев его локтем, но за это ему простятся многие его прошлые и будущие грехи.
* * *
На лестнице Шкулепова незряче оступалась, Пьянов поддерживал Степанова, Малышева путалась под ногами у Котомина и, заглядывая ему в лицо, путано объясняла разницу между четвертым Евангелием и тремя предыдущими. Что Шамрай совсем о другом говорил, у первых – свидетельство, боль утраты, а Иоанн – уже агитатор и пропагандист – надрыв и упор на чудеса – и воскрешение Лазаря, и самолично несомый крест, и даже намёк на обещанное ему бессмертие, «если Я хочу, чтоб он прибыл, доколе не приду, что тебе до того?»
Видя её заискивающие глаза, Котомин вроде чуть оттаивает:
– Значит, нас прямо по агитатору и пропагандисту…
– Я… я хочу сказать, что Иуда здесь ни при чём.
Котоминское лицо опять каменеет – вот так она всегда, поправить поправит, а потом сама же всё и испортит, и ей лучше заткнуться, и она заткнулась.
Да что они могли знать тогда, в семьдесят четвертом, когда всё это на них обрушилось, и «тьма накрыла Ершалаим»? В стрессовой оглушённости они пытались хоть как-то уяснить происходящее и, как кутята, тыкались в поисках параллелей по прошлому, по закоулкам легенд и мифов, могущих дать хоть какое-то понимание происходящего с ними.
Жизнь задаёт задачки одну за другой, и у каждой должно быть своё решение, но не найдя его, мы пробуем приспособить ответ от другой задачки, найденный в конце учебника… И нам это сходит с рук, потому что ответа не знает никто, но мы-то знаем, что он от другой задачки, себя не обманешь… А ответы случаются редко, тем более – верные. Если даже Толстой, Толстой ведь! Написал однажды в дневнике – «Нет надежды конца и уяснения!» Но в такие моменты вдруг кажется что-то понятным в прошлом, может, только кажется, но в напряжении собственных душевных сил вдруг высвечивается даль веков и лет, становится внятной чья-то боль, ранее только осознаваемая… Так Четверухин именно в эти дни открыл и ни к селу ни к городу сообщил, что не мог Пушкин вынести шороха вокруг своего дома, мужик же он, в самом деле! И эта сука царь, ездивший мимо окон Натальи Николаевны и интересовавшийся, почему у неё шторы спущены! Знающий свою безнаказанность – никто на дуэль не вызовет, перчатку не кинет! Это ты к чему? Так… Но понимание чужой загнанности, затравленности – нутряное понимание, не через сострадание, а через своё, когда жареный петух клюнет… А надо бы кинуть перчатку – Пушкин же!
* * *
Как всегда быстро темнело, народ растекался вниз от площади, постепенно сворачивая к своим домам, и до калитки Котоминых дошли только пятеро – Шкулепова со Степановым, Малышева, Пьянов и сам Котомин. Котомин поднялся на крылечко, а остальные потекли через двор, сокращая путь к гостинице, и протекли бы через него, но Светлана удержала за руку Александра Алексеевича, остановила: «Подождите, я вас сейчас накормлю, вы же голодные!» Подставила Степанову складной стул, обтянутый полосатым тиком, потащила за собой на кухню Малышеву. Малышева только зажмурилась на её молчаливый вопрос, Светлана закивала испуганно и понятливо, руки у неё дрожали, она накладывала в глубокие тарелки гречневую кашу из завернутого в ватник казана, выставила трехлитровую банку молока, всё это они быстро оттащили во двор, расставили на столе.
Ели молча, время от времени отлавливая ложкой падающих в молоко мотыльков, опаливших о лампу крылья. Пьянов просто сдувал их к краю, Шкулепова вяло съела пару ложек, задумалась. Светлана приговаривала: «Ешь, Люся, ешь!» Она уже знала, что чёрт принес сюда Багина, и с тревогой и озабоченностью переводила взгляд с Котомина на неё и обратно. Когда Шкулепова опять отложила ложку, прикрикнула: «Ешь! О чём ты всё время думаешь?»
В глазах Алисы, отрешенно смотревшей перед собой, мелькнуло удивление, словно она вернулась издалека и удивилась собственным мыслям:
– Я думаю о Тайной вечере, – она снова взялась за ложку. Всем стало не по себе – действительно, обступившая их темнота ночи, лампа, очертившая круг за столом, падающие в тарелки мотыльки, каша с молоком вдруг показалась странной едой в неурочное время – молчаливая трапеза, высвеченная в темноте ночи. – Я думаю, что же там было тайного? Ведь ничего тайного там нет, во всех Евангелиях… Ну, собрались люди, друзья. Ну, единомышленники… Отужинали. Почему же она – тайная? Ну, да, первосвященники и старейшины положили в совете взять Иисуса и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения; но вопреки этому всё происходит именно в праздник. Время вечери самое что ни есть праздничное и все-таки вечеря тайная… Потом назвали, из-за предательства Иуды? Но Христос знал, что его предадут. Знал, что пойдет на крест и на горе молился: «да минует меня чаша сия» об этом. «Но как ты»… Так что же? Пророчества, что один из вас заложит, а другой трижды отречется, не успеет пропеть петух? Для этого и великим психологом быть не надо, нерасположение к себе люди чувствуют кожей, как и слабости близких…
– Тайною, – сказал Степанов, – вечеря зовется оттого, что на ней было приобщение апостолов к таинству святого причастия: Сие есть тело моё – хлеб, и кровь моя – вино, изливаемая в оставление грехов… И в моё воспоминание. Хотя есть там, конечно, что-то таинственно невнятное…
– Да ну вас, – сказала Светлана, – у меня мурашки по коже… Ешьте!
– Я думаю, тайным там было то, о чём нам не сказали. И что осталось тайной и за строкой. Сын человеческий, а Он именно так себя называл: «И сядет Сын человеческий одесную Бога» – со временем понял, что одной проповедью добра человечество не проймёшь. И он решился – не сразу, конечно. Что крепко стоит то, что стоит на крови и страдании. Добровольном страдании.
– А может, они вместе решили. Такое коллективное решение… – Малышева хмыкнула. – И коллективный сценарий.
– Оп-па, сценарист заговорил! – Пьянов поднял деревянную ложку, будто собирался щёлкнуть Малышеву по лбу.
– А что? И коллективно расписали, кому на крест идти, кому отрекаться, кому закладывать… Проговориться мог только Иуда, от тяжести доставшейся ему ноши, вот он и повесился… Иоанн говорит, что Иисус отвечал: тот кому я, обмакнув, кусок хлеба подам. И обмакнув, подал Иуде Искариоту. И сказал ему: что делаешь, делай скорее. Он раньше с ним договориться мог! И никто из возлежащих не понял!
– Но тогда получается, что Иуда невинен! Что если Иисус одесную, то он – ошуюю! – возмутился Степанов.
– Получается.
– Нет, – Степанов протестующе поднял руки. – Не получается. Здесь не только жизнь, но и честь – жертва большая, на все века… Сама сказала – нерасположение к себе человек чувствует кожей… Особенно ревнивое, раздражённое, как его не прячь.
– И Иисус им воспользовался.
– Да.
– Некрасиво.
– О, Господи! Нельзя из предателя делать героя! Так можно договориться неизвестно до чего, оправдать любое предательство!
– А если человек не виноват? Если Сальери всё-таки не отравлял Моцарта? Но его триста лет считают убийцей?
– Но тридцать сребреников?
– И тридцать сребреников. И повесился на кривой осине. Не смог. Или так и было задумано. И именно на осине, которая дрожит уже две тысячи лет, а до того, стало быть, не дрожала. Они же были талантливые ребята…
– Не хуже нас с вами, – раздался голос Шамрая.
Все вздрогнули. Никто не слышал, когда он пришел, даже собака не залаяла – Тедька смирно сидел у его ног.
– А что, всё сходится, – сказал Пьянов. – Даже поцелуй Иуды, притча во языцех на все века – почему все-таки Христос с ним целовался? А так – они прощались.
– Не передергивайте, – сказал Степанов. – Иуда целовал Иисуса, чтоб стража знала, кого именно хватать.
– Мне бы в Симонах проще, – сказал Котомин.
– Ты не со стороны, – Пьянов принялся за кашу.
– Так что мне теперь, повеситься на кривой осине? Или потом?
– Вова! – закричала Светлана.
– Думаю, тайным здесь было то, что министру объяснили, что министром он может и не быть, но взрыв всё-таки будет, – сказал Шамрай.
– Нет на нас Божьего благословения, вот что, – сказал Степанов. – Дьявольская история. Душу готовы заложить за что-то хорошее, а в результате фарс или что-то и вовсе неприличное – именно так с ним и бывает…
Шамрай взялся руками за голову:
– Если бы мы сразу заложили туннель напорным!
– И кто бы нам это позволил в расчёте на мифическую засуху? Какой не отмечено за последние восемьдесят лет, собственно, с тех пор, как ведутся наблюдения…
– Но даже с учётом катастрофической засухи и снов фараона-отца у меня нет уверенности, что если нас размазывают по стенке, то иного выхода нет. Хлопок, рис, наша собственная беспечность, и поезд ушёл – всего этого недостаточно. Мой акселерат-максималист сказал: «Ну, знаешь, не война и не сорок первый». – Шамрай не стал рассказывать, как он собрал в кулак рубашку на груди акселерата: «Что ты знаешь о войне и сорок первом?» И отпустил, выскочил за дверь, задохнувшись от отсутствия доводов и какой-то, показавшейся конечной правоты акселерата. – У меня нет внутренней уверенности, что взрыв – единственный выход. Мне недостаточно решения моей или нашей судьбы кем бы то ни было, будь-то пришельцы, Бог или руководящие лица. Я хочу, чтобы это было видно мне. Иначе мне не хватает внутренней уверенности.
Он снял очки, прищурил на свет лампы воспаленные глаза.
– Довод тут один, – сказал Степанов. – Пусть я, пусть нас, пусть мне…
– По Тереху? Или князю Мышкину? – усмехнулся Шамрай. – А пока мы спрашиваем – почему мы, почему нас? И на лице Тереха это написано также ясно, как на моём или, вон, на его…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































