Текст книги "Сага о стройбате империи"
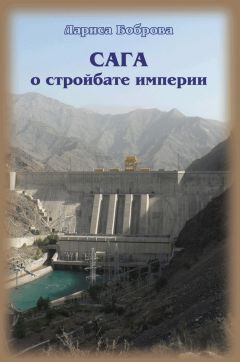
Автор книги: Лариса Боброва
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
2. Начальник, его главный инженер и прочая рать
На еженедельные планерки в кабинет начальника строительства Зосима Львовича Тереха собираются все подрядчики, субподрядчики, представители всех СУ, СМУ, участков и колонн, строительство осуществляющих. Хотя к тому времени уже входила в моду селекторная связь и коробки селекторов уже красовались на столах, кызылташцы относились к этому веянию с прохладцей и селекторные совещания никак не внедряли, думается, главным образом, не желая отменять эти еженедельные сборища и по-своему ими дорожа.
Здание управления возводилось в три приёма – вначале быстренько собрали два одноэтажных щитовых дома, один за другим, а через год или два возвели и соединивший их двухэтажный кирпичный куб. В целом получилось нечто топорное, залёгшее в глубоком кювете идущей по склону дороги, раскинув по земле два деревянных крыла. Но уже привычное, удобное, к тому же, почти скрывшееся среди разросшихся деревьев и кустов. Поднявшись на высокое, слегка нелепое крыльцо с козырьком, попадаешь в просторный темноватый вестибюль с дверями по сторонам и проходами в коридоры боковых пристроек. Широкая лестница в глубине разветвляется на две и ведет на второй этаж, где размещаются техотдел, обиталища замов и просторная приёмная между кабинетами начальника строительства и главного инженера.
Февраль, стало быть, две одноногие вешалки в ближних углах приёмной ломятся под ватниками, тулупами и шапками, пришедшие позже сваливают одежду на стулья вдоль стен, а дверь кабинета начальника даже как бы вибрирует от гула набившегося туда народа.
Как и в любой другой понедельник, поначалу утрясались всякие несогласованности на монтаже, на сей раз возникшие из-за утери графика монтажных работ, созданного почему-то в одном экземпляре. Начальник строительства, Зосим Львович Терех, вполне благодушно распорядился в срочном порядке «реанимировать» этот «безвременно погибший график». Но главным вопросом, стоящим уже почти истерически, был вопрос о дальнейшей укладке бетона в плотину, грозившей вот-вот встать из-за отсутствия металла третьего и четвертого водоводов.
Конечно, бетон надо класть, ибо это единственное, на что им платили деньги, которые делились на всех. Уже сегодня крановщики изворачиваются на одном самолюбии, но скоро краны встанут совсем, подсыпная дорога перед плотиной и ведущий к ней транспортный туннель мгновенно будут забиты подпирающими друг друга бетоновозами, а их рёв, будут стараться перекричать, срывая голосовые связки, матерящиеся шофёры и диспетчера.
Три конвейера бетонного завода остановят, уже схватывающийся бетон распихают всем, кто согласится его взять и употребить с пользой – строителям здания ГЭС, дорожникам, тем же туннельщикам… Бетонщики будут слоняться по плотине и поплевывать вниз, в зияющую дыру, где между уложенными блоками и четвертым транспортным туннелем должен пройти водовод.
Металл, означенный главным технологом Щедриным «вопросом большим и неразрешимым», по сути являл собою тришкин кафтан, который делили меж тремя среднеазиатскими стройками – Нуреком, Черваком и Музтором. Вопрос его добычи не обсуждался – зам. начальника по снабжению Илья Григорьевич Толоконников, по прозвищу Бампер, уже вторую неделю как отбыл его добывать и, похоже, не отчаивался, слал ободряющие телеграммы, по которым можно было определить разве место его нахождения: Москва – значит, министерство, Липецк – завод-изготовитель. Илья Григорьевич смог буквально вырвать металл для первых двух водоводов, когда слово «консервация» казалось неотделимым от названия стройки. Музтор, Музторская ГЭС – это в министерстве означало то, что было приостановлено, отодвинуто в неопределенное будущее, «законсервировано», заморожено и должно пребывать в сомнамбулическом состоянии, пока в министерстве не сложатся благоприятные обстоятельства, не всплывут какие-то деньги и фонды, кои нужно освоить, дабы не потерять. То, что им выделили металл для первых двух водоводов, объяснялось не столько расторопностью Ильи Григорьевича, сколько удивлением и оторопью в министерстве, вызванными выходом строительства на уровень этих самых водоводов без всяких к тому возможностей: «Оказывается, они чего-то там ещё и строят…»
Теперешние надежды на Илью Григорьевича выражались крайне туманно:
– У него родня в Липецке…
– В Курске!
– Во, набили металлу под Курском, до сих пор не раскопают!
– Прекратите гудение, – начальник строительства Терех прикрыл рукой ухо и поморщился, – Цикады…
…Почему теперь, при воспоминании об этих «цикадах» и прочих немудреных остротах Тереха, произнесенных добродушно-ворчливым тоном, встает ком в горле и трудно припомнить, что же они вызывали тогда, когда произносились? Помниться именно ощущение тепла, в котором желание отбиться, отвертеться – каким-то образом трансформировалось в готовность помочь, отдать, подставиться, причем, с легкостью и полным сознанием, что подставляешься – А ладно!.. Только от ворчливого тона человека с по-птичьи добродушным лицом, невысокого, суховатого, с едва заметным животиком из-за отсутствия всякой заботы о собственной стати?
В тот момент Зосима Львовича Тереха более интересовали возможности временного, из-за отсутствия металла, выхода из четвертого транспортного туннеля, общими усилиями уже сведенного к двум вариантам – мосте бычком или консоль. При этом Леня Шамрай, беспомощно глядя близорукими глазами сквозь толстые линзы очков, от лица проектировщиков говорил почти в оскорбленном тоне о нежелательности того и другого варианта как прямой угрозы всему сооружению, и «вообще неизвестно, как оно себя поведёт».
Чуть вислый нос, продолжающий линию покатого лба, и белокурый нимб вокруг лысеющей головы Шамрая составляли как бы профиль овна, невинной жертвы за чужие грехи, и мало соответствовали характеру и весёлому складу его ума, но если Шамрай говорил что-либо в оскорблено-обиженном тоне, то становилось не по себе и совершенно ясно, что уж этого никак нельзя, невозможно и грех, что дело дошло до ручки и до точки.
Терех повертел чётками, сбоку, по-птичьи глянул на сидящего справа от него главного инженера, Германа Романовича Лихачёва и, после некоторого молчания, сказал:
– Или ты разберись, или я буду принимать решение, не разобравшись!
Лицо Германа Романовича, до сего времени тупо рассматривавшего побелевшие суставы на сжатых кулаках, с медленным изумлением принимало осмысленное выражение.
Кто-то фыркнул, и с десяток пар глаз уставились на него с весёлым ехидством.
Собственно Герману Романовичу и надлежало разбираться во всех вопросах, касающихся технической стороны возведения плотины, начиная с тех, которых никто и никогда не решал, и кончая – возникающими чуть ли не ежедневно из-за того, что стройке чего-то не додали, не выделили или не поставили в срок. Но в том, что начальник собирается «принимать решение не разобравшись», – был явный упрек ему, Лихачёву в безделии или занятости «своими делами», диссертацией, стало быть. И хотя в ней он собирался изложить метод, выработанный для возведения именно этой плотины, сама по себе диссертация уже не имела к стройке никакого отношения.
Раньше начальник никогда не встревал в вопросы конструкции.
Глупо, да и некогда надеяться на Толоконникова, но от моста с бычком и от консоли Лихачёва воротило примерно одинаково, и он сказал, просто чтобы выиграть ещё вечер, утро и ночь:
– Ну что ж, давайте завтра еще раз посмотрим на месте, что можно сделать. И решим. Девять утра всех устроит?
Он в упор оглядел всю компанию, а начальник кивнул на протокол:
– Запишите.
* * *
После планёрки Герман Романович прошел к себе в кабинет и плотно прикрыл дверь.
Он и сам не знал, что собирался высмотреть завтра на месте, сообразить утром или вечером – на плотине он был и вчера, и позавчера, и сегодня, и каждый день. Срез котлована стоял перед глазами как большая фотография, только мелькало иногда, будто на снимок клали сверху ещё один, ещё и ещё… Рано или поздно что-то должно проясниться на этом снимке, должно же наконец что-нибудь прийти в голову человеку, которому задана такая вот картинка. Человеку в общем-то сообразительному и привыкшему к работе до упора, но без перебирания вариантов, имевших место в практике или классических, отчего он тупел…
Сидел Герман Романович довольно долго, пока в дверь не просунулась голова Костика из производственного отдела, а потом и весь он, довольный донельзя, протиснулся в дверь, помахивая реанимированным монтажным графиком, словно сушил свежие чернила. Пока Лихачёв изучал график, Костик вскакивал, садился и ёрзал от нетерпения. Наконец не выдержал:
– Ну и как? А, Герман Романыч?
– Лихо.
Костик расцвёл и пошел из кабинета прочь, уже от двери поднял приветственно руку. Лихачёв усмехнулся. Пока тебе важно, что тебя хвалят – ты молод, да что там – юн, похвала имеет ценность, когда исходит от старшего… Когда-то он и сам вваливался в кабинет начальника и так же гарцевал от нетерпения: «Ну что, Зосим Львович?»
Последний раз Герману Романовичу Лихачёву хотелось, чтоб его похвалили, пожалуй, этак лет десять назад, когда он выбил для стройки коэффициент по заработной плате.
Существуют всякие северные, колёсные, высокогорные, коэффициенты за отдалённость, увеличивающие заработную плату во столько раз, во сколько коэффициент выше единицы. Им не хватало ровно пятидесяти метров, чтобы объект автоматически был причислен к высокогорью, и двадцати двух километров для коэффициента за отдалённость от последнего жилья.
Там, в Верхах, не могли знать, что это за километры, которые в начале строительства не всегда можно было преодолеть и за световой день, а в дождь или зимой, в снегопад или после него, когда нагревались скалы от вдруг выглянувшего солнца и оплывали на старых обветренных участках, выкатываясь на дорогу осыпями и обвалами. И подавно не знали, что за горы, в которых им предстояло построить ГЭС. Предыдущая ГЭС Нарынского каскада строилась еще в долине, хотя и у самого подножия гор, а теперь они забрались в дичайшие места, где автотропа едва была пробита, и её ещё нужно было довести до состояния дороги, по которой мог бы ходить тяжёлый строительный транспорт, ведомый нормальными людьми с нормальной скоростью. А не только лихими ребятами в хорошей компании для подталкивания и подкладывания под колеса камней. Вот тут-то, когда расширяли дорогу, и поползла Гнилая гора – дорога подрезала ей основание как раз чуть ниже скрипучего подвесного моста, и посёлок больше чем на месяц оказался отрезанным от всего остального мира. И в посёлке съели весь запас рыбных консервов – все частики, шпроты и всю паюсную икру, которой тогда было навалом, она стояла на витринах в лотках килограммов по пять, и по теперешним временам была баснословно дешевой. А в кафе подавали макароны под килькой в томате. И до сих пор посёлок не выносит даже вида рыбных консервов, в Торге от них отбояриваются как могут, а то, от чего не могут отбояриться, помаленьку съедают командированные, которых в пору Гнилой горы здесь не было.
Сквозной дороги на Музтор тоже не было, и начальник автобазы Домбровский пёхом пригнал через перевал стадо баранов, выменяв его на ЗИЛок в Кетмень-Тюбинской котловине. И только тогда в столовых появилось мясо, а у Домбровского тяга к подсобному хозяйству, его мужицкая запасливость и хозяйственность оказались, ох, как дальновидными! А ЗИЛок смогли переправить туда только через год. И мог ли представить себе Домбровский, гоня баранов через перевал, что когда-нибудь через него и два четырехтысячника, Тюя-Шу и Алабель, проляжет тракт в столицу республики, и те семьдесят восемь километров, что пробили и обиходили они, даже будут записаны дорожниками на свой счет?
А Гнилая гора все ползла, ползла и никак не могла остановиться. И тогда они выписали артиллерию и расстреливали её из гаубиц чтоб она уж поскорее сползла.
Но по нормам им никаких коэффициентов не полагалось, хотя по сумме условий стройка должна была тянуть хоть на какой-нибудь.
А на створе люди лезли на скалы и закреплялись на них.
И тогда Лихачёв поехал в Москву выбивать коэффициент. А дать его, утвердить вопреки всем нормам мог только Совет Министров. Заседание Совмина по всяким вопросам такого рода бывает один раз в году, вопросов там сотня, и на каждый приходится не более пяти минут. Ему пришлось обегать двенадцать ведомств и везде размахивать снимками, и объяснять сложный, тяжелый характер стройки – эта тяжесть и сложность казались ему самоочевидными, но из двенадцати ведомств положительные заключения дали только два – Министерство Энергетики, естественно, и, естественно, ВЦСПС. Расклад, при котором надеяться было не на что.
Что тогда было в нем – наверно, решимость отчаяния – он знал, что доклад министра энергетики при одном «за» от ВЦСПС обречён, и вряд ли министр будет драть глотку за их стройку – у него этих строек до хрена и больше, и каждой что-то надо.
Лихачёву оставалось только всеми правдами и неправдами добывать себе пропуск в Совмин и прорываться через двенадцать дверей и двенадцать чиновников, отделяющих от улицы Зал Заседаний. Он прошел эти двери, как огонь, воду и медные трубы, ибо всех его друзей, приятелей и сочувствующих не хватило на то, чтобы добыть пропуск на само заседание Совмина. Вся его нахрапистость и изворотливость держалась только на одном – «наше дело правое». Проходя через шестую дверь, он не знал, чем закончится дело у седьмой. И так – до двенадцатой. Ему только объяснили, как вести себя в Зале Заседаний – войти деликатно, но как бы по делу, не имеющему отношения к заседанию, будто шляпу забыл, пришел проверять вентиляцию или кондиционер, и одет должен быть соответственно. И он прихватил синий рабочий халат на случай, если его придержат где-нибудь на полпути. Далее следовало пройти в самый тёмный угол, что по левой стороне от входа, и без скрипа присесть на крайнее кресло в последнем ряду. И еще он знал порядковый номер вопроса, семьдесят второй, в ряду прочих, рассматривавшихся в этот день. И пока будут идти пятый, двадцать пятый, тридцать шестой и так далее, он должен продвигаться на один ряд вперёд, не скрипеть креслами, не кашлять и никак не обращать на себя внимание. Но к тому времени, когда очередь дойдёт до семьдесят второго вопроса, – оказаться в первом ряду и суметь встрять в разговор. А далее всё будет зависеть отличного обаяния и убеждённости – выслушают его или выставят за дверь.
Он шёл как ему было подсказано, без всякого неудобства, будь он даже в халате, вряд ли ему бы жало подмышками от самолюбия или робости. «А что, какие наши годы!» Молодой он был тогда – тридцать семь лет. Или тридцать шесть? Он прошёл все заслоны и едва не погорел у двери самого Зала Заседаний. Дверью заведовал товарищ генеральского вида, он-то и разглядел, что все пропуска и направления Лихачёва в комиссию Совмина, но никак не на его Заседание. Возвращаться назад для уточнений Лихачёв не мог – никаких уточнений и дополнительных разрешений ему бы не дали, – он это знал точно, в отличие от генерала, который сомневался. Заседание уже началось, и Лихачёв только глянул на генерала и резко рванул на себя дверь. Что было во взгляде, и от чего опешил генерал можно только гадать, скорее всего, он просто понял, что остановить Лихачёва нельзя, что если пытаться останавливать, то выйдет скандал и сплошное неприличие. Не мог же он в самом деле, как швейцар, хватать человека за воротник и выволакивать прочь, демонстрируя служебное рвение перед Заседанием Совмина и его Председателем? Генералу оставалось только подробно ознакомиться с оставшимися в руках документами, и уповать на то, что прорвавшийся не окажется шизофреником, сбежавшим с Канатчиковой дачи, автором вечного двигателя или еще какого-нибудь изобретения, возможно, и имеющего определённый резон.
А дальше всё шло как по писанному – кто-то поднял глаза на раскрывшуюся дверь, и ещё раз, попристальнее, взглянул их министр, Пётр Степанович Непорожний, как бы желая удостовериться, не померещилось ли ему. Потом про Лихачёва забыли – реакция была лишь на распахнувшуюся дверь. Он пересаживался из ряда в ряд как ему и советовали, не скрипя стульями и, когда очередь дошла до семьдесят второго вопроса, оказался в первом ряду Пётр Степанович изложил суть вопроса, присовокупив, что ходатайство Министерства Энергетики было поддержано лишь ВЦСПС. И тут Лихачёв рванул наискосок к столу, за которым восседал Совет и обратился к Председателю: «Я прошу всего пять минут, и если за это время мне не удастся вас убедить, вопрос снимется сам собой». Голос у него срывался до альта, он хлопал по ладони папкой с фотографиями, напряжённо вытягивался и нервно притоптывал ногой. Косыгин спросил: «Кто вы?» или «Кто это?», потому что ему ответил: «Да главный инженер этой ГЭС», – министр Водного хозяйства, с которым Лихачёв сражался за подпись не на жизнь, а на смерть, но так её и не получил. Выпрашивая подпись, он много чего нагородил этому смежнику, этому ирригатору (ГЭС-то ирригационная!), который хотел, чтоб и водичка была, и рук не приложить, даже в самом прямом смысле – не подписаться. И тон был такой, как бы отмахивающийся отчего-то, до смерти надоевшего: «Да главный инженер…» Вот на тон и отреагировал Председатель: «У него, наверно, имя есть?» И сразу все проявили заинтересованность, основанную на почтении к Председателю и желании оказаться в струе. Лихачёв даже успел изумиться, хотя ему было не до того. Он представился и был представлен Петром Степановичем Непорожним, всё это хором, в один голос.
«Я думаю, что Герману Романовичу как главному инженеру виднее, что там происходит. Предоставим ему эти минуты, – сказал Косыгин и обратился к нему, – Но не более пяти».
Лихачёв раскладывал схемы и фотографии, а там, ну что там – отвесные скалы, дымящаяся Гнилая гора, по которой пробивается бульдозер, привязанный тросом к лебёдке, пристёгнутые карабинами к страховочным веревкам люди, переносящие на себе грузы и оборудование. Висящий на скалах рабочий, держащийся одной рукой за какой-то выступ, а другую протягивающий напарнику с отбойным молотком. И опять бульдозер на склоне, а рядом Гарик Манукян, подкладывающий камни под гусеницы, – тропа у самого створа, и на некоторых фотографиях отмечен уровень будущей плотины.
Конечно, он кричал эти пять минут и про перепад температур от +40 летом, до -40 зимой, и про перепад высот между поселком и собственно створом, и про все остальное, упирая на то, что сумма всех условий тянет на какой-нибудь коэффициент, но общий смысл собственной речи ему представлялся смутно. Его остановили на полуслове: «Спасибо». Пять минут истекли, он собирал в кучу разбросанные снимки, они никак не укладывались и не лезли в папку а потом выскользнули и посыпались на пол. Он полез за ними под стол и увидел чьи-то руки справа и слева, помогавшие их собирать. Когда он вылез, ему совали в руки снимки, а Косыгин сказал: «Будем надеяться, что если не всех, то некоторых из нас вы убедили». Лихачёв выскочил из зала как мальчишка, и уже больше из озорства, чем на радостях стиснул генерала в объятиях и расцеловал в щеки, пахнущие резедой.
Им дали тогда коэффициент 1,3 – для всей стройки и 1,6 – для работ непосредственно на склонах, на что он даже надеяться не смел. Он возвращался на белом коне и ждал, что его будут подкидывать и подбрасывать, очень хотелось, чтоб его похвалил начальник, какой он молодец и умница, ханыга и прохиндей, хотелось рассказать, как это всё было, чтоб начальник оценил все подробности, А Терех только спросил: «Выбил?» И он едва успел кивнуть. «Ну вот и хорошо». И даже не спросил, как ему это удалось и досталось. Лихачёв очень тогда обиделся на начальника – очень хотелось, чтоб его похвалили, погладили по голове. А ему: «Выбил? Ну и хорошо». И всего делов.
Сейчас плотина худо-бедно растет, но всё-таки это существование, а не рост. И еще его ворчание: «Герман Романович, я понимаю, заставлять тебя заниматься подачей пара на полигон – все равно, что ценной вазой забивать гвозди в стену, но, может, ты найдёшь для себя более подходящее занятие? Соответствующее ценности сосуда? Или нам теперь только диссертаций ждать?
Когда заложили первые два блока плотины послойным методом, специально изобретённым для этого отвесного ущелья, и ждали, что станет делать бетон – будет трескаться или не будет, и от страха нарезали температурных швов больше, чем нужно, а потом забивали эти швы и снова ждали – как всё это долго и напряженно ждалось! Начальник только заглядывал Лихачёву в лицо – хотя что там можно было разглядеть, он как каменный был тогда. Но вот начальник заглядывал и успокаивался. Именно с тех пор у Тереха завелась манера вертеть четки, за что его за глаза стали звать «папой Соломоном». Потом Соломон отпал, папа остался – «папа Терех».
Следом заложили еще два блока, в два и четыре раза больше и только с двумя температурными швами, и снова ждали результатов лаборатории… И когда результаты пришли, шапки летели вверх, начальник целовал его, а он начальника, и Гарика Манукяна, и бригадира Феттаева, и привёзшего добрые вести завлаба… А потом все качали завлаба, а он стоял и думал о ставшей ясной как день необходимости железобетонной опалубки на месте температурных швов, навсегда остающейся в теле плотины.
И уже не ждал благодарности, и уже не хотелось, чтобы его погладили по голове и похвалили…









































