Текст книги "Сага о стройбате империи"
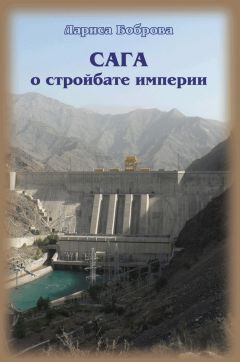
Автор книги: Лариса Боброва
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Недели через две отловил его в столовой на створе – сидит, наворачивает серые слипшиеся макароны. Подсел. Стаднюк отложил ложку, выпрямился. Домбровский сказал: «Может, хватит людей смешить?» Стаднюк помолчал, придвинул к себе макароны, врубился в них ложкой. Домбровский сказал примирительно: «Езжай домой, хватит». – «Это твоя показательная автобаза дом? – спросил Стаднюк и осекся, потому что Домбровский теперь отдельно от семьи живет, от Лены. – Ничего ты не понял. Да пойми ты, Прокофьич, что силком никакая манна небесная в глотку не полезет. Никакое добро. Это немцам скажи, что курить вредно, – они враз всей страной курить бросят. А мы… Помрём как кому нравится. Знаешь, что такое русская йога? – «А фиг с ним!»
* * *
А Лена… Тут никакое добро силком не вобьёшь, а её в особняк потянуло. Как она не понимает? Раньше понимала. Что не это главное. А теперь ей надо жить, как всем. Все – это Терех, Лихачёв… Да что там, как все специалисты. И Котомин, и Тарханов, и Вебер. У Вебера хоть семья большая. Да и дело не в метраже – тут деревянный сборный, там кирпичный. Престиж. Правильно нижнюю площадку буржуйкой обозвали. Хотя вон в многоквартирных домах все вперемешку живут. А Елена заладила – хочу дом, дом, а не вагончик! Это в молодости хорошо, – вагончики, амбиции… Он дважды отказывался. Елена злилась, плакала. Он стоял на своём. Сыну было всё равно – «мне с вами не жить». Галка жалась к Елене. С ранцем за спиной, жмущуюся к Елене, он почему-то запомнил именно такую картинку. Елена выводила её за калитку, поправляла лямки ранца. Галка вырывалась, подпрыгнув, разбегалась по дорожке.
Теперь это вспоминалось, как сон – Елена учит Галку летать. Елена, ставшая уткой. Появилась в ней какая-то тяжеловесность, и он не заметил, когда. Только после, рассматривая в памяти эту картинку, видит тяжеловесную Елену, глядящую вслед разлетевшейся Галке. Как заключительный кадр.
А потом была прободная язва. Тёмный, животный испуг Елены, сидящей у больничной койки всю ночь, смачивая ему губы бинтиком, намотанным на кончик ложки. Пока он был в санатории, Елена переехала на «буржуйку», в дом. А в их старой педеушке поселился Сарынбаев. Первое, что Домбровский увидел, – длинную, через весь двор, верёвку с чужим бельём. И только потом – сарынбаевский выводок на пороге. Детей как ветром сдуло, а вместо них вышел голый по пояс Сарынбаев.
«Собирайся! Поедешь на «буржуйку», а мы здесь доживать будем». Но Сарынбаев, улыбаясь, только качал головой, поглаживая себя по животу. Дочь вынесла ему рубашку, стеснительность его прошла, он перестал улыбаться, смотрел почти сочувственно, но на предложение собираться отвечал уклончиво: «Ты с хозяйкой своей приди».
Елена сказала «Нет». Твердо. Стояла неподвижно, отяжелевшая, каменная хранительница очага. Он хлопнул дверью. Первое время ночевал в профилактории, потом перебрался в общежитие к своей молодёжи. Ребята его стеснялись, и скоро он переехал в освободившиеся полвагончика за жирно-коричневым, удушливым пятном маслохозяйства. Так он стал холостяком.
Однажды увидел в тёмном окне прижавшееся к стеклу Еленино лицо. Она легонько постучала. Он выскочил на крыльцо, втащил её, обмякшую, внутрь. Она твердила: «Пошли домой, хватит, у тебя есть дом». И вытирала мокрое от слез лицо о его рубашку на груди. Так отчаянно она плакала в давнем сорок седьмом, отдав всё, что было голодным, плакала оттого, что отдавать больше было нечего. Только сейчас она говорила: «Над нами весь посёлок смеётся»…
Он знал, что его жизнь переложена в посёлке на анекдоты. Анекдот о том, как его дважды увольнял Терех, а потом уволился сам; как он подбирал обрезки асфальта и навоз, а потом перепутал, где что; как строил лестницу в небо или в никуда (были варианты) – это по поводу терренкура; как борщ сварил на всю АТК, потому что сам закладку продуктов проверяет. Один из анекдотов начинался: «Когда я лежал в окопчике», – самый обидный, сопляки, откуда им знать, как оно было на самом деле, в окопчике? Анекдот о том, как у Домбровского яйца померзли; десять способов лечения рака – один другого краше (по поводу профилактория), как в космос летал (вакуумная установка для того же профилактория)… Да если все запоминать – никаких обид не хватит!
Жизнь стала полегче, отчего и не позубоскалить? Ну, станет одним анекдотом больше, – пытался он уговорить Елену. «Ты же знала, за кого замуж шла, а теперь не знаешь, с кем прожила тридцать лет?.. Мне поздно меняться, Лена!» Она твердила своё: «Дом, где семья, где согласие…» Он махнул рукой: «Вотты и устроила – и дом, и семью, и согласие…»
Он никак не мог вспомнить лицо погибшего Николая, в глазах стоял блик от откидываемой простыни, намертво отпечатавшийся на сетчатке, красное месиво под ней. Карьер этот возник от бедности, от невозможности возить подсыпку с дальних карьеров. А из бедности не выбраться без аврала. И поэтому Терех решился на аврал. В авральной ситуации вероятность аварий ниже, чем на затяжных ровных трассах, это общеизвестно, вероятность аварии увеличивается от усталости, натужности ритма… Даже если учетчиками поставить аксакалов. Теперь на Домбровского будет давить вся стройка, даже его аэрофлот.
Ведь Терех, как только распишут новый график работ, соберёт совет бригадиров на створе, и его герои во главе со Стаднюком будут сидеть и вместе со всеми выдавать идеи, как вывернуться «на пупе». Вывесят объявление в клубе «Собрание актива стройки». Двери настежь всегда. Заходи кто хошь и считай себя активом. Народу точно набьётся – давно таких развлечений не было. И все будут слушать, что скажет папа Терех. Ну, зададут пару вопросов для ясности, что никто никого это… Не объегоривает. А потом полезут на сцену клясться Тереху в своей готовности рвать пуп и подсказывать, где лишний уголок взять, где яму засыпать. Потому что он – папа. А ты – дядя. «Девушка, вы дядю ищете?»
* * *
С утра он сидел у себя в кабинете и тупо смотрел на телеграмму, пришедшую с белорусского завода:
«Коллектив завода благодарность за помощь доводке большегрузных Белазов счет фондов предприятия и отчислений субботников отгружает музторской гэс двадцать пять Белазов грузоподъемностью десять тонн».
За окном лил светлый нескончаемый дождь. Вода не успевала стекать с асфальта, и вся площадка посреди автобазы превратилась в пузырящуюся лужу, посреди которой стоял покарёженный ЗИЛок, и, несмотря на дождь, хлюпала сапогами комиссия.
Приезжавший представитель белорусского завода по большегрузным машинам восхищался их доводками, гарантировал орден и благодарную память, но когда Домбровский попросил у него десяток малогрузных, якобы «на испытания» в сложных горных условиях, тот только руками развел: «Малогрузные уже в серийном производстве». «А вы мне вместо ордена. Орден я все равно не возьму». Представитель лишь глянул на него и отвел глаза. В этом была полная безнадёжность. И вот такой поворот.
Вынырнуло из смятой памяти лицо погибшего Николая – подвижное, как ртуть, весёлое его лицо, чуть смазанное бликами на ветровом стекле. Или откинутой вчера простыней? Нет, есть и такое – высунувшееся в боковое окно, наклоненное к вахтёру лицо в нимбе кудрявых волос – «Ты тут, батя, кряхти, чтоб нам было веселей…» Вспомнил, как спросил про эти кудри: «Экономишь на стрижке?»
Тупо глядя на телеграмму, Домбровский думал, что если бы не авария, он бы, наверно, поверил, что в жизни всё-таки есть какие-то закономерности, направленность и смысл. Что она, как минимум, полосатая. Пруха пошла. Что после неудач бывают полосы… Если очень долго упираться в одну сторону, судьба начинает поддаваться и играть тебе на руку. Нам. Вам. Тереху… Стройке. Но… какие уж тут закономерности. Жизнь – стихия. Ни полос, ни закономерностей… Сумма импровизаций. Но если все, если много народу упирается в одну сторону, может, тогда и возникают закономерности?.. Полосы…
Домбровский слишком долго упирался один. А жизнь готова идти с каждым, кто возьмет её за руку. Теперь она готова идти с Терехом… В светлое заавральное будущее. А Домбровскому уже нечего ей предложить. В смысле перспектив. Всё есть. И всё в настоящем.
Он смотрел в окно на заливаемый дождем двор, пока там не появился бензовоз, таща на буксире Рафик проектировщиков прямо к ремонтному цеху. Три человека побежали от машины к конторе, натягивая куртки на головы. Замешались в толпе у ЗИЛка. Потом отделились и пошли медленно, уже не обращая внимания на дождь.
18. Шамрай о цене вопроса
Шкулепова знала об аварии в карьере, здесь бывает. Везде бывает, каждый день в авариях гибнут сотни людей. Она это понимала рассудком, но от этого не становилось легче, когда посреди воды, залившей асфальтовую площадь, под светлым облачным небом она увидела покарёженный Зилок, бывший вчера ещё голубым и весёлым. И водил его, должно быть, весёлый шофер, и девушку посадил, чтобы прокатить по тропе, и прокатил на полной скорости под уклон. Ведь знал об ограничении скорости, все знали, но никто не придерживался. Кто придерживался, те в этот карьер не ездили. И вообще здесь не ездят – уезжают… Все знали, все ездили, и Бог миловал. А этих двоих – не помиловал. Хлюпающая по воде комиссия, жёлтое от заоблачного света небо, поливающее землю жёлтым дождем…
Потом вдруг близко наклонившееся к ней лицо улыбающегося Вебера, и вопрос, который она не расслышала. Переспросила:
– Что?
Продолжая улыбаться, он почти прокричал ей в самое ухо:
– Как дела? Всё в порядке?
Она молча смотрела на него с медленно поднимающимся неприязненным чувством, улыбка его стала как бы приклеенной, отдельной, но никак не сходила с лица. Она обошла Вебера, как обходят столб на дороге, издали оглянулась, и Вебер помахал ей поднятой вверх рукой.
Немного отпустило в кабинете Домбровского, оттого, что Домбровский не пытался быть приветливым, не расспрашивал об их, мало интересующих его делах, вяло протянул Шамраю какую-то телеграмму, на замечание о въедливости комиссии ответил:
– Пусть ищут. Только… чего там искать? Машины неисправными из гаража не выходят. Они поддаются отладке. А люди… Люди – это люди.
Голос у него стал сдавленным. Он снял трубку, распорядился о ремонте их машины, вызвал диспетчерский автобус, чтобы отправить их в посёлок. В ожидании автобуса они просто молчали. Уходя, Алиса вспомнила, что так и не зашла в дирекцию, не увидела жену Домбровского, Елену Николаевну, уже от двери попросила Домбровского передать ей привет. Что-то удивлённо неприязненное мелькнуло в его лице, Шамрай поспешно вытолкал её за дверь, отругал за привет.
– Я не знала.
Карпинский поехал дальше, в геологию, а она вышла вместе с Шамраем, почти боясь остаться одной. Дома Валера поставил на плиту оставленную Инессой сковородку с картошкой, собрал на стол. Она ковыряла вилкой в тарелке, молчала.
– Ты что, никогда не видела разбитой машины?
– Видела. Только всё как-то… слишком обычно. Говорят о неважном. Вебер улыбается…
– Ну, знаешь! Мы своё отмолчали ещё вчера. На дороге. Пока ГАИ всё там обмеряло и срисовывало. Пока поднимали машину автокраном. Домбровский торчал рядом со своим газиком как памятник самому себе. В своем кожане… Его и обходили, как памятник. Да Вебер и улыбался тебе, потому что ты зелёная стала! А вот зачем ты Елене привет решила передать? Посчитала – самое время?
– Зачем вам нужен был этот карьер?
– Господи!.. От бедности! Не с жиру же…
– Зачем вы согласились, ведь если бы проектировщики не согласились, а вы могли не согласиться…
– Домбровский тоже мог не согласиться, но в данном случае даже он согласился… – Шамрай потянулся к плите, выключил газ под закипевшим чайником. – За границей стоимость человеческой жизни оценивается в определенную сумму, скажем, десять тысяч долларов. Или сто. Если мероприятия по технике безопасности превышают эту сумму – их не проводят.
– А что?
– Страхуют и всё.
– Причем здесь заграница…
– Ну давайте сложим ручки и будем сидеть – не велено, не положено. Ограничительный знак, кстати, до сих пор стоит, можешь поехать посмотреть. От всего не застрахуешься. Мы тридцать лет под бомбой живём, так что теперь, только бомбоубежища копать?
– Причем здесь бомба… Всё на пределе…
– А жизнь она вообще на пределе, если она жизнь.
– Я не о том. Я о привычке. Предел становится нормой и несчастные случаи воспринимаются именно как случайность, – она усмехнулась. – Несчастный случай он и есть несчастный случай, их у вас их тут целое кладбище…
Алиса никогда никому не рассказывала о том давнем случае на Веберовском участке, когда погиб мальчик. Она не хотела рассказывать о нём, да, в общем-то, и не имела права. Чужие тайны… Она вдруг разозлилась. Вечно мы молчим из деликатности, а раз никто не помнит и не знает, то значит, ничего и не было. Но ведь было. Она с трудом, переступая через что-то в себе, рассказывала Шамраю о том давнем случае, о реакции Багина. Валера слушал не перебивая, видимо, что-то ему становилось понятным только теперь. Событийно понятным.
– Видишь ли, – сказал он, – кому другому и в голову не пришло бы поставить это в вину. А Веберу поставили. Для него другой счёт, словно он не такой, как все… Хотя он сам поставил себя в такое положение, когда спрашивают по отдельному счёту. Для других это чисто человеческий момент слабости, трусости… С кем не бывает… А с ним этого не должно быть… Но однажды случается почти с каждым. Со мной, с тобой, с ним… И не дай Бог, чтобы это повторилось, этот стыд, потеря себя…
– Татьяна назвала Багина «провокатором».
– Тогда уж, скорее, Кайрат Но какое отношение это имеет к сегодняшней ситуации?
Она не знала. Она только чувствовала, что всё ко всему имеет отношение. Жизнь едина. Единство времени, места, те же герои. И жертвы, которые ни при чем… Бывает один момент слабости, и не дай Бог, чтобы он повторился, но он был, и его уже не сбросишь со счетов, будто его и не было. Это как камень, брошенный в воду – идут круги. И воспитание если не подлости, то…
– Просто в Багине что-то сломалось тогда, – сказала она. – Если Веберу можно…
– Не знаю, – сказал Шамрай. – Муть обычно поднимается со дна. Если она там есть.
– Я понимаю, – сказала она, – Эта стенка…
Сейчас ей опять напомнят про багинскую подпорную стенку которую так запомнили проектировщики, и которую Наташа назвала «семейным дельцем». И ещё сказала тогда, жестко, чтоб было больнее: «Они и тобой выясняли свои семейные отношения!» Она помнила – это не помогло.
– Я понимаю, – сказала она Валере, – для достойной цели и цели нужно выбирать достойные. Но ведь когда шла эта стенка… Строителям это оказалось на руку. И никто не вникал, каким методом это было сделано, – с помощью ломика или той же Поддубной.
Шамрай тряхнул головой.
– Нужен был более гибкий проектировщик. И более опытный. Вот и всё. Уверяю тебя, проектировщика поменяли бы и без Поддубной. Может, чуть позже.
– Случилось закономерно, но благодаря поводу. – Алиса усмехнулась. – Всесильность поводов и зыбкость закономерностей…
– А жизнь вообще зыбка. Удивительно, что она вообще существует. А она существует. Значит, это одно из условий её существования. И поводы, и закономерности рождаются из жизненной необходимости.
– Ты прямо, как Терех. Тогда получается, что все средства хороши.
– Нет, не получается. Мы часто сами не знаем, во что нам обойдётся то или иное решение, но его нужно принимать. И мы его принимаем. И надеемся, что всё обойдётся. Потому что только в детских книжках доподлинно известно, что такое хорошо, а что плохо. – Он помолчал, сощурился, словно приглядываясь. – Мы слишком робки, чтобы признаться себе в том, что втайне понимает каждый – нельзя прожить жизнь в полном соответствии с канонами добра, чистоты, всеобщей разумности и пользы. Мы только хотели бы так жить, а ведь это равносильно «не жить». И каждый раз, когда ты стоишь перед выбором, ты знаешь, – что бы ты не выбрал – что-то обрушится. И выбираешь даже не по соображениям личной или общей пользы или «меньшего зла», а по внутреннему чувству правоты… И Багин тогда считал, что прав, может, он и не знал, как жена добыла расчеты. И каждый так решает – по внутреннему чувству правоты, а не по соображениям добра и зла, и чего больше…
В этом что-то было. Во внутреннем чувстве правоты. Ты не знаешь всех «за и против», но внутренне отдаешь предпочтение чему-то одному. Даже в технических решениях. Более привлекательны – красивые решения, и на поверку они-то и оказываются лучшими.
Алиса влезала в прихожей в сапоги, вспоминая собственную дурную привычку подбрасывать монетку не просто монетку – обязательно пятак, и если выпадало то, чего не хотелось, явственнее становился внутренний голос выбора. Она и подбрасывала пятак затем, чтобы услышать голос выбора, а не просто подчиниться выпавшей случайности…
Высокая, тонкая пелена туч продолжала сечь мелким дождем, колючим, как наказанье.
Добравшись до гостиницы, Алиса сняла куртку и завалилась на кровать, спрятала голову под подушку. Перед глазами стоял голубой ЗИЛок посреди дождя и неприязненное, почти надменное лицо Домбровского.
19. Елена
Елена Николаевна… Разница меж ними в пятнадцать лет казалась непреодолимой и ошеломляющей, хотя внешне никак не воспринималась. Тепло улыбки и глаз навстречу их юности – эта молодая привлекательная женщина смотрела на них как… на детей, что ли. Приветливое и терпеливое внимание. И даже как бы опека. Сводила Малышке бородавки, вдруг выскочившие у локтя и постоянно сдираемые в кровь о кнопки и карандашную кальку. И Малышка послушно стоит перед Еленой, завязывающей на красной шерстяной нитке мистические узелки, по три над каждой болячкой. Круглые от изумления Малышкины глаза над послушно выставленным локтем, недоверчиво вздрагивающий уголок рта. «Смейся-смейся, – говорит Елена, – быстрее сойдут». А потом Малышка идет закапывать нитку в землю, держа её перед собой осторожно и недоумевающе… Бородавки, кстати, сошли.
Последний год Алиса избегала Елену Николаевну. Правда, попав в банальнейший из треугольников, Алиса не испытывала ни вины, ни угрызений совести, ни даже желания мерить происходящее мерками общепринятой морали. Было только сознание правоты чувства, хотя и отдававшее эгоизмом. Потому что любовь все-таки редкость. И поэтому права. «Любовь всегда права», так, кажется, это тогда называлось, если могло как-нибудь называться. И если называлось любовью, то почему было так разрушительно для обоих? Они с Багиным так занялись глубинами собственных ощущений и исследованиями друг друга, что всё остальное уже не имело никакого значения. Только иногда сжималось сердце, даже не от понимания, а полупонимания беспредельности чувства и невозможности существования в нём. «Ты каждый день разная, каждый день разная!» – слова, с отчаянием сказанные Багиным не однажды, оказалось, были не отчаянием перед непостижимостью другого существа, а отчаянием перед трясиной, затягивающей их. Но это уже не имело ровно никакого значения.
Алиса опомнилась даже не тогда, когда Багин высадил дверь в комнату Харриса Григорьевича и, крепко ухватив за руку, протащил через горячую, дымящуюся от зноя площадь, через оцепеневший от жары посёлок. В конце этого прохода они уселись у речки, под мостом, на скреплённых за арматурные уши плитах – ничего более дурацкого они придумать не могли, да и не старались. Позже она спокойно приняла из его рук билет на самолёт, который он ей вручил перед отъездом – он собирался отвезти в Алма-Ату жену и сына, а через десять дней, «слышишь, через десять! Я встречу тебя в Симферополе. Нам нужно на что-то решиться наконец»…
Она опомнилась в какой-то из этих десяти дней, будто вынырнула на поверхность, вдохнула воздух. Мир существовал безотносительно к тому, что происходило с ними. И уже было страшно туда, назад, непонятно, зачем Симферополь, причём тут Симферополь и Ялта.
Стирая перед отъездом, она уже спокойно раздумывала о том, чем были их отношения, смявшие, захлестнувшие все другие стремления и желания. И уже не хотелось этого половодья, бьющего через край. Потому что не смыло, а затопило. И всё, что осталось там, на глубине, не умирало, но задыхалось. Она только теперь поняла что значит рефрен «Ты каждый день разная» и еще «Ты такая большая, ты страшная». Она смеялась, но тогда, за стиркой, вдруг поняла истинный смысл его слов. Невозможность такой бесконечности. Ромео и Джульетты, Монтекки и Капулетти, дети и жёны, и кто виноват, а знает ли кто, что такая любовь невозможна в принципе, что в ней – невозможно существовать? Алиса обнаружила себя стоящей над тазом с сорочкой, насмерть зажатой в побелевших пальцах. С усилием разжала их и уже трезво и спокойно спросила себя – А что дальше? И сама же ответила: Надо остановиться.
Только не сразу, не сейчас. Она уже ничего не боялась – ни любви, ни Ялты, ни прерывности жизни. Это так и представлялось – Ялта, точка. За которой будет что-то другое. Другая жизнь. Потому что в прежнюю – возврата не было.
Теперь она могла позволить себе маленькие каникулы счастья. Позволить ещё немного проплыть по течению до сверкающей бухты и немного покружить там – без мыслей, без страха, потому что «нет» уже сказано. И Багинская телеграмма-отступление перед самым её отъездом: «Встретить не могу, со мной сын, постарайся добраться сама». И ниже: «Если не отпустят, не рискуй». Что равносильно «Не приезжай». Синхронное движение родной души… Она всё-таки поехала в Ялту, понимая, что точка ещё не поставлена и не может быть поставлена здесь и нею одной.
Но телеграмма-отступление не только соответствовала тому «нет», что сложилось в ней, но была уже отказом от оставшегося им небольшого круговорота сверкающей бухты. Он боялся, что вдвоём им из него уже не выплыть. И отгородился сыном, матерью, причитающей над будущим сиротой, братом, которому они одним своим появлением расстроили свадьбу. Там, в Ялте, толпа как-то странно группировалась, расступаясь перед ними по обе стороны набережной, по которой они продолжали машинально идти – он чуть впереди, постоянно оглядываясь на неё, влекомую за руку, пока не остановился, потерянно глядя назад – за ними ехала «скорая», а в ней – его смеющийся младший брат: «Мы так от почтамта едем»… Изумлённый мальчик, последний курс, стажировка на скорой. Он так и остался навсегда где-то там, мечущийся меж ними и за них, мальчик, которому они походя сломали (или выпрямили?) жизнь.
Она молчала и плыла по течению, он искал объяснений и отговорок, а их было сколько угодно. И не было лучезарной бухты, а лишь потуги выплыть за черту прибоя. Иногда это удавалось, но их тут же выбрасывало на берег. Такими были эти «каникулы». И был ночной разговор, им хватило на целую ночь взаимных упреков, её слез, взаимного ожесточения и боли.
Она оставила себе на память, как самое важное и главное – как он уходил от неё в Ботаническом саду и обернулся серым лицом. И главным был этот серый цвет оглушительной боли…
Но там, на ялтинской площади у почтамта, была ещё и полосатая тельняшечка – как знак другой жизни, там началась её вина, что эта другая жизнь не состоялась.
«Встретить не могу, встретимся в Ялте, у почтамта», к которому она никак не может пробиться – её сносит толпой, текущей вниз, к морю, а она идет против толпы, в гору… И, как глас небесный, весёлый и единственный голос: «Посмотри, какой негритёнок хорошенький». Негритёнок действительно был хорош, вздернутый на папиной руке и обнявший мамину, и нога с папиной стороны прошагивала в воздухе, полоски тельняшечки перекашивались, как вели-тащили его красивые родители. Негритёнком он собственно не был, просто загорел до пепельной черноты и кудряв, и кудри тоже выгорели до цвета пепла. Может, этот ребёнок и был знаком к доверию на будущее, но она не поняла, кудри и тельняшечка так и остались пятном, – ярким и случайным. Потому что голос единственного тембра и полноты звучал тогда для неё отдельно от смысла и вряд ли имел отношение к речи вообще – в нем была бездна другой информации.
Там была еще одна глупость – «Не надо меня бояться, – сказала она ему заранее заготовленную фразу вопреки звучанию голоса. И ещё, – Хорошо, что мне не пришлось тебя искать, и я сегодня успею уехать к маме».
К маме она не уехала, потому что сразу был его стыд и какая-то фраза, фразу она забыла еще тогда, сразу. Не в ней было дело. Они тогда разговаривали на интонационном языке, как птицы.
Да и не могла она ехать к маме с таким вот лицом, с грузом всего, что с ними было и что им нужно было вдвоём выболеть и изжить.
И дальше врозь – невероятие вот такое. Она доживала у его плеча последние дни, а он отрывался. Он не думал, что она доживает, а она никак не могла понять, что он отрывается. Так. Таким вот способом. С нею. В Ялте. И от неё.
А потом был аэропорт. Где, в Симферополе? Или в Ташкенте? Где всё это было, прощальное и страшно простое? Где мог спать его сынишка, где был балкон, на котором они могли сидеть вместе из разных номеров под грохот взлетающих самолётов? Как они тогда рассудили всё наперед, и что сказать жене – чтоб правда и чтоб не больно. И дальше – на ближайший год, и дальше – на всю жизнь. И как педантично выполняли все пункты страшного договора!
Она только не ожидала подарка, который приготовила ей природа, и растерялась. Она как-то упустила из виду, что от этого случаются дети, а знак полосатой тельняшечки выпал из памяти, и всё, что случилось потом, было её неготовностью к другой жизни, следствием и виной. Казалось невозможным так его подвести, и казалось, что это убьёт маму. Но главным – была её неготовность: и поход со всеми в горы за орехами, и проливной, струящийся даже под одеждой октябрьский дождь, и марш-бросок под этим дождём, чтобы не окоченеть совершенно… Грузовик на шоссе с мокро хрустящими кочанами капусты, на которых они доехали до посёлка, продутые и промерзшие насквозь… Детей не только находят в капусте, но и теряют. Горячечный бред трёх ночей, Зоины слезы и облегчение, почти радость Наташи, что всё обошлось… А что Малышка? А Малышке не говорили, она была маленькая… И помалкивала. Это после, решив с отчаяния, что ребёнка можно переиграть заново, – было и такое – она пошла к Багину в отсутствие жены, не зная, что он-то и повез семью…
Она сидела на пороге всю ночь, где под утро её и отыскала Малышка, каким-то образом вычислив этот порог. Малышкины горячие руки, пытающиеся её поднять, и слезы: «Ты не знала? Не знала, что он тоже в Алма-Ате?» И ещё вот это – красный рубчатый след на щеке от названия города, как от удара верёвки, сложенной вдвое…
Они знали – она не знала. Она жила в тот год в отсутствии информации, как в вате – все считали, что так лучше, в глухоте и неведении. Что неведение – исцеляет. А оно кончается сидением на стылом пороге, чертежом в зеркальном исполнении и гигантским вывалом по нему.
А в ту ночь светила луна. Сначала в лицо. Потом ушла за дом. И был ветер.
Как он жил последующие пять лет, она не знала. Была неожиданная открытка года два назад, когда у неё всё только начиналось заново: «Почему вспомнил? Голос твой звучит очень явственно, а всё остальное забыто». И ниже: «И тополя уходят, Но след их, озаренный, светел…» Без обратного адреса. Он как бы почувствовал, что она оторвалась, наконец, совсем.
Тот год она избегала Елену Николаевну. Но когда Малышка вела её домой, с трудом подняв со стылого багинского порога, возникла перед ними Елена, как бы сконденсировавшись из воздуха, из плотных в тени кустов и деревьев предрассветных сумерек. Накинула ей на плечи шаль. Втолкнула в калитку своего дома. Они отпаивали её чаем, зубы стучали о чашку, и, оттолкнув Малышкину руку, она сказала Елене то, что весь год мешало смотреть ей в глаза:
– Я знаю. Вы жена. И судите меня с позиций жены.
– Дурочка, – сказала Елена. – Если бы ты была на её месте, ты бы всё равно проиграла.
Та ночь давала ей право идти сейчас к Елене.
* * *
Алиса накинула куртку на голову и вышла под мелкий злой дождь. Отсчитала четвертый дом в переулке, у которого действительно был сирый вид с завешенными кое-как окнами веранды. Толкнула три двери, попавшиеся на пути. За третьей, в свете настольной лампы знакомо сиял нимб волос вокруг склонённой головы. Елена Николаевна медленно обернулась, сощурилась в сумерки у дверей.
– Пришла?
Алиса кивнула.
– Проходи, коль пришла.
Алиса неуверенно приблизилась, осторожно коснулась плеч, зябко ссутулившихся под шалью. Шаль была прежней, домашней вязки, с кистями и красным орнаментом по краю… Её забытая шероховатость ударила по пальцам, в ушах нарастал шум, и, ухватившись за ссутулившиеся, зябкие Еленины плечи, Алиса ткнулась лицом куда-то в Еленино ухо.
Елена прижала её голову к своей, потрепала по щеке:
– Ну-ну ладно. Садись, – и словно впервые оглядела своё жильё. – Садись куда-нибудь.
Она, видимо, ещё не успела как следует устроиться к тому времени, когда Домбровский вернулся из санатория, и всё так и осталось – кое-как расставленная мебель, не разобранные картонные коробки в углу, голые стены…
– Вот так и живём. Смешно? Или не очень, Аля? – только она и называла её так. И ещё Багин… – Ты не суди. Дело не в доме и не в принципе. То есть, для него, конечно, в принципе… Но он… Он, наверное, прав. Ему зачем-то так надо. Я ведь знала. Знала, что так и будет. Он никогда не уступал. Потому что уступив раз, он уже не будет иметь права не уступить другой. Но тогда это будет не он. Ему зачем-то так нужно. Пройти сквозь жизнь вот так, насквозь. Куда-то. Ничего у неё не взяв и отдав всё. И где-то там упасть, когда выложится весь. А я ещё раньше стала с ним хитрить. Он доверчивый. А теперь самое себя перехитрила. А назад как?
Алиса пристально смотрела на Елену. Потом сказала:
– Если вопрос только в «как», то это просто.
Елена подняла брови. Алиса улыбнулась.
– Назад можно только весело. С весёлым лицом. Пока Сарынбаев не настроил навесов и курятников…
– Уже настроил.
– Перевезёт.
– Ты что, серьёзно?
– Ага. Серьёзнее не бывает, – и встала. – Давайте чай пить.
Елена Николаевна изумлённо смотрела перед собой, и Алиса, оставив её привыкать к этой мысли, ушла на кухню. Поставила на плиту чайник, отыскала и нарезала хлеб, в холодильнике нашелся кусок сыру, масло. Хлеб был черствый, сыр тоже, и она быстро поджарила на сковородке гренки.
Елена всё так же сидела у стола с изумлённым лицом, пыталась улыбнуться краем рта, словно примеряла улыбку и весёлое лицо.
– А Галка где?
– У подружки. Гуляет.
– Ну что вы думаете? Надо – «хоп» – и всё.
– Страшно. А так в деревянном даже лучше – суше…
Алиса фыркнула, поперхнулась чаем, закашлялась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































