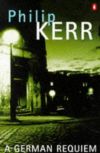Текст книги "Право на возвращение"

Автор книги: Леон де Винтер
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
19
Ясное звездное небо над городом. Торговцы закрывают двери и окна магазинов решетчатыми жалюзи. Теплая ночь, позволяющая тому, кто ночует на террасе, выбраться из спального мешка. Обвязанные веревками, едва держащиеся в стенах балконы; кабели, проложенные поверх фасадов. С балконов свисает сохнущее белье. Тощая кошка вспрыгивает на край переполненного мусорного ящика, стоящего у магазина, и идет, осторожно ступая меж гниющих отбросов. Бродяга уселся в темноте под козырьком подъезда, пристроив для сохранности за спину пластиковые сумки с барахлом. Вдали «скорая», нервно мигая огнями, форсирует перекресток; сирены выключены, а номер отсюда не разглядеть. Они подходили к ночной закусочной, оба слишком усталые, чтобы заснуть.
Икки что-то напевал себе под нос.
Брам узнал мелодию:
– Bohemian Rhapsody?[76]76
Одна из самых успешных песен Фредди Меркюри из альбома «A Night at the Opera» (1975).
[Закрыть] – спросил он.
– Музыка вашего поколения.
– Но не моя. Я в ту пору не понимал, насколько они хороши. Я был так занят всякой интеллектуальной чушью, что почти совсем не слушал рок.
– Много потерял, – констатировал Икки и запел: – Mama – just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he is dead.
– Сопливая мелодрама, – сказал Брам. – Но все равно здорово.
Икки весь вытянулся вверх, раскинув руки, – совсем как Фредди Меркюри, прислонился к выщербленным плиткам фасада Бен Иегуды и запел: Mama – life had just begun, but now I’ve gone and thrown it all away. Mama…
Они засмеялись вместе – Брам поразился тому, что у него хватило сил рассмеяться.
– Когда ты слушаешь музыку? – спросил Икки.
– Никогда. – Музыка нарушала вакуум, в котором Браму нравилось находиться. Все эти годы он предпочитал жить, словно отгородившись от мира толстым полупрозрачным стеклом, не различая четких контуров, не слыша ясных звуков.
– Я скачаю тебе то, что тебе понравится. И мы должны пойти на дискотеку. Даже я туда хожу, несмотря на мою титановую ногу.
– А что, у нас до сих пор танцуют?
– Ты где, собственно, живешь? Это Тель-Авив, парень! Нигде и никогда так не оттягивались, как здесь! Нет ничего веселее, чем танцевать рядом с жерлом вулкана или на тонущем корабле!
Открыв дверь закусочной, они вошли в небольшое помещение, перегороженное решеткой: словно прямо с улицы попали в тюрьму. Пахло горелым маслом и пролитым пивом. Толстый сефард – кожа его блестела от пота после длинного рабочего дня, проведенного у плиты, – просунул меж прутьев решетки их заказ. Они вышли на улицу, сели на пластиковые стульчики у пластикового столика и, склонившись над открытыми пакетами, занялись своей швармой, лепешками-пита, хумусом и пивом.
Набив полный рот, Икки заговорил:
– Я собираюсь прямо сейчас обработать фотографию новой программой.
В банке данных одного из голландских фондов, где регистрировались пропавшие дети, они нашли снимки Яапа де Фриса, прелестного светловолосого мальчишки с большими голубыми глазами. Программа, о которой говорил Икки, обрабатывала фотографии и давала примерное представление о том, как изображенные на них лица могли измениться со временем.
– Завтра, прямо с утра, надо будет заехать к Плоцке, – медленно произнес Брам, словно он был электриком, собиравшимся с утра начать работу у заказчика. Он не желал поддаваться панике. Или, может быть, чувствовал, что дошел до края, что достаточно малейшего толчка, чтобы соскользнуть в безумие. Этого никак нельзя было допускать. Он не мог позволить себе никаких чувств.
– А как же Балин?
– Я позвоню туда, – сказал Брам, – он оставил мне карточку.
– Как ты думаешь, он нас подслушивал?
– Если бы подслушивал, то давно уже примчался бы.
– А как быть с матерью этого мальчика?
– Это дела Балина. Хотя, может быть, лучше мне позвонить… Нет. Пускай звонит Балин.
– Не забудь об отце, Михеле Френкеле.
– Можешь найти его номер?
– В две тысячи восьмом году он жил в Бостоне. Профессорствовал в Гарварде. Читал физику. На ней и трахался, – отрапортовал Икки.
– Во всяком случае, однажды точно на ней, – сказал Брам, пластиковой вилкой намазывая на питу хумус.
– Думаешь, мама Яапа была его студенткой? – оживился Икки.
– Сколько ей было, когда она родила?
– Двадцать три.
– А Михелю?
– В две тысячи втором году? Сорок три. Сейчас ему шестьдесят пять.
Они переглянулись.
– Точно, студентка, – кивнул Икки и набил рот швармой. – Я нашел на одном из сайтов брата Михеля, – добавил он, облизывая губы. – Он тоже был известным ученым. Погиб при взрыве «грязной» бомбы в Сиэтле.
Диана! – вспомнил Брам. Перед его глазами встал перекресток в Санта-Монике и девочка, которую он спас. Та самая Диана. Синяя машина, задевшая коляску…
– Эдди Френкель, – медленно произнес он. – У него была дочка, Диана. Сейчас ей, должно быть, пятнадцать. Или шестнадцать?
Икки, изумленно застыв с вилкой в руке, глядел на него:
– Диана? Дочь Эдди Френкеля? Ты ее знаешь?
Брам поднялся со стула, повернулся и медленно пошел прочь, глядя вверх, на крыши и сухие деревья вдоль дороги, ища успокоительную картину, которая поможет уняться бешено заколотившемуся сердцу. Сверхидея создает почву для безумия? Или – наоборот – безумие возникает на почве сверхидеи?
После несчастья, которое приключилось с ними, он занялся поисками нумерологических закономерностей, и это он, книжный червь, ведомый нумерологией, проехал через всю Америку, чтобы в один прекрасный день на каком-то перекрестке спасти незнакомую девочку. Чепуха, трагическая нелепость. Которая почему-то случилась с ним, добившимся – из страха, что он может потерять все: малыша, жену, дом – полного самоконтроля! Одна ошибка, но сколько времени потеряно! И сколько всего позабыто – фатальная забывчивость… Икки и он позволили играть с собой, как со слепыми котятами: ученые, полиция, ортодоксы вышли вперед и заставили их искать связь между случайными инцидентами.
Он почувствовал, как Икки коснулся его плеча:
– Что случилось, Брам?
Он обернулся и встретил озабоченный взгляд Икки. На трех скутерах промчались мимо, перекликаясь между собой, юноши; теплый ветер омывал их щеки, ерошил волосы.
– Брам, – спросил Икки, – что, к чертям собачьим, происходит? Как это связано с Дианой? Я совсем запутался…
Брам схватил Икки за руки и поглядел ему в глаза:
– Икки, я не знаю, что случилось, я ничего не понимаю, только мы – я знаю, вернее – думаю, что мы не там ищем; мой малыш – он давным-давно пропал, шестнадцать лет назад, ему должно быть сейчас двадцать, и тот мальчик, Яап, тоже пропал, но каждый год в мире происходят тысячи подобных случаев, и я боюсь сойти с ума, понимаешь?
Икки, вцепившись в руки Брама и быстро кивая, глядел на него, раскрыв рот.
– В этом совпадении что-то есть, Брам. Я пока не знаю что. Но решение совсем рядом, я чувствую это, я всегда чувствую такие вещи – что-то, чего мы пока не можем понять. Что-то есть, я точно знаю!
Брам покачал головой:
– Ничего. Абсолютная бессмыслица. Нечего этим заниматься.
– Но, Брам, – этот Яап исчез тогда же, когда исчез твой сын – почему? Должно же быть какое-то объяснение? И если твой сын исчез так же, как Яап, что случилось с ним?
Брам беспомощно смотрел на него.
– Пошли, – сказал Икки, взял Брама за руку и повел к столу, словно он не мог двигаться сам или превратился в инвалида, которого надо поддерживать. Но внезапно заорал:
– Ты, мешок дерьма!
И бродяга метнулся от стола, унося с собой его тарелку, а Икки попытался рвануться вдогонку, но Брам удержал его:
– Оставь этого попрошайку. Пойди закажи себе еще.
– Вонючий засранец! – проорал Икки вслед бродяге, в хорошем темпе заворачивавшему за угол, и сердито высвободил свою руку.
– Закажи себе новую порцию, – повторил Брам.
– Да я наелся, – отозвался Икки, усаживаясь.
Брам схватил бутылку пива и стал жадно пить. Господи, если это правда и есть связь между исчезновением Яапа де Фриса и его малыша, то теоретически существует вероятность… Но может быть, ни он, ни Икки не заметили, как у них разом съехала крыша? Не он ли только что серьезно думал о системе и числах, не он ли вспоминал потерянные формулы и мечтал о сухих аргументах псевдологических построений?
– Сядь-ка, – сказал Икки, – и расскажи мне про Диану.
– Очень странная история, – пробормотал Брам.
– Это мы уже слышали. Теперь мне хотелось бы узнать подробности.
Хозяин закусочной окликнул их:
– Заказывать чего будете? Я закрываюсь!
– Ты что-то хочешь, Брам?
– Нет.
– Мне пива! – крикнул Икки, обернувшись к дверям.
Брам сел, облокотясь о стол, и поглядел на напряженно ожидающего его рассказа Икки.
– Ладно, слушай: несколько лет назад я был безумен, как мартовский заяц.
– Был? – спросил Икки.
– Много хуже, чем сейчас.
– Я знаю, Брам.
Брам внимательно поглядел на него. Не слишком ли много знает Икки?
– Мы с тобой конченые люди, Икки, нас просто не существует!
Икки откинулся на стуле и отрицательно покачал головой:
– Нас просто сбросили со счетов, вот что. Поэтому я и не чувствую себя уверенно. Но информация, которую я нашел, абсолютно истинна! Все так и было на самом деле! Внуки двух стариков, больше сорока лет назад работавших вместе в амстердамской лаборатории, исчезли почти одновременно – от этого просто жуть берет.
Брам беспокойно кивнул. Чушь несусветная.
Лоснящийся от пота хозяин поставил на стол бутылочку пива. Икки полез в карман за деньгами.
– Понравилась моя шварма? – спросил его хозяин.
– Первый класс! А ты как считаешь, Брам?
– Хорошая.
– Скажете об этом своим друзьям, о’кей? – попросил хозяин, разглядывая монеты, которые Икки выложил ему на ладонь. – Слишком много, – констатировал он и попытался вернуть Икки сдачу.
– Это тебе на чай, – сказал Икки.
– Я не беру чаевых, я беру только то, что заработал. – Он вернул Икки лишние монетки и гордо удалился.
– Слушай, – сказал Брам, – после того, как малыш исчез, я стал бродягой. Я был совсем болен, не воспринимал происходящего. Чистый псих. Типичные симптомы. Палилалия, глоссолалия.
– Это еще что?
– Непроизвольное повторение слов – палилалия, а глоссолалия – это когда говоришь вроде бы на своем языке, но употребляешь слова, которые никто не понимает. Когда я более-менее пришел в себя, меня несколько лет лечили. Я до сих пор пью лекарства.
– Я заметил.
– Сперва я бродяжничал в Америке. Я отправился на запад, как многие бездомные. Остановился в Санта-Монике, на берегу океана, и там в один прекрасный день – вернее, в восемь тридцать три, восьмого апреля две тысяча десятого года – на моих глазах автомобиль проехал на красный свет и сбил детскую коляску. Я оказал ребенку помощь. Девочку звали Диана. Потом я встретил ее деда, отца матери. Он рассказал мне, что отец Дианы погиб. При взрыве бомбы в Сиэтле. Отца звали Эдди Френкель, он был братом Михеля, отца Яапа де Фриса, который тут у нас взорвался, – слишком густо все замешано, ты не находишь?
Икки прикрыл глаза и сказал:
– Собственно, да. Много. Густо. – Потом открыл глаза, в которых плескалось непонимание: – Так ты встречался с кем-то из Френкелей? С дочерью Эдди?
– Да, и еще раз – через два года, когда приезжал к ним в гости.
– Понимаешь, Брам, эта девочка – двоюродная сестра Яапа, нашего самоубийцы.
Тут Брам пересказал ему историю, которую слыхал от Плоцке, о последних словах Яапа: «Аллах Акбар».
Икки долго, внимательно смотрел в лицо Брама, словно ища объяснения тому, что только что услышал, потом пробормотал:
– Господи…
– Что – Господи?
– Как мог еврей сделать это, Брам? Такого никогда еще не случалось. Еврей, взрывающий себя в толпе евреев?
Брам взмахнул рукой, словно показывая, что справляется со своим безумием:
– Нам чудятся совершенно абсурдные связи там, где их не существует. Может быть, этот мальчик, Де Фрис, и тот, что взорвался, – вообще разные люди.
– Еврейский мусульманин, – сказал Икки. – Все так просто, как это я до сих пор не понимал! Засранец-еврей, который стал мусульманином! Каким-то образом стал мусульманином за эти шестнадцать лет. И не таким, как те, которым достаточно молиться пять раз в день, поносить на всех перекрестках евреев и христиан, регулярно трахать своих жен и мечтать о средневековом священном халифате, – нет, мусульманин, для которого высшая цель жизни – взорваться, забрав с собой как можно больше евреев.
– Господи… – Брам снова поднялся со стула, его трясло.
– Брам, ты должен показать Плоцке компьютерную обработку фото Яапа. Эти программы очень хорошо работают. Ты ведь знаешь. Но у нас остался еще один неучтенный факт: у двух человек, работавших когда-то вместе, осенью две тысячи восьмого года, почти одновременно исчезли внуки. Это – невероятно для случайного совпадения.
– А какое отношение имеет к этому Диана? Что говорит твоя хваленая интуиция?
Икки смущенно помотал головой:
– Знаешь ли, Брам, моя интуиция устала. Сейчас – три ночи.
– А как обстоят дела у остальных, работавших с моим отцом? У них не исчезали внуки?
Икки тоже поднялся, оттолкнув стул в сторону:
– Ты знаешь их имена?
– Без понятия.
– Найди хоть несколько. Тогда я пройдусь по сайтам.
– Я поищу. В его архиве. Или, может быть, в архивах газет сохранились статьи об исследованиях, за которые он получил Нобелевку. Там должны быть имена.
– Я проглочу несколько пилюль и вернусь в «Банк», – сказал Икки.
Он раскинул руки, они обнялись, и Брам хлопнул Икки по спине:
– Давно хотелось врезать тебе как следует.
– Все равно ничего не добьешься.
Они разжали объятья, и Брам сказал:
– Ты такой же псих, как я.
– Буду считать это признание знаком искренней дружбы.
Они стояли друг против друга, не решаясь расстаться.
– Брам, – сказал Икки, – если и в самом деле исчезновение Яапа как-то связано с исчезновением твоего малыша, то есть шанс, большой шанс: то, что случилось с твоим ребенком, – не простая случайность. Если мы найдем связь – сколько времени у нас будет?
– Даже думать об этом не хочу, – сказал Брам, боясь возврата в прошлое, в нумерологию, систему, безумие. – Давай-ка сперва покажем фотографию Плоцке. А сейчас я должен освободить бедную Риту. Она спит у нас на диване.
20
Когда он вошел, Рита не проснулась. Брам тихонько прошел мимо нее в спальню отца. Хартог лежал на спине, до половины прикрытый простыней. Он был в майке и памперсах, которые еще не протекли. Можно было не будить отца, пока сам не проснется. Что может сниться человеку в таком состоянии? Что он может видеть, что переживает? Может быть, ничего, ни знакомых лиц, ни воспоминаний, ни страхов? Брам присел к нему на кровать и легонько провел пальцами по лбу старика. Если бы он остался самим собой, если бы Брам мог обсудить с ним то, что произошло, Хартог, со своей магической прозорливостью, мгновенно нашел бы все связи и восстановил покой и порядок, потому что прозорливость нужна как раз для этого. Брам всегда с восторгом наблюдал за тем, с какой легкостью Хартог входил в суть любой проблемы. Неужели его интеллект исчез навсегда? Неужели отец все еще дышит и сердце его бьется лишь благодаря упрямому, трудному, неподатливому характеру? Хартог передал ему свою Y-хромосому, а Брам передал ту же хромосому своему сыну. Он вдруг подумал, что и его ждет такая же старость, и вздрогнул. Кто будет за ним ухаживать?
Когда были сданы школьные экзамены и настал день получения дипломов, амстердамские приемные родители Брама, Йос и Хермина Фермëлен, пришли с ним на торжественный вечер в школу. Отец должен был вести в Тель-Авиве какой-то семинар и не смог прилететь. Брам никогда не признался бы даже себе в том, каким одиноким он чувствовал себя, особенно потому, что отца давно уже не интересовали ни его способности, ни успехи. У него были хорошие отметки, но точные науки в дипломе отсутствовали[77]77
В голландских школах ученики сами выбирают предметы, по которым будут сдавать выпускные экзамены.
[Закрыть]. Назвали его имя, он прошел вперед, принял из рук ректора свой диплом, а на обратном пути увидел у входных дверей своего высоченного отца в плохо сшитом израильском костюме. Хартог стоял, заложив руки за спину; он издали кивнул сыну, и сердце Брама подскочило от радости. Когда все кончилось, отец пожал ему руку, но, видимо, сообразил, что этого недостаточно, и, на секунду замешкавшись, неловко обнял его. Хартог никогда не был щедр – экономный и аккуратный, он не бросал денег на ветер и многое находил чрезмерным, – но на этот раз решил угостить Брама ланчем в «Европе», одном из самых дорогих отелей в центре Старого города. После первой перемены блюд – Брам заказал самое дешевое, что нашлось в меню, тарелку супа (здесь его называли «консоме») – Хартог выложил перед сыном на белоснежную дамастовую скатерть конверт с тремя тысячами гульденов. Этих денег должно было хватить на билеты: Брам собрался в кругосветное путешествие со школьным приятелем. Хартог не умел зримо выражать свою любовь – никаких неожиданных объятий, поцелуев и прочих нежностей, – но он хотел показать сыну, как сильно любит его.
Было ли это назавтра после теракта 6 июля или неделей позже? Брам уже не помнил, какого точно числа получил диплом, помнил только, что было это в пятницу. Но во время еды отец заговорил о теракте, совершенном в набитом людьми автобусе номер 405, Тель-Авив – Иеру-салим.
Шестое июля 1989 года, четверг. Через тридцать пять лет, сидя на краю отцовской кровати, Брам вспомнил дату, потому что в специальной литературе эта акция палестинцев упоминалась, как самый первый теракт-самоубийство. Часть пути автобус проезжал над обрывом, и пассажир-палестинец, напав на шофера, вывернул руль. Автобус упал в пропасть, результат: двадцать семь раненых, шестнадцать убитых. Сам террорист выжил, его вовремя доставили в израильскую больницу.
– Так всегда бывает, – сказал отец, – когда недостаточно жестко отвечаешь на нападения.
– Что же Израиль должен был делать? – спросил Брам, восемнадцатилетний пацифист, уверенный в том, что рано или поздно соглашение должно быть заключено. Мирные соглашения ведь заключают не с друзьями, а с врагами – он верил тогда в подобные сентенции. Он знал, что отец стоит на точке зрения ястребов, но не хотел его провоцировать.
– Израиль должен уничтожать их, потому что иначе они уничтожат Израиль, – заявил Хартог.
– Папа, но нельзя же перерезать целый народ? Как ты можешь такое говорить?
– А я и не говорил: «перерезать народ», – передразнил его Хартог, сердито оглядывая аляповато-шикарный зал «Экселсиора» – так на самом деле назывался ресторан отеля. – Я говорил о том, что их надо было выгнать. О том, чего мы не сделали, не довели до конца, и за это палестинские арабы нам всем поотрезают головы. Мы должны были позволить им в тысяча девятьсот сорок восьмом году переправиться на тот берег Иордана. Там у них была своя собственная страна, Иордания, а река образовывала естественную границу. И если они причиняют нам боль, мы должны причинять им боль в десятикратном размере. Если они планомерно убивают наших граждан, мы должны убивать в десять раз больше на их стороне. Такова логика Востока. Так у нас заключают союзы. Следуя европейским правилам заключения союзов – оглянись вокруг! – там не продержишься и недели. Ты сражаешься против брата, а вместе с братом – против племянника, а вместе с братом и племянником – против троюродных братьев, а вместе с братом, племянником и троюродными братьями – против остального мира. Такова bottom line[78]78
Основа (англ.).
[Закрыть], остальное – комментарии.
– Но, папа, ведь те люди хотят того же, что и мы, разве не так? Крышу над головой, работу, школу для своих детей?
– Ты собрался в кругосветку?
– Да, спасибо тебе.
– Ну так по дороге ты убедишься, что люди в разных местах думают по-разному. Почему ты считаешь, что арабы понимают политику так же, как европейцы? Да для них Коран намного важнее любого закона. Так и с автобусом: тот араб был готов умереть вместе с евреями, потому что был уверен, что отправит евреев в ад, а сам попадет в рай. Тем, кто в этом уверен, ничего не стоит умереть. И нам ничем их не остановить. Кроме одного: брать их семьи и отдавать насильникам их матерей и сестер. Тогда все разом переменилось бы. Но Шамир на это не способен. Когда-то был несгибаемым бойцом-подпольщиком, теперь только и ищет компромиссов. Может быть, Рабин был бы лучше, он, похоже, потверже, но все равно никто не посмеет взглянуть правде в глаза.
– Пап, ты сам-то слышишь, что говоришь?
– Надеюсь, что ты слышишь меня.
– Таким путем… – как бы это так сказать, чтобы не обидеть его? – Таким путем мира не добьешься.
– Почему мы должны желать мира? – Хартог надменно смотрел на него, сильный, как всякий, кто отбросил беспочвенные надежды. – Если хочешь выжить, нечего умолять врагов о мире.
– Это по-другому называется.
– Ты совсем ничего не понимаешь, Брам. – Хартог сделал знак официанту и указал на их опустевшие бокалы.
– Я понимаю одно: с врагами нужно заключать мир, – сказал Брам, наклоняясь к нему. – Израиль имеет право на безопасность, но нельзя же вечно оккупировать палестинские территории!
– Нонсенс. С врагами не заключают мир. Их разбивают наголову. Так поступают с врагами. Откуда у тебя эта безумная идея, что с арабами можно заключить мир? Мир с арабами – не что иное, как отсрочка смертной казни.
– А о неграх ты что думаешь? – спросил Брам, полагая, что настал час показать отцу степень его экстремизма.
– А какое сюда отношение имеют негры?
– Ты что, расист? – спросил Брам резко. Он понимал, что бросает отцу вызов.
– Арабы – не раса, это негры – раса. У меня бывали сотрудники-негры. Работали прекрасно. Против тех арабов, которые выросли на Западе, я ничего не имею. Так что своими обвинениями в расизме тебе не загнать меня в угол, мальчик. Надо поумнее выстраивать линию защиты. Так называемые «палестинские территории» называются Иудея и Самария. Звучит очень по-арабски, не так ли? А какое отношение к истории арабов имеет Хеврон? Зато в Танахе город Хеврон поминается очень часто.
– Так какие планы у будущего премьера Израиля Хартога Маннхайма? – спросил Брам с максимально возможным ехидством.
– Столкнуть в пропасть десяток автобусов с арабами, – отвечал Хартог, жестом показывая официанту, что ему достаточно вина. – И все прекратится само собой. – Он поднял свой бокал, чтобы еще раз выпить за здоровье Брама. – Сегодня, в первый раз за много лет, я пью во время ланча, так что, Брам, лови момент.
Брам смотрел в сторону, он был зол до тошноты.
– Что случилось? – спросил Хартог.
Брам помотал головой, пораженный тем, что отец даже не подозревает, насколько отвратительны его взгляды.
– Расслабься, – сказал Хартог, – оставь то, что тебя напрягает, погляди на меня. Ты сидишь тут, у тебя все замечательно, об этом я позаботился, но ты не имеешь права критиковать евреев, которые там голыми руками таскают из огня горячие уголья.
– Каштаны, папа. Таскают из огня каштаны. На горячих угольях сидят.
Брам увидел, как в глазах отца на мгновение вспыхнул адский огонь бешенства. Хартог поставил бокал, не сделав и глотка вина, прикрыл глаза и сказал:
– В последнее время я совсем не говорю по-голландски. Иврит, иногда английский. Поэтому мне легко ошибиться. Но когда я поднимаю бокал, чтобы поздравить тебя с окончанием школы, специально прилетев, черт бы тебя побрал, из Тель-Авива, ты мог бы вести себя повежливее, понял?
Браму не хотелось выводить отца из себя, но он не мог так просто сдать свои позиции:
– Пап, ты заходишь слишком далеко и, основываясь на том, что ты сам пережил, рубишь, так сказать, сплеча. Я жутко рад, что ты приехал, правда, но твои политические идеи, они несколько… чересчур крутые.
Хартог глядел в свой бокал, сжимая пальцами тонкий хрусталь. Брам знал, что он запросто может раздавить его. Хартог заводился легко и под настроение начинал крушить все вокруг себя.
Но на этот раз он сдержался.
– Я полагаю, имя Самира Кунтара ничего тебе не говорит?
– Нет, – пробормотал Брам, поняв, что отец вот-вот его обыграет. Хартог выставил свое самое сильное оружие – эрудицию.
– Кунтар, Самир. Друз. Член ООП[79]79
Организация освобождения Палестины.
[Закрыть]. Это случилось двадцать второго апреля тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Тебе было восемь, так что ты вполне можешь не знать этого имени. Я тогда бывал в Израиле наездами: Технион в Хайфе, институт Вейцмана в Реховоте. В тот день я как раз там был. Ты, верно, думаешь, что я всегда был таким, как сейчас?
– Откуда мне знать? – пожал плечами Брам, гадая, на чем отец собирается его подловить.
– Я был почти таким же, как ты. До того самого дня. Не совсем таким же, потому что ты наивнее, чем я был тогда, но, в общем, похоже.
– Я, значит, наивный?
– А как же? Но теперь слушай внимательно, ладно?
Брам сердито кивнул.
– Этот друз Самир Кунтар принадлежал к группе из четырех человек, приплывшей на лодке из Ливана. По собственной воле? В тот раз – абсолютно. Надувная лодка с пятидесятисильным подвесным мотором, скорость пятьдесят восемь километров в час, – быстрая лодка, видишь, я знаю даже такие детали. Они добрались до Нагарии, местечка между ливанской границей и Акко. Около полуночи причалили к берегу и сразу застрелили полицейского, случайно там оказавшегося. В Нагарии они разбились на пары. Наш приятель Кунтар вошел в дом семьи Харан. Они были дома: отец Денни, мама Смадар и две дочурки: четырехлетняя Эйнат и двухлетняя Яэль. Смадар схватила Яэль и спряталась на антресолях в спальне, за чемоданами. Она боялась, что девочка заплачет, и рукой зажала ей рот. А наш приятель Самир выгнал Денни с Эйнат на пляж. На глазах дочери прострелил голову отцу и долго держал его под водой, чтобы убедиться, что он погиб. А потом забросал камнями, валявшимися на пляже, Эйнат и разбил ей голову прикладом винтовки. А Смадар, спрятавшись с младшей дочкой, со страху так сильно зажимала ей рот, что девочка задохнулась…
Хартог смотрел в окно, на изумительную башню Мюнт[80]80
Название означает «монета», в этой башне раньше чеканили деньги.
[Закрыть] семнадцатого века. Часы на башне пробили три.
– Из четырех террористов евреи поймали двоих: Самира Кунтара и Ахмеда ал-Абраса. Каждого приговорили к нескольким пожизненным срокам, да, их судили, как людей. Я помню, в какой-то газете было интервью со Смадар. Она рассказала, как пряталась с девочкой на антресолях и как думала тогда: в точности как моя мама во время Холокоста. Четыре года назад Ахмед ал-Абрас был обменен вместе с другими на трех израильских солдат, сидевших в тюрьме в Ливане. Тысячу сто пятьдесят арабов поменяли на трех евреев. Ал-Абрас получил возможность начать новую жизнь. Зачем я об этом рассказываю?
Он поглядел на Брама и продолжал:
– Потому что Самира Кунтара многие арабы считают героем. Человека, который на глазах девочки убил ее отца, а после проломил ей голову. В глазах арабов он – герой. Этого зашоренного, абсолютно аморального психопата в ливанских и палестинских городах считают борцом за справедливость. Это случилось, когда я там был, в тысяча девятьсот семьдесят девятом году. Так что не хрена рассуждать о мире и «переговорах с врагом». Твой враг – чудовище. Он выпустит тебе кишки, едва ему представится возможность. И пока сам ты не живешь там, пока у тебя нет собственного опыта, вся твоя болтовня не стоит выеденного яйца.
Брам прервал его:
– Я круглые сутки только об этом и читаю. Я знаю, о чем говорю.
– Ты даже не представляешь себе.
– Чего ты хочешь? Чтобы я переехал в Израиль?
– Ты где собираешься учиться?
– В Тель-Авиве, – брякнул Брам, в неясной надежде, что эта новость выбьет Хартога из колеи. – Я поеду учиться в Тель-Авив. И буду жить с тобой.
– Со мной?
– Постараюсь не попадаться тебе на глаза.
– Кровать всегда к твоим услугам, – сухо отозвался Хартог.
Брам собирался устроить отцу провокацию, он полагал, что отец посчитает приемлемым сохранение некоторой дистанции между ними. Так что он не поехал вокруг света, а снял студию в дешевом районе Тель-Авива и начал, вопреки себе самому, вопреки собственному критицизму и ожиданиям, влюбляться в страну, в ее рассветы и сумерки, в дома и названия улиц, в критически смотрящий на мир талантливый народ с его мучительными мечтами и естественными страхами. Был ли прав отец? Брам отказывался согласиться с его мнением. И даже через тридцать с лишним лет отказывался жить в соответствии с его горькими, лишенными иллюзий идеями.
Сильное, крепкое тело Хартога продолжало функционировать. Брам сжал старческую руку отца, руку, выводившую то авторучкой, то мелом на школьной доске химические формулы элементарных процессов жизни, подносившую ко рту корку хлеба или полкартошки, когда он, ребенком, остался один. Исхудалую руку. С бледной кожей, сквозь которую просвечивали темные вены. Со старческими пятнами. Руку, которую он проклинал мальчишкой, потому что не получал от нее ласки. Тяжелый характер. А с некоторых пор – одиночество.
– Ах, папа, – прошептал Брам, задыхаясь от жалости и невозможности утешить отца, и погладил его руку.
В половине четвертого утра Брам открыл дверь своей кладовки на первом этаже, пятую по счету от той, что принадлежала Рите. У Хартога никогда не было лишней мебели, которую он мог бы сюда составить; лампы зажглись, и Брам увидел помещение, забитое картонными коробками, составленными друг на друга стопками, достигавшими потолка. На каждой приклеена этикетка с надписью – не на иврите, а по-голландски, элегантным, выработанным в довоенной школе почерком отца. Отчеты об исследованиях, эксперименты, годовые подписки специальных журналов. Через несколько минут Брам добрался до коробки, помеченной этикеткой: PRIVÉ[81]81
Здесь: Личное.
[Закрыть].
Он откинул крышку и нашел папки с газетными вырезками. Брам не мог себе представить, чтобы Хартог сам собирал их. Наверное, этим занималась мама, а после ее смерти – какая-нибудь секретарша. Сообщения об исследованиях, интервью, а после известия о присуждении Нобелевской премии – десятки фотографий в журналах и научных приложениях к газетам, сопровождаемые статьями о лаборатории Хартога, и даже фотография, на которой юный, двенадцатилетний Брам стоит рядом с отцом, вытянувшись в струнку от гордости, в том самом костюме, который он носил после, когда жил в приемной семье. Статьи в иностранной прессе. Рассказы сотрудников о нем. Сол Френкель. Брам быстро просматривал статьи: «сильный», «упорный», «знает, чего хочет», «неустанно», «знания и интуиция», «справляющийся со всем», «выживший», «требовательный, но в первую очередь к себе самому», «добросовестный», «четко мыслящий», «с самого начала приучал» – эвфемизмы для описания характера человека, приучавшего своих сотрудников – как и своего сына – к трудностям.
Брам выписал имена основных сотрудников лаборатории Хартога, их оказалось семеро. Сол Френкель был содиректором – о нем у них было достаточно информации. Два молодых голландца, Фриц де Граф и Иоланда Смитс, рабочие лошадки лаборатории, как понял Брам. Британский исследователь Джозеф Льюис, попавший в группу поздно, всего за год до публикации исследования, принесшего Нобелевскую премию. Русский Досай Исраилов, дневавший и ночевавший в лаборатории, которого тоже считали своевольным одиночкой. Француз Андре Бернар, верный вассал Хартога. И австралиец Генри Шарп по прозвищу Кенгуру, которого Хартог считал своим наследником, – в научных лабораториях даже крупные ученые часто получают самые хулиганские прозвища. Интересно, какое прозвище было у отца? И что делать Браму, если обнаружится, что не только сын Сола Френкеля, но и еще чей-то сын обращался в полицию с заявлением о пропаже ребенка?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.