Текст книги "Стратегия Левиафана"
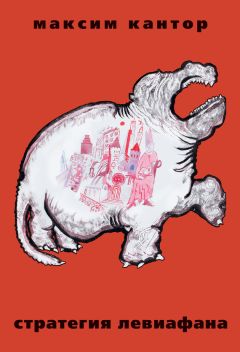
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
8.
Как известно, в 37 году в Берлине была организована выставка «Дегенеративное искусство», на которой были собраны произведения, осужденные нацистами. Принято называть это собрание – авангардным искусством, но это не имеет отношения к авангарду. Слово «авангард» вообще используется произвольно, русским авангардом называют и трепетного Шагала, и квадратно-гнездового Малевича – что нелепо. Нацисты проводили иную классификацию. Прежде всего нацисты сами себя считали «авангардом», картины на выставке «дегенеративного искусства» объединяло то, что человеческий образ был трактован уничижительно (по мнению идеологов Третьего рейха). То есть упрек, вмененный авторам экспонатов, состоял в том, что они как раз не авангардисты – не создают «нового человека». В данном случае термин «дегенерат» употреблялся как антоним термина «авангардист».
Идеология Третьего рейха была героической, при известных спекуляциях ее можно трактовать как возврат к античной эстетике, с обязательным культом здорового тела. Вообще мысль о цели истории, воплощенной в героическом образе, – распространенное мнение, не принадлежащее только лишь Геббельсу. Представление о прекрасном человеке как о вершине искусства было подробно исследовано в трудах «Анализ красоты» Хогарта и «Лаокоон» Лессинга, в трактатах Дюрера и Леонардо. Последние содержали указания о пропорциях, оптимальных для человеческого тела, дотошность в измерениях превосходила Ломброзо и антропологические версии нацистов. Речь у нацистов шла все о том же, о необходимом для цивилизации усилии – о попытке омолодить западную цивилизацию через здоровый языческий дух. Нацисты не опускались столь глубоко к корням, как то делали Клее или Бойс, они желали сохранить античность, очистить ее от христианства, только и всего. Согласно нацистской идеологии (впрочем, этого же мнения придерживался и Ницше, например) дряхлость цивилизации обусловлена тем, что античное начало редуцировано в христианстве. Нацисты, собственно, собирались повторить попытку Ренессанса, но избежать ошибки синтеза с христианством, это должен был быть контрренессанс. Неловко признать данный факт, но во имя античной гармонии, свободной от христианства, и устроили суд над «дегенеративным» искусством. Имелось в виду то, что осужденные картины унижают представление о человеке, это движение вспять от развития поколений и назвали словом «дегенеративное».
Здесь существенно то, что авторы, которых нацисты сочли дегенератами, и сами нацисты – христианскую эстетику осуждали. И те и другие декларировали возврат к языческому – просто возврат представляли по-разному. И те и другие мечтали о том, чтобы омолодить цивилизацию, – просто молодость видели по-разному. Декларации по поводу «праха культуры Запада, который следует отряхнуть с ног своих» звучали постоянно, большинство художников увлекалось примитивизмом и шаманизмом, страсть к этническому творчеству диких народов была повальной, а признание главенства «подсознательного» над сознанием было само собой разумеющимся. Как ни покажется странно, но художники столь открыто звали назад к дикости – что обвинение их в «дегенеративизме» не стало вопиюще неточным. И до Гитлера многие (Гегель, например) осуждали уничижение человеческого образа. Но так решительно применить термин «дегенеративное искусство» – никто не решался. Нацисты потерпели поражение, произведения «дегенеративного искусства» выстояли и, в конце концов, доказали свою пригодность новой эстетике. И все дело в том, что новая эстетика отказалась от античного начала – правы оказались те, кто решил идти дальше.
Движение прочь от антропоморфного образа в новейшей эстетике Запада связано с современным состоянием управляемой демократии: мы декларируем личные права, но не хотим видеть личность, эти права воплощающую – есть масса избирателей, то есть знаковая величина – в то время как образ соответствует иной социальной формации.
Тиранический этап новейшей истории был выражен в образах, которые мы не любим за плакатность. Однако это были образы – и, в том числе, образцы для подражания. Победа над героической эстетикой нацистов – спровоцировала героический же ответ. Появились образы героев, которые стоят в истории культуры Запада памятниками – «Человек с ягненком» Пикассо или «Гибель Роттердама» Цадкина, Девочка из «Герники», доктор Риэ из «Чумы», Роберт Джордан. Они обладают прямым позвоночником и открытым лицом, герои Брехта и Белля, Камю и Пикассо, Джакометти и Хемингуэя, Солженицына и Шаламова, Сартра и Шостаковича, европейский экзистенциализм явил античные образцы доблести.
Закончилось это довольно быстро – лет за десять европейский гуманизм нового разлива себя исчерпал. Насмешкой над героическим – стал персонаж Френсиса Бэкона, растекшийся по холсту. Так приготовленное – стало опять сырым.
Наступила очередная пора реверсного движения, ее назвали постмодернизмом – пора иконоборческого творчества. Нео-дегенеративное искусство пошло дальше дегенеративного искусства двадцатого века.
Неодегенеративное искусство отвергает не просто мораль буржуа – но всякое морализирование в принципе, отвергает всякое обучение. Процесс обучения неизбежно приведет к подробному узнаванию мира, к усложнению перспективы и появлению образа – но именно этого цивилизации и следует опасаться. Искусство существует и в просветительской, но и в охранительной функции – а в языческих обществах охранительная функция делается основной. Отсутствие человеческого образа предполагает отсутствие морали в искусстве – мораль отдана жрецам, контрапункт вынесен из произведения вовне; спросите мастеров, чему они служат – ответ прозвучит незамедлительно: «свободе»; но не спрашивайте, что такое свобода.
Искусство престало воплощать идею, оно не имеет плоти – и все сказанное выше подводит нас к простой: последний век существования западной цивилизации зафиксировал изменение критерия красоты.
9.
Сандро Боттичелли однажды повторил картину Апеллеса (как эту картину описал Лукиан, ибо картина Апеллеса не сохранилась) и создал великую метафору суда над христианской парадигмой в нашем мире. Картина Боттичелли называется La Calunnia, Ложь – и на картине представлен суд над прекрасной женщиной. Судья с ослиными ушами читает обвинительное заключение, лжесвидетели шепчут чванному уроду в длинные уши, а нагая женщина перед лицом трибунала тщетно доказывает невиновность. Женщина символизирует оболганную Истину, и она же – как это понимали неоплатоники – является Красотой.
То, что это повтор древнегреческой композиции, лишь подтверждает закономерность трагедии христианства; в античном мире о неправом суде над истиной и благом знали всегда, отстоять истину хотели всегда – но процесс этот проигрышный. Христианство обучило истину побеждать, смертью смерть поправ – но вразумить судью с ослиными ушами невозможно.
Мы не верим в конкретный суд времени, но мы верим в конечное торжество гармонии – потому что нашим потомкам и истории останется логика красоты, воплощающей истинное измерение мира. Гармония – тождественная благу – находит себе место в самых трагических и горьких холстах Пикассо, Ван Гога, Мантеньи и Гойи; именно этот, последний рубеж – воплощать меру вещей, если пользоваться определением Гегеля, – гармония не отдает никогда. Все скверно, но сама структура образа, самый принцип соотношений и пропорций, сама сила слов и крик красок оказывается тем бастионом, который не будет взят никогда. В картине Гойи «Расстрел 3-го мая» – изображена беспросветная сплошная гибель восстания; и одновременно это яростная победа. Миллионы верующих носят на груди крест, изображающий пытку и смертную муку – и однако этот крест символизирует для них победу над смертью. Катарсис, как его описал Аристотель, может повернуть трагедию в великий урок и триумф истины.
Все вышесказанное звучит обнадеживающе – принцип трагедии и катарсиса, а с ним вместе и сила гармонии безусловно непобедимы; однако победа возможна лишь до тех пор, пока существует трагедия.
Принцип трагедии действует лишь в том случае, если существует субъект трагедии. Если страдающего субъекта, наделенного душой, не существует – то трагедии нет; массовые убийства могут происходить, но бойня не обернется трагедией – катарсис и понимание не наступят никогда; стадо режут – но горе не приносит овцам моральной победы. Наши будни с исключительной достоверностью показывают, что можно быть свидетелем массовых зверств, но свидетель не становится ни умнее, ни добрее. Более того, в большинстве случаев свидетель принимает сторону убийц – если убийства варваров подтверждают его собственный социальный статус. Воспитанное в погоне за привилегиями, холуйское языческое общество примет любое массовое убийство как ритуальную жертву, оно будет бороться за право выжить, но никогда не будет отстаивать прав сострадать.
Стараниями языческой демократии создана такая эстетика, которая исключает трагедию и нивелирует личность, поскольку личность состоит из других людей, из универсальных знаний, из категориальных положений. Отменили не доктринерство – отменили мораль; утвердили не свободу от догмы – утвердили свободу от гармонии. Это крайне удобно для управления жадной корпорацией, но это бесперспективно для общежития. То, что метаморфозы западного общества были произведены при помощи художественного авангарда – всего лишь историческая коллизия; то, что понятие «свободы» было использовано для утверждения зависимости – это обычная демократическая практика. То, что безобразное, неодегенеративное искусство стимулирует угнетение – очевидно. Но есть и менее очевидные вещи.
Существование трагедии, а следом существование критерия красоты – обусловлено простым вопросом: может ли катарсис появиться в условиях отсутствия антропоморфного образа? Или, чтобы сказать яснее, поскольку антропоморфный образ – это суть христианской религии воплощения духа: может ли отступление от христианской парадигмы сохранить гармонию мира в целом? Или совсем просто: что такое христианская цивилизация без христианского искусства – и зачем она?
Загогулина
Данте в трактате «Пир» рассматривает четыре уровня бытия образа.
1. Буквальный уровень толкования образа. Вот лицо, характерные черты – нос и разрез глаз.
2. Моральный уровень толкования. Лицо усталое, рассказывает об обществе, о характере власти.
3. Аллегорический уровень. Асимметрия данного лица выражает дисбаланс мира. Все расшатано, глаз косит, нос съехал на сторону.
4. Анагогический уровень (с греческого – возвышенный). Лицо – модель мироустройства. Лоб подобен небесному своду; глаза рассказывают о характере; рот и подбородок – говорят о страстях.
Зачем так сложно? Затем, что образное мышление переводит природные явления в духовные – восходит от физического к метафизическому. Всякая изображенная Мадонна рассказывает о жизни провинции, откуда родом, и о том, что такое материнство, и, сверх того, о том, каково родить Спасителя. Всякое лицо – рассказ о человеческом роде. Всякое яблоко – модель планеты, всякий натюрморт – картина истории общества.
Данте повторяет Платона – просто Платон описывал нисхождение от эйдоса к образу, а Данте описывает путь наверх. Представьте, как тени идей припоминают свое происхождение: изображение стола вспоминает, что существует такой предмет – стол; а стол вспоминает, что он – один из многих столов; все столы вспоминают свою сущность – столовость, идею стола; и так столы приходят в мир идей, где изначально пребывает образ стола.
Эти путешествия от малого к большому, от образа к идее – и есть история: событие, осмысленное и пережитое, делается историческим фактом.
Помимо того, возвратно-поступательная связь чувственного образа и надмирной идеи – суть главное положение христианской этики (см. земную жизнь Иисуса), но эта связь абсолютно неприемлема для тиранического язычества, она неудобна. Озирис, Большой Брат, Либеральная Демократия – не имеют живого лица, власть выражает себя через неодушевленный знак. Вы знаете, как выглядит современный герой? Нет, не знаете.
Язычество не имеет истории – оно пребывает.
Вообразите, что изображение стола не может вспомнить предмета стола, не может идентифицировать себя с идеей стола. Изображение имеется, оно силится вспомнить, что оно означает – и не может вспомнить: оно не отождествляется с предметом и с замыслом предмета. Изображение не может вернуться в мир идей, связь утрачена.
Скажем, нарисован квадрат – возможно, что это изображен стол, но изображение не помнит, стол оно или дом. Так бывает в человеческой жизни, называется: амнезия – но амнезия случается и в жизни всего человеческого рода, в культуре общества.
Культура, потерявшая связь образа с миром идей, возвращается в свое природное состояние. Лестница восхождения от природного к сакральному разваливается стремительно – стоит толкнуть. Страсть к разрушению образов – недуг христианской культуры, который имеет название «иконоборчество».
Возврат к природному состоянию заставляет оперировать знаками – сигнальной системой, не связанной с идеальным. Знак «кирпич» смысла не содержит, равно как «черный квадрат», или индейский тотем, или произведение авангардиста, который наложил кучу. Знак крайне удобен для манипулирования толпой – тем, что пуст.
Знак выражает лишь то, что ему вменяют выражать: «конец искусства», «проезда нет». Обычно современные художники произносят слово «самовыражение», которое означает буквально следующее: я не выражаю мира идей, но выражаю собственное бытие.
В данном пункте содержится важный парадокс истории западной культуры: моральные и интеллектуально развитые люди занимались выражением того, что находится вне их; а интеллектуально и морально убогие – занимаются самовыражением.
Любопытно то, что многие оценили неоязычество как искомый итог цивилизации – решили, что достижения столь убедительны, что хорошо бы их внедрить повсеместно. Часто поминаемый Фукуяма пустил словечко про «конец истории», но помимо Фукуямы данный этап оценен многими мыслителями как вершина истории. Ленинское положение о «кухарке, управляющей государством» осмеяли, взамен его утвердили, что шаман может управлять культурой. Это куда более радикальное суждение.
Процесс самовыражения убожества был объявлен сакральным. Фактически это означало возврат к дохристианской этике. Возвели капища, воспитали шаманов, утвердили жертвоприношения – локальные войны.
Важность ритуала признали все – изнывая от зависти к прогрессивному язычеству, Россия решила отряхнуть прах собственной культуры с ног своих, объявила себя отстающей в мировом беге за идолами. Образы неполноценного бытия требовалось поменять на прогрессивнее значки, на квадратики и полоски. Родную культуру объявили неполноценной, и как же ее, бедную, мордовали кураторы девяностых и нулевых! Настала пора иконоборчества, образы запретили, невежды-шаманы стали учить недорослей самовыражению.
Жизнь в туземном племени налаживалась: жрецы выли, шаманы скакали, туземцы срали в музеях, рабы ишачили в алюминиевых карьерах. И так буквально везде – никаких образов! – есть чему радоваться.
Эстетике ирокезов не грозило ничего: поклонение знаку и вой в капищах могут литься вечно. Помешал размах предприятия.
Укрупнить эстетику ирокезов до размеров Озерного края можно; но размер планеты – ставит эстетику ирокезов под вопрос.
Христианская цивилизация без христианства оказалась нежизнеспособной. Требуется отказаться от гуманистической риторики – поскольку идея гуманизма связана с образным мышлением, а образное мышление противоречит системе управления. Но если христианская цивилизация откажется от гуманистической риторики, ей следует объявить о своем закрытии, подобно проекту Опенспейс.
Как выражался покойный Ельцин: «такая вот загогулина» – и теперь мы понимаем, что он имел в виду.
Тень культуры
1. Три источника смеха на кухне
Понятие «народная смеховая культура» вошло в обиход интеллигентов благодаря работе Бахтина «Поэтика Франсуа Рабле». Бахтин рассказал про «карнавальное сознание» средневекового мира, показал, как язык площадей противостоял языку монастырей и королевских дворов. «Гаргантюа и Пантагрюэль» есть образец контрязыка, утверждал Бахтин. Исследователь писал про переворачивание смыслов, про «материально-телесный низ», который противостоит идеологии. Эвфемизм «материально-телесный низ» обозначал вульгарности и похабства, без которых нет площадной жизни. Не то чтобы в России обожали Рабле (подряд его не читал никто), – но обретение свободы через смех стало для интеллигентов откровением.
Парадоксально то, что «народную смеховую культуру» опознала как свою интеллигенция, хотя смеховая культура – это, вообще говоря, коллективное сознание народной общины. Но к искомому моменту советской истории городская прослойка уже оформилась как своего рода община – а та, первичная община, которую старательно рушили Столыпин и Троцкий, уже не существовала. Городская прослойка по самоназванию идентифицировала себя с интеллигенцией: считалось, что городская прослойка – носитель культуры и хранитель знаний. На деле, разумеется, это было далеко не так. Солженицын характеризовал эту страту как «образованщину», а у народа слово «интеллигент» стало ругательным – и не потому, что водитель троллейбуса не уважал Менделеева и Ключевского, но потому, что среднеарифметический выпускник Полиграфического института, обыватель с запросами, уже не был «народом», но и «профессором» не собирался становиться. Он был по сути никем – горожанином, и только.
Возникла вязкая городская среда, своего рода община, с кодексом поведения, с фольклором и с определенной связью с русской интеллигенцией. Связь была символической – так итальянцы наследуют древним римлянам. Важным являлось то, что в качестве самоназвания городская община выбрала себе имя «интеллигенция», а вместе с именем присвоила и наследие на судьбы Соловьева и Блока, Пастернака и Достоевского. Связи между новой городской общиной и прежней интеллигенцией не было – но символ имелся.
К моменту публикации книги Бахтина уже было ясно, что новая интеллигенция не разделяет с народом убеждений, а общую судьбу разделяет поневоле – говорят они на разных языках. Народ (так считалось) отныне имеет общий язык с коммунистическим начальством – да, собственно, начальство и есть народ, кухарки управляют государством. Языком народа-начальства стал бюрократический жаргон – а язык народной культуры перешел в ведомство городской общины интеллигентов; такая произошла рокировка в культуре. Брань и матюки циркулировали в городской среде, интеллигентные барышни загибали такие обороты, что дореволюционный извозчик бы ахнул. но после прочтения книги Бахтина под бытовую распущенность подвели теоретическую базу.
Оказалось, что соленая шутка имеет культурный подтекст: культуру только выдавали за целое – на деле это две (!) культуры: охранительная и радикальная, регрессивная и прогрессивная. И в этот момент произошел оглушительный перформанс, затмивший все последующие. Городская община немедленно идентифицировала себя с народом – а народ почли яко небывшим. Основания для перформанса были: община народная распалась давно, коллективизация страну проутюжила, что там спасать – Палех? Хохлому? Где он был, этот русский народ? Народ подался в революционные матросы да в работники райкомов, спившиеся колхозники и дворники – это что, народ? Анчоусы и быдло, точнее не скажешь.
Так кто же отныне правообладатель народной культуры – как не городская среда?
После того как теория Бахтина была усвоена, стало само собой разумеющимся, что культура – понятие двусоставное, и языка имеется сразу два: на одном говорит начальство (и бывший народ), а на другом – городская среда интеллигенции. Официоз говорит серьезно – а культурные люди серую серьезность вышучивают.
Книга о «народной-смеховой» культуре произвела эффект, сопоставимый с эффектом от «Архипелага Гулаг»; разница в том, что Солженицын описал бедствие, а Бахтин показал форму сопротивления беде: требуется уйти из официальной культуры в народно-смеховую.
Надо сказать, что понятие двух культур было введено еще В. И. Лениным, который писал о «буржуазной культуре» и «культуре пролетарской». Суждения Ленина прогрессивная интеллигенция в грош не ставила, его учение о «двух культурах» было предметом насмешек, но через пятьдесят лет после смерти тирана именно ленинская теория была признана истинной. Правда, отныне прогрессивную культуру именовали не пролетарской, а «народно-смеховой» – причем «народно-смеховая» культура принадлежала уже не народу, но городской среде.
Развитие ленинской теории в эпоху финансового капитализма имело ту особенность, что носителем «прогрессивной» протестной культуры оказался класс потенциальных потребителей – а официоз выступал за натуральное социалистическое хозяйство. Дни официоза были сочтены. Форма сопротивления была выбрана в соответствии с раблезианско-бахтинскими рецептами: это смех – язвительный, разрушительный! Смех разрушал иллюзии касательно возможного единения общества – ничего общего мы с вами иметь не желаем. Вы нам пятилетки, светлое будущее, солидарность трудящихся – а нам смешно! Какая солидарность? С кем солидарность? С вами? И мыслящая часть общества захохотала.
Время, которое нынче именуют застоем, – было развеселым временем перманентного капустника. Всенародным карнавалом это назвать было нельзя, поскольку народ в карнавале не участвовал: мужики по-прежнему работали на заводах – этой рутины никто не отменял, даже если прогрессивный дискурс и не поддерживал этого нелепого занятия. Пьяницы и анчоусы водили поезда, работали в поле и строили дома, и многие из них тяжело пили, – а что с них взять? Одним словом, так называемому народу было не до смеха; но это мало кого волновало – сострадать было некому: народная культура перекочевала в другое место, а вместе с культурой ушло и такое необходимое обществу качество, как сострадание. Сословие инженеров и творческих работников провело лет двадцать в оглушительном хохоте. Это был качественно новый смех, нежели в хрестоматийно-сталинские советские времена.
Вообще, со времен издания Бахтина содержание смеха в России поменялось.
В советские времена, во время войны, на стройках или в институтах, в московских дворах и в школах смеялись иначе. Не в том дело, что смех замирал на губах дрожащих людей. Дрожали не беспрерывно и не все дрожали. Теперь, между прочим, тоже хватает горя: вот, посадили группу Пусси-райот, закрыли Опенспейс, и вообще мир на грани войны – но ведь мы до сих пор беспрестанно смеемся. Вы не замечали, что все вокруг хихикают? Иногда даже хочется спросить журналистов: а что это вы постоянно хихикаете? Хихиканье прекращается, лишь когда субъекты хихиканья попадают в передрягу – закроют Опенспейс или арестуют девушек-акционерок; но едва Опенспейс возобновит работу, а девушки-акционерки выйдут на подмостки – хихиканье возобновится. Сегодня никакая культурная деятельность не обходится без шутки, журналист не новостями ценен, а умением отколоть коленце. Открываешь «Коммерсант» – журналисты поголовно острят, открываешь Газету. ру – опять острят. И даже считается, что текст недоброкачественный, если нет язвительных острот. Все журналисты острят практически одинаково, есть такой алгоритм образования сегодняшней остроты.
Вот и в советские времена люди тоже смеялись, шутили, хохотали – имелся критерий смешного, но тогда смешным считали иное, нежели теперь.
Видимо, отличие в том, что тогда острили с некоторыми перерывами – не постоянно острили, чаще были серьезны. Нет-нет, не подумайте, что здесь содержится панегирик советской власти! Я о другом – о микробе смеха, который однажды вошел в общество. Я помню время, когда серьезный тон сменился на шутливый, и шутка стала постоянной в разговоре, когда диалог без шутливого тона стал признаком неинтеллигентности. Прежде, вероятно года до 75-го, в молодежных компаниях говорили серьезно. То есть, иногда шутили. А иногда не шутили. Причем не только тогда были серьезны, когда говорили о деньгах, – а просто без шуток обсуждали планы, отношения, учебу. Даже выпивку обсуждали без шуток – шли серьезно, покупали портвейн, садились распивать. А потом, на излете брежневского времени, все поголовно стали шутить. Возникла атмосфера перманентного балагурства.
Ночные клоунады на кухнях и бесконечные анекдоты благодаря Бахтину получили культурное оправдание. Отныне завсегдатаи посиделок превратились в подвижников, в борцов с режимом. Отныне острили в знак фрондерства, острота стала этакой белой ленточкой на рукаве. Мы не просто дурака валяем, это такая форма борьбы с режимом – в рамках «народно-смеховой культуры». Термин «карнавализация» приобрел характер эстетического определения: так, художники-семидесятники стали изображать маскарады и попойки, и это называли «карнавализацией».
Окончательно так называемая «вторая культура», «протестная культура», «культура десакрализации» оформилась, когда теории философии постмодернизма были транслированы в советскую сонную жизнь. Снабженцами выступили доморощенные культурологи, переводившие (как некогда из Маркса с Фейербахом) отрывки, причем не всегда грамотно. Окармливаемая паства не знала ничего, помимо приведенных отрывков, но не сомневалась – ей дали лучшее из возможного! Постмодернизм! Новые французские философы объяснили российским кухонным сидельцам принцип «деконструктивизма», разложения любого суждения на несущественные подробности, устранение любой тотальной категории, и тут же выснилось, что все мы – стихийные постмодернисты. Назвать кухонного остряка «постмодернистом» было так же эффективно, как сообщить крестьянину, поджигающему усадьбу, – что он марксист. Постмодернизм стал эквивалентен свободе в представлениях интеллигентов, отвергающих режим с платформы кухни.
Не хватало спички, чтобы гремучая смесь «карнавальной культуры» и «философии деконструктивизма» рванула. Этой спичкой стала теория «открытого общества» Карла Поппера, в ней история человечества представала как поединок тоталитаризма и демократии. И эта дихотомия удачно корреспондировала с теорией двух культур и деконструктивизма.
Человеческому сознанию (особенно сознанию интеллигента в стаде) необходимо умственное усилие, чтобы теория стала личным убеждением, – но важно, чтобы данное усилие не было чрезмерным. Вот эта операция оказалась доступной и произвела впечатление интеллектуальной работы. Интеллигенты сами додумались, что тоталитаризм порождает официальную культуру, а демократия – альтернативную контркультуру, смеховую. Тут уж только ленивый не понял, что существует тоталитарное общество, наследуемое в истории от Платона вплоть до Брежнева, а противостоит идее тоталитаризма – идея демократии, десакрализованного общества, то есть, читай, идея карнавализации. А уж путь к карнавализации лежит через постмодернизм. Это была ясная логическая цепочка. Это была даже не двухходовка, а целая комбинация из трех ходов, и те, кто осилил эту комбинацию, обрели уверенность в том, что у них есть убеждения.
Появились сочинения по поводу «другой культуры», «культуры-2», оппозиции и авангарда. Это были неплохие сочинения, остроумные и неуязвимые. Попробуйте-ка поспорить с остряком по поводу уместности острот: немедленно выяснится, что вы стоите на ретроградных позициях тоталитаризма. Так была сформирована новая идеология – и появились комиссары. Они говорили о том, что идет новое, актуальное, радикальное. И люди боялись спросить: а что это значит? Актуальное – это что такое?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































