Текст книги "Стратегия Левиафана"
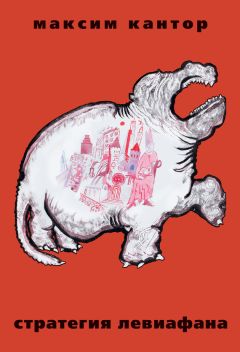
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
4.
В этом пункте рассуждения возникает соблазн рассмотреть редукцию христианского начала в искусстве Запада как тенденцию, полнее всего выразившуюся в Ренессансе. Употребляя термин «язычество», неизбежно вспоминаешь другой – «возрождение»: соблазнительно сказать, что процесс возврата вспять, обратного движения к Античности – начался давно, что это возвратное движение имманентно западной цивилизации в целом, делая шаг прочь от язычества, культура всякий раз возвращается назад к язычеству, прочь от вновь приобретенного – к корням. Да, христианская цивилизация нуждается в поддержке языческими корнями, этого никто не отрицает.
Христианский образ, хрупкий и уязвимый, обреченный на мученичество, а если на победу, то ценой смерти, – составляет неубедительную конкуренцию античному атлету, лапидарности куроса, исполинским вавилонским статуям. Когда культура поворачивается назад, то поворачивается назад в поисках витальной мощи. Таким образом «актуальное» (то есть, вечно молодое) – почти неизбежно означает «языческое». Образец и ориентир, вдохновлявший Винкельмана и Лессинга в XIX веке, Мирандолу и Фичино в XV – вероятно, вдохновляет и новатора наших дней, или того куратора, который объясняет новатору, чем надо руководствоваться. Можно не произносить термина «язычество», но обожествление молодости и силы – ничем другим и не является.
Поскольку Ренессанс XIII—XV веков рассматривается многими историками как сознательное воскрешение античной эстетики, противопоставление языческой красоты – христианской аскезе, легко можно построить рассуждение так, чтобы включить в контекст обязательных возвратных движений к корням – и современную инсталляцию.
Акции новаторов сегодня действительно напоминают языческие ритуалы (так, музеи современного искусства напоминают курганы и захоронения языческих царей, собрания кураторов и адептов похожи на ритуальные камлания), но, парадоксальным образом, «неоязычество» произведено для прославления цивилизации, которая числится христианской. Мы невольно вспоминаем египетские, греческие или полинезийские ритуалы, наблюдая за современной культурой, – но, помилуйте, разве греческая и римская культуры не были тем полем, на котором взошло христианство?
Немолодой обнаженный мужчина бегает по залам музея, привязав к пенису газовую горелку; нагая дама бьется всем телом об стену выставочного зала; пища, размазанная по тарелке, гниет под взглядами зрителей; новорожденный цыпленок умирает, помещенный под раскаленную лампу, – это не ритуалы индейцев племени Бороро, это изощренный дискурс современной культуры. Так сегодня делают нарочно, планы по привязыванию газовой горелки к пенису обдумывают скрупулезно, как сложную композицию Сикстинской капеллы.
Авторы нового дискурса полагают, что повторять достижения былых эпох – значит демонстрировать усталость цивилизации, идти вспять. Цивилизации, для успешного соревнования в историческом беге, необходим молодой напор, и, гальванизируя цивилизацию, мы совершаем нечто сходное поступкам Микеланджело – разве флорентиец не оживлял христианских святых античной мощью, разве он не впускал языческий атлетизм в христианскую парадигму? Сегодняшняя эстетика объясняет нам, что новая витальность имеет те же основания, что и Ренессанс.
Если обыватель возмутится безобразиям новаторов, ему объяснят, что фрески в капелле уже существуют (зачем повторяться?), в то время как газовая горелка на члене – это небывалое высказывание, так дух себя прежде не выражал. Обыватель может посетовать на исключительную вторичность любого хулиганства: невежество и вульгарность во все века одинаковы. Но что если горелка на пенисе – символ нового мышления, огонь Прометея?
Когда-то мещане не понимали Ван Гога, сегодня мещане не понимают человека с газовой горелкой на пенисе. Правда, мещане порицают не только Ван Гога, мещане порицают также бытового алкоголика, хулигана или вора. Однако обладатель газовой горелки ассоциирует себя не с бытовыми правонарушителями, но с Ван Гогом, с Микеланджело. Новатор сегодняшнего дня шокирует (так думает он сам) толпу так же, как шокировали новизной творцы Ренессанса и «проклятые» художники Нового времени; если для того, чтобы разорвать узы, спеленавшие культуру, надо снять штаны – следует так поступить. И разве проказы не согласуются с дионисийским культом, с вакхическими безумствами?
Обыватель спросит: но для чего считать язычество идеалом? Разве христианский идеал был хуже? Правдивый ответ давно дан, обыватель просто не хотел правдивый ответ слышать: вернуться к язычеству следует, чтобы выйти из исторического тупика. Осязаемая победа в истории может быть достигнута лишь язычеством – а той победы, которую может предъявить христианское мировоззрение, цивилизации недостаточно. Для того чтобы христианская западная цивилизация была непобедима, нужна языческая мощь прошлых веков, надлежит вернуться вспять, прикоснуться к истокам. В этом смысле те, кто возвращаются назад, – и являются авангардом.
5.
Авангардом в искусстве называется движение вспять, прочь от христианской парадигмы – назад к языческим корням. Мы не числим по ведомству авангардистов ни Фому Аквинского, утвердившего веру через знание, ни Мантенью, отстоявшего христианский канон вопреки античной пластике, и никого из Отцов Церкви мы не называем авангардистом, и философов неоплатоников, и Рембрандта с Петровым-Водкиным, рисовавших Мадонн, мы авангардистами не называем; да и Шагал не авангардист, и даже Пикассо не авангардист. Авангардистом всегда будет тот, кто поставит знак вопроса над разумностью бытия и веры. Наша современная культура называется авангардной потому, что отменила христианскую парадигму: искусство западного мира столетиями развивалось в направлении «безличный знак – одухотворенный образ», но однажды вектор изменили; это сделали авангардисты. Некогда процесс воплощения образа в искусстве был обоснован теоретически, так и процесс развоплощения происходит согласно теории. За развоплощение долго боролись, писали трактаты «Бог не скинут», доказывали, что это историческая необходимость.
Представляется курьезным, что наиболее рьяный безбожник и язычник Малевич был опознан в качестве духовного художника, а его квадратики наделили сакральным значением. По сути высказывания супрематизм являлся совершенным аналогом программе национал-социализма, однако эта жестокая программа многими воспринимается как манифест гуманизма. Авангардное – это ведь хорошее, не правда ли? Один из многочисленных последователей ubermensha Малевича, наивный художник Штейнберг, повторял за Малевичем рисование квадратов и был при этом православным неофитом – он был убежден, что рисует духовные сущности. Если бы Эдуарда Штейнберга спросили, почему он не рисует лица людей, он бы сказал, что в квадратиках ему является эманация духа и т. п. Подобные аберрации сознания характерны для нашего времени: мы принимаем все протестное – за гуманное, даже если это протест против гуманизма. Этот, почти что мистический, культ нового, ниспровергающего канон, нового жестокого и пустого, заменил знание и веру – и языческое камлание объявили духовностью.
То, что Кандинский назвал свою книгу «О духовном в искусстве», нисколько не означает, что мастер думал о духовном, подобно Августину, и принципиально отличал Град Божий от Града Земного. Речь в данном случае идет об иной духовности.
В борьбе частного против общего (казалось, что общее – непременно тоталитарное) приватизировали не только заводы; отменили коллективное сознание; прежде и раньше всего приватизировали историю и религию. Приватизированная история – это и есть язычество; приватизированная религия выразила себя через сотни сект; приватизированная духовность – это и есть абстракция. Всякий неверующий обыватель получил возможность на своей персональной жилплощади избежать детерминизма веры и непреложности заповедей: в его владении оказалась удобная, присвоенная по праву собственности, приватизированная духовность. Приватизированная духовность явила себя через абстракцию; дух был трактован как абстракция, что нелепо. Дух – есть наиболее определенное явление из всех возможных, не бывает духовности вообще. Однако именно так и захотели прочесть понятие «духовность» – как дым, как облако, как абстракцию. «Человек – это не абстракция», – говорит доктор Риэ в романе «Чума»; к этому можно добавить: и Бог тем более. Однако формула личной свободы заставляла в Боге и в человеке – видеть абстракцию. Не строгий лик Спасителя, не вмененные правила, но абстрактная духовность, распечатанная на сотни частных пользователей, подобно акциям. Это своего рода индульгенции духовности, которые мещанин приобретает, чтобы его не заподозрили в материальном интересе. Вы полагаете, что пекусь только о марже? Но вот, обратите внимание – я склонен к духовному. Никто и никогда не сумеет расшифровать это духовное послание; приватизированная духовность сделала сообщение Духа неразборчивым; было постулировано, что Дух говорит нечто свое каждому, утверждены персональные права.
Квадрат Малевича сменил икону «Спас Ярое око» – это не менее яростное сообщение, но бессодержательное; отныне иконография христианской цивилизации переписала иконостас. Современное изобразительно искусство не знает определенного высказывания – конкретные планы передоверили банкирам и генералам. Перед зрителем музеев открывается демонстрация витальной силы, стихии, явления, первичных элементов мироздания – как то характерно, например, для творчества Бойса. Это был сознательный шаг; то, что Хлебников однажды выразил строкой «Перун толкнул разгневанно Христа», то, что Малевич прокламировал в статье «Бог не скинут», то, что Клее определил как необходимость «вернуться от кроны дерева к его корням», – воплотилось на уровне эстетического критерия, точнее сказать, отменило все критерии.
Категориальное мышление в эстетике более не существует – поскольку нет общей категории прекрасного, красота более не определяет себя через благо, а общее благо – отменили. Но в отсутствие общей категории – появилось множество самодостаточных правд и автономных духовностей; так трайбализм веры изменил эстетику Запада.
Когда историк искусств, занимающийся девятнадцатым веком, пытается говорить с куратором современной выставки – выясняется, что у них нет общего понятийного словаря, словно эти люди занимаются разными дисциплинами. Изменений в эстетической парадигме ждали: на рубеже XIX—XX веков возникло ощущение тупика христианской цивилизации; о том, что старье «сбросят с парохода современности», говорили все; но масштаб перемен вообразить было трудно.
7.
Словосочетание «исторический тупик» произносится столь часто, что утратило смысл; между тем понять, что такое «исторический тупик», легко именно сегодня. Сегодня, как и сто лет назад, жизнь общества подходит к тому рубежу, за которым моральные статуты ничего не значат; дидактика не соответствует практике. Так было и прежде: передел колоний, голод, пропасть между богатыми и бедными – все это делает общественное воспитание нелепым. Невозможно преподавать юноше мораль, если выживать можно, лишь нарушая моральные заповеди. Общество потому является обществом, что объединяет граждан единой моралью и сообразно таковой растит смену поколений. Если обучение следующего поколения противоречит практике жизни – произносят слово «исторический тупик». Когда в окопах под Верденом солдат спросил историка Марка Блока: «Неужели история нас обманула?» – солдат фиксировал исторический тупик. Когда мораль и правила финансового капитализма перестают объяснять мир и не гарантируют мира, – это означает исторический тупик.
Что делать в тупике: реформировать христианство или произвести социальную революцию, то есть изменить ли характер обучения, подогнать мораль под требования реальности или изменить реальность применительно к идеалам обучения? Гораздо проще переписать учебник, нежели изменить мир: иное дело, что переписывая учебник, меняешь мир все равно. Так, в ожидании Первой мировой прежде всего сменили эстетическую парадигму, то есть убрали из искусства дидактику и человеческий образ, и массовые убийства оказались вписаны в мир, где критерий индивидуального образа отсутствовал.
Принято говорить, что художники авангарда предчувствовали бойню и казарму; но, скорее всего, процесс смены эстетической парадигмы совпадает с общим характером перемен, пресловутый Zeitgeist меняет всех людей одновременно, художников так же, как и генералов. Гораздо труднее не следовать зову Духа Времени, нежели подчиниться ему. О том, что это не было «предчувствие», но следование массовому ощущению, свидетельствует то, что Духу Времени подчинились практически все участники художественного процесса, тогда как предчувствие – явление сугубо индивидуальное. Тех, кто шел наперкор Духу Времени, – были единицы.
Сегодня в авангард рекрутируют всех подряд, миллионы необученных рядовых – мы имеем дело не с феноменом индивидуального предчувствия, но с тотальной программой воспитания масс.
Авангард лишь поначалу был группой маргиналов – стремительно авангард сделался массовым движением. Авангард лишь поначалу постулировал отказ от рынка – сегодня это непременное условие торговли. Авангард лишь поначалу декларировал равенство и социализм – быстро выяснилось, что авангард именно за неравенство и выступает. Авангард притворялся функциональным – но авангардисты никогда ничего не построили, они занимались декорациями. Авангард представлялся гуманистическим искусством – но не было ни единого авангардиста, защищавшего отечество в войнах и помогавшего слабым; авангард – это антигуманистическая деятельность. Авангард делал вид, что зовет вперед, – но авангард всегда и повсюду звал только назад, оказалось, что это жреческая, заклинательная деятельность – так учились приводить в движение миллионные толпы, так в западном обществе возрождали языческую демократию.
Мы привыкли говорить, что авангардное мышление обновило эстетику; сказать это недостаточно. Чтобы осознать масштаб перемен, надо понять, что авангард двадцатого века произвел возврат к язычеству более последовательный и глубокий, нежели тот возврат, что был осуществлен во время Ренессанса XV века.
Существенна здесь механика западной культуры: мы видим, что западная христианская цивилизация постоянно регенерирует, восстанавливает силы за счет регулярного реверсного движения – вспять к языческим истокам, затем новый шаг вперед. И в этом отношении авангард XX—XXI веков схож с Ренессансом XIII—XV веков; это возврат, осуществленный по тому же типу. Вопрос, однако, в том, что невозможно знать, насколько глубок окажется очередной возврат. Очевидно, что реверсное движение XV века было осуществлено в направлении Античности, и – коль скоро сама Античность некогда явилась питательной средой христианства – в этом смысле возвратное движение не вывело западную культуру за пределы христианской парадигмы; напротив того – данное реверсное движение не только не отменило христианскую эстетику, но усложнило ее, как бы воспроизвело причины ее возникновения и объяснило ее необходимость, привело к синтезу античности и христианства. Диалог античности и христианства, возникший в лице неоплатоников, стал результатом этого возвратного движения – и преумножил богатство христианского образа. Синтез язычества и христианства в едином образе пророка (зримо явленный в творчестве Микеланджело или в личности Плотина) оказался возможен, поскольку античность сама оперирует антропоморфным образом – то есть существовал объект, в который дух мог воплотиться. Реверсное движение необходимо культуре – набравшись сил в почве, она снова становится духовной, укрепляет дух мышцами. Проблема в том, что этот возвратно-поступательный принцип движения культуры работает не всегда – он не универсален.
В античного атлета христианский дух сумел перейти, но существенно большие трудности возникнут при попытке воплотиться в черный квадрат, в газовую горелку на пенисе, в предметы культа Озириса. Особенность современного нам «возрождения» состоит в том, что реверсное движение XX—XXI веков пошло вспять дальше, чем то сделал Ренессанс. Это уже был возврат в доантичное язычество, не антропоморфное, и даже не египетское зооморфное – но в язычество праэлементов, в геоморфные мифы силы и власти, в такое язычество, которое само породить христианство не смогло бы. И оказалось, что синтеза с таким язычеством у христианской культуры произойти уже не может.
Иными словами, возвратно-поступательный принцип отказал: горожанин уехал в отпуск в деревню, но, когда захотел вернуться домой, обнаружилось, что он забыл свой адрес. Цивилизация вернулась вспять к язычеству, набралась сил, а сызнова стать христианской не получилось.
Любопытно и другое.
Допустим, на той глубине языческого сознания, до которой опустилось мышление западной изобразительной культуры, синтез с христианской эстетикой более невозможен. Но существует нормальный процесс взросления, который можно пройти заново. Всякая человеческая жизнь начинается с завязи, отчего бы не повторить весь опыт? Всякое сырое рано или поздно можно приготовить – ребенок сначала рисует неразборчиво и говорит невнятно, но постепенно, естественным образом, он переходит к внятной речи и к ясному изображению. Художники сознательно разучились рисовать, их ввергли в детство – но ведь дети учатся. Почему бы художнику, который рисует полоски, не обучиться заново рисовать предметы? Если история вернула нас в дообразное состояние, во власть стихий и элементов, если мы сызнова вернулись в пору молодости, то можно предположить, что опытным путем искусство проделает ту же эволюцию, что уже состоялась однажды. Можно допустить, что пресытившись спонтанным и элементарным, художники заново откроют перспективу, узнают про форму, и так далее. Проходя этот путь вторично, проделают его быстрее, поскольку известны памятники искусства, есть история христианских образов. По образам, как по образцам и вехам (по маякам, если использовать образ Бодлера), можно добраться до того рубежа, с которого был произведен шаг назад, восстановить утраченное. Но естественного восстановительного процесса не происходит. В некоторых сказках взрослые люди обращаются в маленьких силой недоброго волшебства, но потом возвращаются в прежнее обличье; но тут превращение взрослого в ребенка произошло навсегда. Сырое не будет приготовлено больше никогда, оно скорее протухнет. Так проживают долгий век мастера, проводящие полоски, ставящие точки и рисующие загогулины – они умирают глубокими стариками, не сделав попытки заново восстановить некогда забытье умение рисовать. И это состояние неоювенильности считается сегодня нормальным, поскольку именно силами нового неосмысленного дикарства обслуживается мировой порядок демократии.
В современном мире существует класс посредников, своего рода жрецов, превращающих жест наивного дикаря в сакральное искусство, и жрецы заинтересованы в том, чтобы период неодетства длился долго, всю отпущенную жизнь художника. Иерархии, присущей перспективе и образной структуре, – в новом искусстве более нет, однако появилась иная иерархия – старшинство жреца в бессловесном племени. Жрец держит племя в плену вечной ювенильности, заинтересованный в том, чтобы взросления более не происходило. Жрец объясняет дикарям, что их неумение – суть выражение свободы, это необходимое обществу неумение. Так народы Африки удерживаются в дикости – ничто не препятствует тому, чтобы лишние деньги, которые имеются у цивилизованной части планеты, вложить в развитие Африки. Если взросления Африки не происходит, надо признать, что дикость в данном регионе приветствуется. Так же и с искусством: если автор перформанса с газовой горелкой не изменил свой брутальный стиль за сорок лет, если прочие авторы продолжают привязывать к гениталиям предметы, следует допустить, в культуре существует система отношений, сродни колониальной, которая сознательно удерживает художников в состоянии дикарей.
Самый тип творца поменялся. На смену ренессансному художнику, автору картин и ученому, пришел тот, кто сам есть часть произведения, сам – экспонент выставок. Современное искусство не создает образов еще и потому, что дикарь в руках жреца превращается в предмет культа. Его протест против цивилизации организован самой цивилизацией, за его ручное дикарство ему полагается плата, дикарь знает, что его услуги обслуживают не дикое общество, но прогрессивное. Современный дикарь выращен как гусь, для получения от него печенки – салонное дикарство культивируют, причем сравнение с гусем потому важно, что «дикарь», как и гусь, – обречен. Судьба дикаря печальна – он становится заложником нездорового образа жизни, навязанного колониальной администрацией, – но таковы условия этнографического творчества: во благо метрополии-цивилизации художник приговорен быть вечно молодым туземцем, приговорен быть дегенератом.
Именно дегенеративные качества новой эстетики – залог успешного управления языческой империей.
В этом смысле можно говорить о том, что так называемое «дегенеративное искусство» взяло наконец реванш над античной парадигмой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































