Текст книги "Стратегия Левиафана"
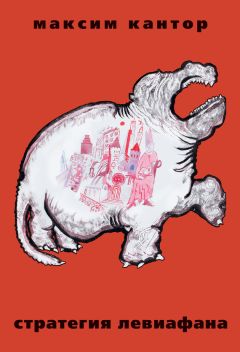
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
5.
Закономерно, что в корпоративном государстве, при наличии корпоративного капитализма – возникли корпорации мастеров искусств. Литераторы и художники разделились, как прежде, во времена Советской власти, – по цехам и секциям, возникли профессиональные связи и табели о рангах. Появились, как в те самые времена: литературные салоны, журнальные иерархи, издательские авторитеты. Литература русского экзистенциализма создавалась любителями – любителем был и Толстой. Но сейчас наступила пора профессионалов, воспитанников литинститутов и питомцев объединений, газетных громовержцев, новых Фадеевых и новых Алексеев Толстых, новых Демьянов и новых Софроновых.
И – непременный компонент литературного салона: у литераторов возникла салонная гражданская позиция.
Как и нужная публикация, и нужная премия, салонная гражданская позиция есть необходимый атрибут профессионала. Гражданская позиция не связана с обычными гражданами, но обозначает особую писательскую миссию. Профессия литератора допускает отдельное существование гражданственной позиции и отдельное существование рыночной продукции. Общий балл должен соответствовать образцам, но гражданская позиция существует не в литературном образе, а как бы довеском. Можно писать бульварную литературу, а гражданскую позицию заработать на трибуне – дослать сухим пайком. Это здравый подход, он совершенно не соответствует критериям экзистенциализма – ну, так ведь с общей моралью было покончено.
Теперь – мораль корпоративная, цеховая, и литература тоже корпоративная. Националисты – отдельно, постмодернисты – отдельно, бытописатели отдельно, и они друг другу не мешают, даже и не спорят. Встречаясь на митингах, они не ссорятся, поскольку гражданские позиции, как и премии, не связаны с жизнью и творчеством.
Худшее, что может сделать литератор, это нарушить корпоративную мораль – вот Захар Прилепин попытался спросить нечто некондиционное, и ему теперь долго придется объяснять, что он имел в виду, чтобы безболезненно встроиться в ряды салона.
6.
Русское общество каким было, таким и осталось – разве что феодалы-богачи появились, вот и все. По-прежнему рыбачат в Баренцевом море рыбаки; алкаши по-прежнему едут из Москвы в Петушки, считая глотки бормотухи; как раньше, зэки топчут зону – не проштрафившиеся нефтяники, а обычные жалкие люди. И жилье дорогое, и пенсии маленькие. И электричество с водоснабжением подорожало. И бедных много. «Я поллитру куплю, валидолу куплю, двести сыра и двести любительской», – как Галич пел. Реальность российская, она от века такова. Только вот роль интеллигента поменялась – интеллигенту теперь кажется, что его миссия в том, чтобы улететь к прогрессу. Описаний нищеты и бесправия, войн и горя – в современной русской литературе исчезающе мало. Не то чтобы этих явлений не стало, но пишут о них крайне редко и коротко. Некоторое время писали про непростые бандитские будни, но про среднеарифметического человека с небольшой пенсией или про жителя Мазари-Шарифа, в которого последовательно стреляли русские, англичане и американцы, – не напишут. И про баб, слобожан, учащихся и слесарей в электричке не напишут тоже. И вот странность: исчезли книжки про детей.
Возможно, это разумная позиция. И писательский профессионализм выражается, в частности, в том, чтобы даже за свободу народа бороться отдельно от народа. В конце концов, одно из достижений ХХ века – это построение демократии помимо народа.
У писателей много профессиональных приемов в передаче быта и характеров. Иногда получается написать смешно и едко, иногда пафосно. Многие сегодня говорят о том, что возникло новое поколение российских писателей – расцвет литературы. Так и есть, пишут много. Только вот героев создать больше не получается. Бандиты и барыги, характеры гротескные, удаются, а вот Сирано и Пьеров больше в литературе нет. Любительства нет – Пьер ведь был интеллигент-любитель.
Экзистенциализм – это гуманизм, сказал Сартр однажды. Сартр имел в виду простейшую вещь. Абстрактной свободы не бывает: чтобы быть свободным, надо разделить жизнь других. Разделить не корпоративную интригу литераторов, не миссию избранных, не мораль цеха – но жизнь так называемой черни. У Сартра есть удивительные слова, отрицающие уникальность писателя и одновременно превозносящие его труд: «Ты стоишь всех – но тебя стоит любой».
Это аксиома искусства. Писатель ровно ничем не интересен сверх того, чем интересен каждый человек. Но если он может выразить нечто – пусть это будет понимание боли другого, иной задачи у писателя нет. «Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других как бы им в даренье» – так Пастернак поддержал мысль Сартра.
Другого способа для создания гуманистической литературы не существует.
Перспективы авангарда
1.
Вы думаете, на холсте случайно наляпали? Нет, нарочно.
Есть глобальное противоречие в истории человечества, противоречие, которое здравый ум вместить не может: почему, когда наука была слепа, художники изображали мир детально, но когда научный прогресс достиг высот, художники стали передавать мир кляксами, точно в каменном веке? Почему знания человечества развиваются обратно пропорционально способности к самосознанию? Мы знаем, как выглядел человек пятнадцатого века, – есть сотни тысяч портретов; но мы не знаем, как выглядит человек двадцать первого века, – вместо изображения автор оставил кляксу. Никто не будет отрицать, что цивилизация развивается в лучшую сторону: мы побеждаем болезни и срок жизни увеличился; неужели отсутствие самосознания – необходимо для прогресса? Мы успокаиваем себя: современное дикарство показное, придумано для забавы, чтобы оттенить прогресс.
Выражаясь в терминах Леви-Стросса «сырое» и «приготовленное», современная культура тщательно готовит блюдо, которое имитирует сырую пищу. Искусство лучших кулинаров состоит в том, чтобы создать иллюзию натурального, не потревоженного кухней продукта.
Культура требует новизны; яблоко с древа познания обязано выглядеть свежим. Имитация первичности – необходимое условие рынка. Однако сегодняшнее «сырое» – вовсе не свежий продукт. Сегодняшнее «сырое» в культуре – не произведение наивной души, не свидетельство искренности. Напротив.
«Сырое» в культуре готовят изощренно, «сырое» сегодняшнего дня – свидетельствует о пресыщенных запросах цивилизации, об изысканном вкусе, который алчет небывалого. Так возникло своего рода искусственное дикарство, сырое «второй свежести». Новое дикарство специально культивируют – для того, чтобы взбодрить цивилизацию.
Слава западной цивилизации в ее неуклонной молодости: подобно Афродите, всякий день выходящей из морской пены невинной, цивилизация Запада не чувствует (или делает вид, что не чувствует) груза лет. Войны, жертвы, история, опыт – все это не считается. Западная цивилизация не может позволить себе стареть. Пусть отсталые этносы живут древними традициями, но цивилизация Запада ежегодно проводит сотни косметических процедур: фестивали, форумы, вернисажи, утверждая вечную молодость. Цивилизация молода и следовательно культура тоже должна быть молодой всегда; хвост традиции отбрасывают. Традициями занимаются архивисты, а молодая культура идет вперед.
Пароль современного мира: актуальность! Этот пароль повторяют друг другу кураторы, колумнисты, шоумены, художники-новаторы. Вы любите актуальное искусство? Ну еще бы, мы же за прогресс! Термин «актуальность» может ввести в заблуждение. Иной решит, что фигуранты художественного процесса желают быть в курсе политических событий, ищут ответ на злобу дня. Мир сотрясают мятежи голодных, идут войны – но это не считается «актуальным». Политическая составляющая давно ушла из современного искусства: ангажированность Сартра или Гойи сегодня не в чести, никто не озабочен страждущими и униженными. Нынешняя актуальность отнюдь не в этом; актуально для западной культуры быть вечно молодой, а значит, актуально то, что витально. Актуальность – есть вечная оживленность, вечная невинность Афродиты; девственность всякое утро актуальна – а что было прошлой ночью, никто не помнит.
В этом смысле «сырое» всегда востребовано культурой, которая давно уже питается только «приготовленным».
Возможно ли создать культивированное «сырое»? – такого вопроса Леви-Стросс не ставил, но это основной вопрос культуры христианского мира сегодня. Христианская цивилизация не всегда может договориться сама с собой: «сырое» и натуральное нужно цивилизации для здоровья; но нужно ли «сырое» – христианской цивилизации? Таким образом, вопрос можно сформулировать иначе: возможно ли постхристианское язычество, то есть, может ли христианская цивилизация существовать отдельно – без традиции христианства? И какое будет искусство у такой цивилизации?
2.
Собственно, ответ уже дан; просто неизвестно, считать ли то, что артисты производят сегодня – искусством, или это принципиально новое занятие. Есть такие виды деятельности, которые исчезли за ненадобностью – например, уже нет трубочистов; вот и живописцев скоро совсем не будет. Изобразительное искусство Запада вернулось к дохристианской эстетике, и живопись не нужна. Музеи современного искусства ищут новые выразительные средства, традиция прервана. Микеланджело учился у Гирландайо, Рубенс следовал Микеланджело, Делакруа брал Рубенса за образец – до определенного момента связь поколений была очевидной. Сын перенимал навыки отца – но неожиданно сын отказался от наследства.
История пластических искусств Запада проделала путь, который кажется нелепым: после столетних усилий искусство вернулось к отправной точке, к языческому знаку. А как называть автора знака – мы не знаем. Художник ли он? Наследует ли он Леонардо?
Античность практически не знала перспективы, это было искусство первого плана и локальных цветов. Античный образ существует на площадях и на фризах храмов – среди фигур первого плана. Выстроенные в одной плоскости герои не знают дали за спиной, они утверждают себя здесь. Средние века выстроили зримый мир в системе обратной перспективы, утвердив иерархию ценностей от горнего к дольнему – в этой протяженности и существовало сознание художника. Затем обратную перспективу икон сменила прямая перспектива картин – следствие философии Возрождения; так произошло потому, что точкой схода вместо Бога сделался человек. Протяженность бытия оказалась словно бы развернутой в противоположную сторону, но оттого не стала менее сложной. Просто иерархия небесная была заменена иерархией земной, но последняя выстраивалась не менее тщательно. Эта тщательность восхождения по ступеням, иерархия знания, последовательность понимания – и есть история пластического искусства Запада.
Леонардо часто повторял дорогую ему мысль: «Моделировка – душа живописи»; имелась в виду работа с полутонами, с оттенками, с нюансами цвета; то есть подразумевалась такая работа, которая создает из локального цвета предмета его пространственную характеристику. Драма личности состоится в столкновении со средой, в погружении субъекта в пространство; онтологическое бытие предмета можно осознать через его отношение к другим предметам и к воздуху, их окружающему; промежуток между двумя объектами не менее интересен и важен, нежели сами эти объекты – к такой мысли пришла эстетика Возрождения. То было последовательное утверждение онтологии, шаг за шагом, двигаясь к горизонту, западная эстетика утверждала осмысленное бытие – через перспективу. Бесконечно протяженное пространство Ренессанса и Барокко – суть метафора западной истории. Усложняя локальный цвет (т. е. моделируя, по Леонардо), погружая предмет в среду, художник Возрождения (и следом за ним барочный мастер) проделывал точно то же, что делал со своими персонажами Шекспир, приводя героев в конфликт с временем. От геометричности средневековых форм, от линеарного движения готики – эстетика Запада двинулась дальше: в многомерное пространство. Высказывание о мире усложнилось: «сфумато» Леонардо, многоплановость Учелло, «тенеброзо» (т. е. светотень) эпохи барокко, «валера» (т. е. тональное звучание цвета) девятнадцатого века – это настоятельная потребность передать сложные отношения субъекта с пространством, осознать свое бытие по отношению к бытию других. Моделируя, Леонардо словно взвешивал бытие каждого отдельно предмета по отношению к протяженной жизни всех. Можно сказать, что искусство западного мира развивалось, выясняя именно личное отношение к общей истории.
Это и есть школа западного рисования, пластика неразрывно связана с западной философией и религией; иначе и быть не может: идея (как мы знаем со времен Платона) ищет себя через форму. Когда к платоновскому положению присовокупился догмат христианской веры о воплощении духа, о неслиянной нераздельности – представить себе, что пластические искусства развиваются отдельно от философии, невозможно. Было бы неверно рассматривать средневековую пластику вне соборных диспутов, вне полемики Дунса Скотта и Фомы Аквинского, Бонавентуры, Альберта Великого, Оккама. Это утверждение банально, но его не грех повторить: отличия Чимабуэ от Мазаччо, делла Франческа от Мантеньи, флорентийской школы от феррарской, отличия, которые фиксирует (если придирчиво смотрит) глаз, – обусловлены различием концепций, отличным мировоззрением. Никто не решится сказать, что Оккам и Фома Аквинский думали одинаково о мире – они со всей очевидностью сказали противоположное; но точно так же и в изобразительном искусстве – всякий настоящий мастер вступал в спор об истории; вся история искусств, собственно, есть бесконечно длящийся диалог об истории.
Тем удивительнее, что в наши дни западное искусство отказалось от перспективы вовсе – и долгий диспут прервали на полуслове. Вообразите себе диалог «Пир», обрывающийся сразу после речи Аристофана, еще до того, как заговорили Агафон и Сократ. Мы никогда не узнаем, почему Эрот владеет благом и что такое – благо. Простая констатация случившегося в истории искусств звучит нелепо: как так – отказались от перспективы? Как так – отказались от антропоморфного образа? Цивилизация не может отказаться сама от себя, историю нельзя отменить. Однако это произошло; одновременно с декларациями (их произносят, от них отказываются, затем их произносят вновь) о «конце истории» в изобразительном искусстве произошел возврат к первому плану как единственному содержанию изображения. Истории вдруг не стало – и немедленно пространство сплющилось. Объект победил пространство, отменил даль, перечеркнул существование другого предмета.
Можно сказать, что искусство «первого плана» роднит современную эстетику с эстетикой античной, однако утратой перспективы сходство и ограничивается. Причем античность перспективу как раз искала, и настойчиво искала: согласно легенде, состязание Апеллеса и Перейка породило перспективу (Перейк провел на стене дома Апеллеса красную линию, показывая, что он здесь был, Апеллес провел параллельно коричневую линию, зрительно удаленную от красной, показывая, что его в доме не было) – но стараниями десятков кружков и школ двадцатого века открытие Апеллеса признали никчемным. Перспектива более не нужна – куда еще стремиться обществу, когда все уже есть сейчас? Искусство западного мира ушло от проблемы протяженности бытия, от онтологии пространства; тем самым ушло от образа, который создавался и ткался внутри среды и вопреки среде. Античность, а вслед за ней все развитие изобразительного искусства, шла от знака – к образу, современное искусство Запада вернулось к знаку, не знающему сомнений и референций, к тому знаку, который отменяет иерархию образа.
3.
Предмет первого плана – обратная перспектива – прямая перспектива – возвращение к первому плану; эта динамика показывает эволюцию западной культуры в целом. Если перспектива – суть отражение иерархии ценностей, то современная эстетика упростила иерархию до простейшей схемы, вероятно, оставив лишь наиболее важное. Если перспектива – это метафора истории, то современное искусство остановило историю, утвердило, что достигнуто акме развития. Несмотря на то, что современная эстетика осведомлена о сложности мира, приоритетом объявлено упрощение. Разумеется, упрощение мнимое; это лишь игра в ювенильность – буквально детство человечеству вернуть не дано, показная юность – замаскированное старение. Развитие науки, усложнение знаний – это происходило параллельно с упрощением искусства, одновременно с тем, что пространство вокруг образа сжималось и, наконец, сплющилось.
Историку искусства может быть обидно, но это факт: от многовековой традиции усложнения – отказались ради спонтанной простоты, тщательно «приготовленное» «сырое» стало результатом поэтапного возврата к витальному язычеству.
В цивилизации, которая продолжает себя именовать «христианской цивилизацией», потребовалось редуцировать значение христианства ради выживания самой западной цивилизации, ради ее, так сказать, конкурентоспособности.
О том, что христианство – балласт, предупреждали многие; Ницше об этом говорил громко. Однако настоятельная потребность редуцировать миссионерскую тему в культуре возникла уже после войны, когда возникла необходимость деколонизации. Искусственное язычество, новое дикарство – есть выбранная цивилизацией роль по отношению к былым колониям. Некогда дикарей пытались научить ремеслам и искусствам, показать им, что лучше не быть дикарями, не заниматься каннибализмом; их даже пытались учить живописи, пытались кормить вареным мясом, иногда лечили – хотя чаще использовали для медицинских опытов. В ту пору западное искусство было дидактическим: образ и идеал обязаны были дикаря воспитать. То было время простых и внятных отношений с колониями, которые изменились; изменился и эстетический код рабовладельческого общества. Теперь это общество демократическое – и искусство у него соответственное; это искусство равных – в том числе равных с дикарями.
Решалась важная задача: искали точную интонацию в диалоге с Третьим миром, который декларировали равным себе, хотя буквально равенства, конечно, никто в виду не имел. Некогда люди Запада использовали дикарей беззастенчиво, а новая идеология требует уравнять колонизированные земли в правах. Можно было ожидать, что дикарей приблизят к цивилизации – однако границу с Третьим миром маскировали иначе: сами притворились дикарями, таким образом изжили комплекс стыда по отношению к обездоленным и решили проблему обучения неграмотных. Проблема чужого «сырого», которое надо уважать даже по отношению к своему «приготовленному», решилась радикально – люди Запада создали postfactum свои этнические поделки, которые предъявили миру как ценность. Прежде прошлое Запада измерялось раскопками Древнего Рима, античными захоронениями – но задним числом достроили ту первозданную дикость, которую Рим уже не помнил. Это достроенное языческое прошлое, это искусственное дикарство ликвидировало необходимое сочувствие к Третьему миру, положенное сострадание дикарям, обязательное обучение – с какой стати люди Запада должны умиляться чужим первобытным чувствам, если существует свой собственный каменный век, не менее первобытный, вечно актуальный? Бремя белых приятно нести, когда разрешено бить туземцев по пяткам, но если требуется уступать туземцам место в трамвае, то на кой ляд такое бремя белых сдалось? Искусственное дикарство избавило христианскую цивилизацию от невыгодной сегодня роли миссионера – ответственность перед «малыми сими» только мешает; нам нечему научить дикарей, мы потягаемся с ними в дикости, отчего же испытывать сантименты к униженным? Некогда Брехт мрачно пошутил: «Самое лучшее, что можно сделать с мирным населением во время войны, – это сбросить его в тыл к противнику, пускай враги сами с ним валандаются», и ровно та же логика возобладала в отношении к дикарям. Вместо того чтобы обучать диких и нести груз заботы, проще собственное население обратить в дикарей – и пусть уж эти дикари сами как-то меж собой договариваются. Современному художнику Запада проще найти точки соприкосновения с индейцем и полинезийским туземцем, нежели с Микеланджело; но это отнюдь не значит, что западный банкир считает себя родственником туземного вождя. Вот он-то как раз своей прямой родословной от Мидаса, Жака Кера и Якоба Фуггера не прерывал.
Разумеется, дикость нового образца, fauve третьей волны, не затронула своими разрушительными акциями работу алмазных копей, нефтяных промыслов и банков. Имитация дикости в культуре не коснулась финансового капитализма; деньги продолжают печатать, и колониальная администрация как правила, так и правит. Пришлось редуцировать – ради новой геополитической концепции – дидактическую роль искусства, убрать антропоморфный образ, притвориться более дикими – но это не коснулось правящего класса.
Правда, в комнатах богатых домов, где прежде висели портреты предков, нынче находятся изображения непонятных знаков – загогулин, квадратов, полосок. Нет, вы не в гостях у ирокеза, вы не в доме ацтека, вы в гостиной западного буржуя, который сегодня делает вид, что он чувствует так же первозданно, как ирокез. Но он отнюдь не забыл о своих преимуществах перед ирокезами.
Вам объяснят, что наличие языческих мотивов свидетельствует о секуляризации исторического сознания; антропоморфный образ и христианскую дидактику изъяли: это не передает более динамику событий; из искусства ушло изображение лица – вместо людей изображают порыв. «В будущее возьмут не всех» – это любимый слоган новаторов двадцатого века; Христос, например, считал, что в жизнь вечную возьмут всех, но в этом пункте современная цивилизация склонна придерживаться реалистического взгляда на вещи: и в жизни сегодняшней приняты не все, и в будущее всех не возьмут, не резиновое. Первым, что изъяли из будущего, – оказался христианский образ. Насколько христианская цивилизация осталась христианской в отсутствие образа, время покажет – сегодня мы можем констатировать лишь то, что для успешного функционирования западной эстетике потребовалось стать языческой.
Превращение собственных художников в новых дикарей цивилизации выгодно и по другой причине – искусство тем самым выходит на периферию общественной жизни, участия в социальных решениях не принимает. Управлять дикарем значительно проще, надо лишь дать ему возможность, что называется, «самовыражаться». Сегодня этой приманкой, точно бусами искусственного жемчуга, одурачено большинство из тех, кто именует себя авангардистами: нам разрешено плясать голыми, мы можем испражняться в музеях, мы кидаемся экскрементами – следовательно, мы свободны. Нет, наоборот: это свидетельство того, что вы – рабы, и вам не разрешено думать о главном. Вы выброшены из политики, вас никто не спросит о мире, вам нечего сказать о вере, вы немы, когда речь идет об знании, – и вы думаете, что выражаете себя, когда скачете нагишом? Нет, вы выражаете пустоту и рабство.
Есть и третий аспект проблемы удобной дикости: новая культивированная дикость – это вакцина против революций. Западная эстетика сознательно вакцинировала себя варварством, чтобы избежать революции – то есть того большого «варварства», которого цивилизация всегда опасается. Длить христианскую дидактику оказалось опрометчиво: мало ли куда это заведет? Но язычество гарантирует покой. Никакое социальное изменение, направленное к улучшению положения униженных, не найдет сочувствия в тех, кому разрешено сегодня паясничать. Для чего помогать обездоленным? Глядите на меня, говорит новый самодовольный дикарь, я свободно «самовыражаюсь», мне никто не запретил; пусть и они, так называемые нищие, тоже самовыражаются – протестуют, гремят в погремушки. Хотите равенства? Пляшите! У нас – свобода!
Вакцина протеста – то есть искусственно введенный в общество минимальный протест, редуцированный до кривлянья социализм – идеально соответствует новому типу угнетения. Паяц пляшет в женском платье, дурак испражняется в музее – какое отношение это имеет к миллионам голодных? Но вам дадут понять, что ужимки дикарей суть концентрат свободы, а значит, наше общество отнюдь не плохо. О каком угнетении можно говорить, если клоун свободно кривляется? Польза от искусственно внедренного язычества – огромна; расходы минимальны; поступиться христианской дидактикой имело смысл ради торжества цивилизации. Мы становимся дикими, чтобы двигаться к прогрессу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































