Текст книги "Стратегия Левиафана"
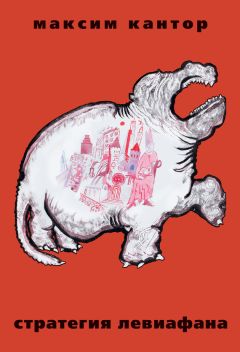
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 33 страниц)
4. Эрик Хобсбаум
Век Эрика Хобсбаума оказался длиннее, чем исторический ХХ век.
Хобсбауму было 95, а «короткому двадцатому веку» он насчитал всего 75 лет. Историки определяют века по решающим вехам, разделяющим время, и по радикальным тенденциям. Хобсбаум полагал, что ХХ век длился с 1914 года, с начала Мировой войны, и до падения Берлинской стены – до 1989-го; а затем началось иное время.
Двадцатый век Хобсбаум называл «веком крайностей»: он считал, что теории и проекты, которыми был богат ХIХ век, в двадцатом пытались реализовать – но фактически вопросы, поставленные веком теоретическим, т. е. веком ХIХ, разрешены не были. Проблемы, сформулированные ХIХ веком, в ХХ лишь усугубились: практический ХХ век давал поспешные и экстремальные ответы. Часто решения глобальных проблем, принятые в ХХ веке, были спекулятивными, заведомо фальшивыми – принимали их ради короткого торжества небольшой группы людей. Устами теоретиков ХIХ века – человечество сформулировало радикальные вопросы бытия; а руками практиков ХХ века были построены неработающие механизмы, объявленные вечными двигателями истории. Вечные двигатели ломались быстро – на смену им столь же поспешно строили новые вечные двигатели, из обломков ржавых деталей. Это был беспримерно кровавый век, решения вопросов ХIХ не давший.
А вопросы никуда не исчезли – как были, так и есть.
Эрик Хобсбаум пережил несколько эпох внутри «короткого ХХ века»: эпоху социалистических революций и фашизма; эпоху холодной войны и надежды на общую демократию; эпоху попытки глобализации и разочарования в универсальной демократии; эпоху сакрализации рынка и нового подъема национального сознания в ответ на эту новую религию; эпоху локальных войн, предпринятых ради того, чтобы избежать войны большой; эпоху краткой победы социализма – и нового торжества капитализма.
Мы вступили – по Хобсбауму – в ХХI век еще в 90-м году, сказать, каким новый век будет – рано, но то, что происходит сегодня, оптимизма не внушает. В некоторых некрологах я прочитал, что Хобсбаум приветствовал сегодняшние революции на Востоке, считал их – весной и обновлением. Это не так. Хобсбаум смотрел на восточные революции с тревогой. Когда его пригласили принять участие в Оксфордском симпозиуме по поводу протестного движения на Востоке, Эрик ответил отказом. Сказал, что он не специалист, предложил судить о происходящем с осторожностью, напомнил, что с передела Востока начинаются европейские конфликты – ведущие к глобальному переделу мира и войне.
По поводу современного кризиса он высказался определенно: настоящий кризис не столько экономический – сколько идеологический; это тотальный кризис понимания западной цивилизации, ее самоидентификации. Вне осознания культурной, идеологической природы данного кризиса – нет его разрешения.
Это было сказано в частной домашней беседе, в доме в Хемпстеде, впрочем – зафиксировано на кинопленке: я пригласил оператора снять беседу об истории ХХ века.
Вообще-то, Хобсбаум считал себя историком ХIХ века – но, чтобы написать о нем, пришлось написать о семнадцатом и восемнадцатом веках, а затем написать о веке двадцатом: Хобсбаум не был узким специалистом, он хотел понять, как вообще устроена европейская история. Как он любил повторять: факт трудно рассматривать вне контекста последующих двухсот лет.
Историю нельзя понять, судя по фрагментам и эпизодам, – фрагментарное, осколочное сознание присуще идеологам, как раз идеологии такое дискретное сознание нужно – идеолог внедряет новейшее и правильное толкование событий. Авторы теорий, основанных на «обнаруженных секретных протоколах», – идеологи, но идеологию часто выдают за историческую правду. К истории такой подход отношения не имеет принципиально: история – это совсем другое. Надо сказать, что противоречивых фактов в человеческой истории – предостаточно; можно расположить их в произвольном порядке, можно выбирать те факты, которые устраивают идеологию. Как выражался сам Хобсбаум, говоря о Французской революции: «Можно с помощью архивов доказать, что в период между 1730-м и 1830-м никаких особых изменений не произошло, однако мы ничего не узнаем об истории мира после 1789 года, если не поймем людей того времени. Естественно, мы судим о прошлом, применимо к настоящему. Но люди, которые используют только такой подход, будут фальсифицировать историю как прошлых, так и нынешних времен».
История – это долгая длинная река, на берега которой намыто течением много противоречивых фактов; перебирая эти факты и систематизируя их – историки выносят суждения о течении реки. Но для того, чтобы вынести суждение, требуется собрать очень много фактов и пройти вдоль всего берега. Это долгая кропотливая работа. Так и слов в словаре имеется много: важно уметь слова компоновать – иногда получается Евангелие, иногда – Майн Кампф. А слова используют – те же самые. Иными словами, существенна цель собирания фактов, а цель формируется общей культурой человека. Именно ответственностью перед всем процессом истории и перед людьми, ученый отличается от политического доктринера.
Он был оптимист: полагал, что сила разума и совести преодолеет все; однако, он был реалист – видел, что победа разума произойдет не завтра. Видимо, собственная долгая жизнь убедила Хобсбаума в том, что человечество сумеет переждать и победит, он считал, что человеческие ресурсы – неисчерпаемы. Хобсбаум обладал поразительной чертой характера: говоря о катаклизмах и находя точные слова для определения катастроф, он переживал душевный подъем; слушатель мог прийти в ужас от того, что излагает ученый – а сам ученый радовался: он был уверен, что, объясняя зло, он его побеждает. Важно – понять, важно – найти слова, важно – определить, как явление устроено; дальше будет легче.
Это упорство убеждения, несгибаемость веры в предназначение человека к свободе и равенству, отрицание угнетения – сформировали концепцию Хобсбаума-историка.
Помните, в детективах Агаты Кристи сыщик Пуаро излагает свое кредо: «Я не одобряю убийства». Вероятно, Хобсбаум мог бы сказать: «Я не одобряю угнетения человека».
Эрик Хобсбаум – был историком-марксистом и антифашистом; эта фраза требует пояснения. Быть историком-марксистом в том мире, в котором ценности марксизма потерпели поражение, – это весьма курьезная позиция.
Не хуже прочих (а вероятно и лучше, поскольку Хобсбаум был академическим историком) ученый знал о том, что международного коммунистического движения более не существует. По выражению самого Хобсбаума, «ввод войск в Чехословакию стал последним гвоздем, забитым в гроб пролетарского интернационализма». Он прожил долгую жизнь, на его глазах Коммунистический Интернационал, который начал разрушать еще Сталин, вовсе исчез, а с ним исчезло социалистическое братство трудящихся.
Однако, если революционная традиция Октября себя исчерпала – а многие полагают, что исчерпала себя и якобинская традиция 1793 года, – то породившие ее обстоятельства, то есть социальная и политическая нестабильность, никуда не делись. Вулканическая активность продолжается, ее природа и причины, породившие ее, не изменились.
Излишне говорить, что Хобсбаум поддержал восстание в Венгрии и Пражскую весну, осуждал сталинизм и практику советской власти. Он писал и о том, что классический марксистский инструментарий исторического анализа – классы и их борьба – не пригоден в то время, когда рабочий класс мимикрирует в работников интеллектуального труда (впрочем, перед смертью об этом писал и сам Маркс). Более того, Хобсбаум с совершенной трезвостью отмечал, что написание марксистского Манифеста приходится на время роста капиталистической активности, а вовсе не спада. Начиная от 1848 года капитализм только начинает развиваться как историческая сила – впереди его золотой век.
Однако его, как историка, интересует иное.
«Объяснения требует другое: откуда, несмотря на слабое развитие промышленного капитализма, могли вообще взяться люди, всерьез относящиеся к идее о том, что политическая борьба во Франции, а скорее всего и в других странах, примет характер классовой борьбы, и что коммунизм как движение будет представлять опасность для буржуазного общества и буржуазное общество будет его бояться. А такие люди нашлись, и в их число входили далеко не один-два юных энтузиаста».
Иными словами: встретившись с идеей, охватившей миллионы умов, ученый не отмахнулся от нее, как от заразного заболевания, но посчитал необходимым ее объяснить.
Хобсбаум, коротко говоря, не мог принять мораль описанного Вольтером философа Панглоса «все к лучшему в этом лучшем из миров» – Хобсбаум, академический ученый, фиксировал, что деятельность вулканической породы продолжается, и благоденствие мира – лишь показное.
Благостный опыт сегодняшнего дня объясняет многое, но не все. Удачливый торговец холодильниками как-то втолковывал мне, что социализм и коммунизм – это проповедь для идиотов; впрочем, у меня сложилось впечатление, что если бы торговля холодильниками шла менее успешно, то убеждения спекулянта сложились бы иначе. Поскольку Хобсбаум основывал свои убеждения не на марже от продажи холодильников, но на изучении истории человечества, он пришел к выводу, что сегодняшнее состояние полного торжества принципов капитализма и рынка – краткий эпизод в общей истории.
Когда разразился кризис, подтверждающий его тезисы, Хобсбаум не обрадовался, как можно бы предположить, – но сильно встревожился.
Кризис он предсказывал давно: в книге «Короткий двадцатый век» имеется фраза о том, что наступила пора нестабильности, и современное разбалансированное состояние приведет к смене многих (если не всех) государственных устройств через пятнадцать лет. Фраза эта смотрелась дико в ту пору, когда границы только что поменяли: объединили Германию, развалили Советский Союз, перекроили Балканы. Чего же еще менять – вот как славно все устроилось: живи и радуйся. Однако, как это обычно бывает с крупными историками, Эрик Хобсбаум лишь указал направление течения реки – и в направлении он не ошибся.
Он успел уже написать о том, что европейская западная цивилизация находится в фазе упадка (любопытна, в частности, едкая фраза о смещении столицы искусств из Парижа в Нью Йорк: «Правда, теперь центр искусства обозначает местонахождение центрального рынка, а вовсе не то место, где приходит вдохновение»). Он уже написал о том, что глобализация и насаждение демократии вооруженной рукой – неизбежно провоцируют национальный ответ. Он писал и о том, что сакрализация рынка вызывает ответную реакцию: возрождение религиозного сознания в тех регионах, где вера в рынок вменяется как альтернатива традиционным верованиям. Он писал о кризисе института принятия политических решений: в демократических государствах принятие решений, связанных с судьбой народа, выведено из-под контроля электората. Он писал о локальных войнах и протестном движении народов третьего мира, о локальных военных диктатурах, которые используют риторику марксизма, и – хотя историку ясно, что это не имеет отношения к марксистской теории – ясно, что протест копит силу. Он писал о том, что союз либеральной демократии и рыночного капитализма – образует неуправляемую центробежную силу.
Упоение победой капитализма над социализмом прошло в мире сравнительно быстро. Когда два борца перетягивают канат и один вырывает канат из руки партнера, – он и сам теряет равновесие. А что происходит в мире, потерявшем опору, достаточно хорошо известно историкам – особенно историкам, описавшим «век крайностей».
Хобсбаум с осторожностью подбирал слова, он был академическим ученым и не взвешенного эпитета позволить себе не мог. Он видел, что в качестве реакции на союз либеральной демократии и глобального рынка поднимается традиционалистское, национальное сознание. Хобсбаум не употреблял для обозначения этого нового компонента действительности слова «фашизм», хотя в частной беседе и мог сказать так. Он, разумеется, следил за риторикой неофашизма и логикой национального протеста – но не считал, что буквальное повторение фашизма ХХ века возможно теперь.
Хобсбаум выражался иначе. Он считал, что тот недолговечный военный союз западной демократии и социалистической доктрины, который был заключен в сороковые годы для противостояния фашизму, – есть кульминационный пункт истории ХХ века. В этом союзе подчеркивается, что и западная демократия, и восточноевропейский социализм – берут начало от идей Просвещения, от фундаментальных положений свободного развития личности. Сколь бы не был искажен идеал в ходе его прагматического использования, но сама мысль от этого своего значения не утрачивает. И в тех условиях, когда выработка лавы вулканом продолжается, данная мысль по-прежнему необходима. Этот недолговечный союз, как исторический идеал, для развития послевоенного Запада и послевоенной Восточной Европы – был необходим: он остается как обещание, как возможный прообраз будущего. В ходе политических баталий, холодной войны и соревнования систем – данный союз не только не пригодился, но впоследствии отрицался был объявлен ситуативным.
Стараниями идеологов (отнюдь не историков), была пересмотрена роль России в войне, коммунизм сравнили с фашизмом, а идею западной демократии противопоставили идее социализма, зато – постепенно и аккуратно, но неумолимо, пошел процесс вторичного выведения фашизма на историческую орбиту. Хобсбаум говорил на этот счет крайне определенно: да, в практике диктатур гитлеризма и сталинизма, нацизма и большевизма – как и вообще во всяких тотальных диктатурах – есть много общих черт. Исторически эти режимы влияли друг на друга, отражались друг в друге. Однако влияние, оказанное коммунистической идеологией на мир, не ограничивалось провокацией фашизма; и распространение нацистской идеологии в мире не ограничивалось влиянием на Сталина, истребившего интернационал. Приравнять коммунистический идеал, т. е. общество равенства, – к идеалу нацизма, т. е. братству высших в мире неравенства, – есть историческая нелепость. Когда такое уравнение производят, то сознательно устраняют главную скрепу, удерживавшую фашизм в узде: подвергается сомнению исторический идеал Просвещения – интернациональная мораль равенства и данного фактом рождения достоинства человека.
Именно этого Хобсбаум опасался. Он презрительно отзывался о тех русских, которые не уважают историю собственного народа; желание заимствовать чужую историю – историка смешило. То, что Россия может перестать гордиться победой над фашизмом, его шокировало. Одной из любимых книг Хобсбаума (читал ее перед смертью) была «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана – он с наивностью старого человека протягивал книгу и говорил: «Ну, смотрите – ведь все ясно: страшно и то, и другое, но фашизм должен быть разбит прежде всего!» Сам он историю России знал исключительно – мог вспомнить поворот интриги любого съезда КПСС, деталь биографии Витте, обсудить провал столыпинской реформы, расстрел Белого дома в 93-м году. Надо сказать, что в отличие от многих западных интеллектуалов, Хобсбаум не удовлетворялся черно-белой картинкой событий – он сопоставлял факты, сравнивал характеры и лозунги, не обольщался ни одной из сторон. Живая, страстная история общества, которое ищет форму общественного договора – его исключительно волновала, а то, что общество может отказаться само от себя – пугало. Однажды в застольной беседе он выразился так: «Знаешь, то что произошло в России, когда недра земли, принадлежащие народу, раздали группе верных феодалов, – это даже не преступление, это беспримерная историческая глупость. Это беспрецедентная глупость. К чему может привести разрушение общего сознания, деструкция общества?»
К чему приводит разрушение общего идеала равенства – историк ХХ века знает слишком ясно.
Хобсбаум был историком европейского Нового времени: его основной темой был XIX век, попутно описал XVII и XVIII века и век XX. Это был триумфальный путь – горделивый процесс подъема, обещаний, теорий, проектов всемирного масштаба. Смерть исследователя Новейшей истории Европы – совпала с глобальным Европейским кризисом. Как я писал выше, Хобсбаум считал это решающим кризисом самоидентификации западной культуры.
Есть люди, которые служат фильтром времени – очищают его; Бог словно ставит их в течение реки истории – преградой глупости и дряни. Теперь Хобсбаум умер, и как время обойдется без него, неизвестно.
Он сказал достаточно, чтобы задуматься.
Палитра
Палитра, то есть деревянная дощечка, на которой художник располагает краски перед началом сеанса рисования, – это не что иное, как краткое содержание картины.
Палитра – как предисловие к книге философа или как увертюра к симфонии: все основные темы произведения должны содержаться уже здесь. И удельный вес каждого цвета, как удельный вес страсти и эмоции – должен быть уже обозначен в палитре. Именно этим и занят философ, когда, поставив точку в долгом труде, он пишет вступление – необходимо объяснить читателю: зачем этот труд написан. Эрик Хобсбаум мне говорил, что самое трудное для него – это написать (все серьезные авторы, разумеется, пишут предисловие после того, как закончат книгу) короткое содержание истории века – вот, он описал столетие, с множеством интриг, партий, тенденций и утопий; а теперь изволь на трех страницах изложить суть. Гегель в предисловии к «Философии истории» в принципе умудрился сказать все главное, но это теория – а как быть тому, кто пишет эпос? Толстой, например, отказался кратко изложить суть «Войны и мира» – сказал, что для этого надо написать эпос заново; если бы он пожелал пошутить в духе Уайльда – то сказал бы, что кратким содержанием эпоса является алфавит.
Вот именно алфавит, именно увертюру, именно предисловие – собрание основных тем – и должна выражать палитра художника.
Есть четыре технических метода, как надо составлять палитру.
Первый метод: располагать краски по дуге радуги – от желтого к оранжевому, от оранжевого к красному, и т. д. вплоть до фиолетового, или даже черного – теперь черный считают цветом. Это ученический метод, начинающему художнику намекают, что оранжевый происходит из желтого и красного, голубой – из зеленого и синего. Вместе с тем, этот метод ограничивает фантазию ученика – скажем, самый интересный коричневый можно получить из смеси красного с зеленым (неожиданная смесь), а не только из смеси красного с фиолетовым или черным.
Этот метод исходит из того, что в природе все распределено равномерно – везде всего по чуть-чуть, и в ходе письма художник обнаружит баланс равновесия цветов. Этот метод рассчитан на примитивные, очень простые замесы – и эффекты заранее предсказуемы. Это равно утверждению, что свободные выборы возможны в стране с населением в двести миллионов – каждый придет и проголосует за одного из двух кандидатов, главное, чтобы гражданин честно бросил бумажку. Понятно, что результат известен заранее. Смеси на такой палитре предсказуемы, ее разнообразие мнимое – зачем, если пишешь зеленый лес, иметь на палитре горы красной краски? Лес-то все равно зеленый.
Этот метод Поль Сезанн довел до кульминации, в известном смысле – до абсурда: он выкладывал последовательно все оттенки цветов, все промежуточные тона. Его палитра представляла цветовой круг не из семи цветов – но из шестидесяти. В свое время Эмиль Бернар, обозревая эту палитру, пришел в ужас – как же смешивать? А Сезанн и не смешивал: он клал мазки чистой краски, не смешивая их, – он хотел соединить сотни свободных воль в одном государстве, поэтому писал очень долго, по сотне сеансов, очень трудно соединить в хор совсем разные голоса. Но путем долгого накладывания мазка на мазок, утрамбовывания цвет в цвет можно сплавить гармонию. Это метод античного полиса – каждый гражданин должен договориться с каждым, анонимности нет.
Второй метод: метод контрастов. Им пользовались Веронезе и Делакруа, Матисс и Мунк, Ван Гог его возвел в принцип. Красный на палитре противопоставлен зеленому, желтый – фиолетовому, синий – оранжевому. Располагается крестовым способом. Такие палитры Матисса сохранились, они очень красивы. Предполагаю, что палитры Ван Гога были еще прекраснее: он выводил до семи-восьми контрастов в одной картине, Матиссу нужна была одна пара. Принято считать, что однажды Поль Веронезе увидел, что тень от желтой кареты – синяя, и так возник метод контрастного письма. Это похоже на революционное правительство Конвента: монтаньяры нуждаются в жирондистах, чтобы сказать громче. Здесь важно то, что партии нужен реальный лидер: в отсутствие Робеспьера или Ленина – красный цвет работать не будет, протухнет. Нужна убежденность и страсть. Из немцовых и акуниных контрастной палитры не слепишь. Делакруа и Ван Гог потому и великие художники, что страстные. А страсть подделать очень трудно. Как говорится в грузинском анекдоте, «практически нэвозможно».
Революция длится столько, сколько длится биологическая жизнь Робеспьера, Ленина или Ван Гога – а потом наступает пора Луи-Наполеона, Вламинка и Брежнева: это конечно тоже красный цвет, но тухловатый и жиденький.
Третий метод: это составление палитры по принципу подобий. Так Гоген старался переучить Ван Гога, разрушая его брутальный метод. В такой палитре оттенки цвета как бы оркеструют основной цвет. Серия разнообразных желтых оттеняет главную партию желтого, дает возможность разыграть одну тему в десятке вариаций. То есть, безразлично, голосовать ли за либералов или за консерваторов – на деятельность компаний и корпораций это не повлияет никак, хотя видимость выбора будет соблюдена. Палитра есть, но она создана для однообразия, а не разнообразия. Иногда такую палитру подобий усиливают одним контрастом – Гоген любил вводить в симфонию желтого неожиданный голубой, создать противовес, заставить желтый звучать еще пронзительнее. Так демократическое государство любит создать образ опасности в обществе: вот поглядите на зверя Каддафи, диктатор, правда, далеко и не опасен, но налоги-то надо платить.
Четвертый метод: метод символической палитры – им пользовались до того, как перешли к натурной живописи, им пользовались иконописцы и художники Возрождения. Всякий цвет имеет свое символическое (а не только эмоциональное) значение – если у картины есть замысел, это значение будет востребовано. Покрова Богоматери могут быть только голубыми, а Христос одет в сочетание красного и синего – и это совсем не случайно. Это отражение той структуры сознания, которая и государственное устройство видит не как метод управления бессмысленным народом, не как способ для выкачивания средств на яхты – но как отражение горней гармонии. Это то теологическое устройство государства, единственно, кстати говоря, разумное, о котором и говорил Данте.
Существует, разумеется, и еще много иных палитр – всякая палитра суть изложение индивидуального взгляда художника на мир. Я рассказал о четырех основных принципах, которые соответствуют четырем принципам общественного порядка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































