Текст книги "Стратегия Левиафана"
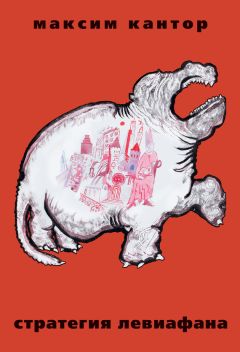
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
«Говорят, что Россия не Запад и не Восток. Надо еще доказать, что есть третья сторона, кроме лица и изнанки».
Вообще говоря, христианину, возносящему молитвы Троице, странно не знать о том, что третья сторона существует. Дихотомия – не самый убедительный метод анализа. Третья сторона, безусловно, есть, в сегодняшней политической терминологии она обозначена словами «третий мир». Дихотомия «варварство – цивилизация» уже тем плоха, что весьма цивилизованные люди весьма часто ведут себя варварски с теми, кого считают недостаточно цивилизованными – как, например, виртуозный скрипач, создатель айнзатцкоманд, палач евреев и славян Гейдрих. Другой скрипач, командарм Тухачевский, травил газами диких тамбовских мужиков – тут приходит на ум фраза Леви-Стросса «Варварство считать, что существует варварство».
И уж совсем загадочно звучит чаадаевское сетование: «Мы не участвовали в общей жизни народов». Поскольку идеалом провозглашаются Средние века («увидите все народы распростертые у стен Иерусалима»), то следовало, вероятно, участвовать с Готфридом Бульонским или Симоном де Монфором в Крестовых походах. Явились ли Крестовые походы (в частности, против альбигойцев или разорение Константинополя) чем-то таким, уроки чего следует усвоить? Может быть, к лучшему, что прозевали резню в Акре? В дележе Востока Россия не участвовала – однако Чаадаев находит возможным пенять на русский националистический пафос. Тут уместно спросить (вопрос этот спустя полвека после «Писем» задает Данилевский, передразнивая западное мнение: «Только не трогайте горцев – этих паладинов свободы!»): если все просвещенные страны имеют колонии и рабов, то и России надо кого-то порабощать, не так ли? Цивилизация до сих пор не придумала, как обходиться без рабства – как же исхитриться и в цивилизацию попасть, и никого не закабалить?
Упреки в панславянских настроениях болезненно справедливы. Но удивительно, что мыслитель, так хорошо знакомый с германским дискурсом, не увидел, что национальный пафос в Германии не менее силен, а пожалуй, что и более. Неужели нельзя разглядеть в «Буре и натиске», в Гердере, в идее самоопределения народов того, что, спустя очень короткий срок, отольется в формулу «Lebensraum»? Пройдет менее ста лет – и европейская цивилизация станет убийцей и потребует новых жертв. Явится новый Манфред, провозгласит себя ипостасью Мирового духа. Это будет уже не Наполеон, но австрийский ефрейтор. Можно было предвидеть 1914-й и 1938-й – находясь в 1836-м? Впрочем, мы ошибаемся с прогнозами даже на завтрашний день.
3.
Примерно так Чаадаеву можно возразить, так и возражают.
И все эти возражения – пустые. К Чаадаеву вышесказанное не имеет никакого отношения. Это ответ не Петру Яковлевичу, а тем, кто читал первое письмо и составил на основе первого письма убеждения по поводу прогресса и цивилизации. Сам Петр Яковлевич наблюдал за полемикой вокруг своего письма с досадой – пробовал объяснить, что же он имел в виду, сочинил «Апологию сумасшедшего», но дело только запуталось. Его сторонники, влюбившиеся в отчаянную смелость и хлесткие реплики, посчитали, что Чаадаев берет свои слова назад, начинает юлить.
«Чаадаевцы» полагают, что подлинная правда – в яростном первом письме, а слова об особой миссии России из «Апологии» – это уже компромисс, своего рода пьеса «Батум». Нет уж, раз сказал, что нет истории, – так будь любезен! «Апологии сумасшедшего» лучше не касаться! – восклицает Мандельштам. – Конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России!» Ревнивая цензура фронды не терпела развернутой мысли. Но «Апология сумасшедшего» – это не «Ода Сталину», и Чаадаев никогда не изменял своей мысли; правда, думал он не только о России – но прежде всего о мире и предназначении России. О предназначении России он и говорит подробно в «Апологии».
Выше приведен ответ на риторику, ставшую для многих неоспоримой аксиомой.
Риторика и назидательный тон – лишь манера изложения чаадаевской утопии, манера, для эпистолярного жанра естественная.
История, по фактам которой спорят с Чаадаевым оппоненты-славянофилы и в которую верят его сторонники-западники, для самого Чаадаева являлась «обиходной» (используя его собственное выражение). Набор хаотических фактов, не объединенных замыслом и целью, для Чаадаева не есть история, достойная человеческого рода. «Большая ошибка думать, будто обилие фактов обеспечивает в истории достоверность. Фактов никогда не будет довольно. Незнание истории вызывается не незнанием фактов, а недостатком в размышлении». И вовсе не о цикличности цивилизаций думал христианский философ, когда писал об одной-единственной цивилизации. Противопоставить ему Тойнби (тем более, Данилевского) было бы некорректным – поскольку Чаадаев пишет совершенно об ином.
И не самопознание Мирового духа, величавое покорение пространства – присвоение, освоение и оставление Мировым духом земель он имеет в виду. Категория пространства (в том числе и географические условия России, им самим клейменные: «Была ли эта страна задумана для жизни разумных существ?») для Чаадаева не детерминирует бытие. «Мысль, – как пишет Чаадаев в третьем письме, – логически принимает условия осязаемого мира, но сама в нем не обитает, какую бы, следовательно, реальность ни придавали пространству, это факт вне мысли… это форма, пускай неизбежная, но только форма… пространство еще менее, чем время, может закрыть путь в новое бытие…» Иными словами, природа России не является для него препятствием – что бы он сам ни говорил в первом письме.
Чаадаев не гегельянец, он не похож ни на Шпенглера, ни на Тойнби, ни на Данилевского, ни на Гумилева (если перечислять тех, кто пользовался понятием цивилизация как мерой истории). Шествие Мирового духа, которое иногда напоминает продвижение армии Аттилы, оставляющей после себя выжженные земли, где история уже не возродится, – это линейное понимание истории Чаадаеву чуждо.
Для Чаадаева цивилизация – это не достижения науки, не внедренные в социальную практику Уголовный кодекс, широкополосный Интернет и финансовые институты. Для Чаадаева цивилизация – это не особая инфраструктура, произведенная из культуры народа. Для Чаадаева срок годности цивилизации не измеряется пассионарностью народа и историческими обстоятельствами. И наконец, для Чаадаева цивилизация противостоит не дикости – она противостоит язычеству, а оппозиции «варварство – цивилизация» для Чаадаева не существует. Чаадаев вообще говорит не о европейской цивилизации, вот в чем штука.
Единство, явленное ему на Западе, – это лишь пример возможного всемирного единства. Цивилизация, как считает Чаадаев, – это процесс построения Царства Божьего на земле. Уже и в первом письме сказано ясно: «В мире христианском все должно вести непременно к установлению совершенного строя на земле», и далее: «Ничего не понимает в христианстве тот, кто не замечает его чисто исторической стороны».
В этом смысле цивилизация существует действительно только одна, двух цивилизаций существовать не может – как нельзя построить два Града Божьих. Для Чаадаева христианская вера не воплощается в определенной конфессии, сила христианства в единении всех народов вопреки различию церквей (например, Чаадаев считал себя католиком, не меняя православного крещения).
Христианская вера, по Чаадаеву, как бы объединяет в себе и ислам, и иудаизм. Апостольское слово «Несть ни эллина ни иудея, но все и везде Христос» для Чаадаева и является прежде всего исторической мыслью. На страницах писем Чаадаев говорит об исламе как о ветви христианства, а Моисея, открывшего Единого Бога, противопоставляет Сократу, оставившему после себя лишь сомнения. Для Чаадаева пропасть между язычником и христианином непреодолима, а противоречие между христианином и магометанином – разрешимо. Перегородки меж церквями не достигают небес – это известно давно.
Католическую церковь он полагал наследницей церкви апостольской – следовательно, у данного института больше шансов объединить народы. Чаадаев предложил русским людям участвовать в общем строительстве, написал утопический план возможных действий.
Неточности «Писем» (или то, что кажется неточным) следует принять так же смиренно, как принимаем мы занудство Чернышевского, черствый слог Мора, заумный язык Данте. Да, отдельно взятое утверждение Чаадаева бездоказательно, но суть «Писем» не в том, сколько в прошедшей истории на самом деле было цивилизаций. Суть в том, что человечество должно построить одну-единственную.
4.
Жанр сочинения выбран скрупулезно. Прецеденты писем-учебников имеются – «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки, «Письма к сыну» Честерфильда. Сенека пишет Луцилию, но в лице Луцилия дает урок и читателю; Честерфильд пишет сыну, и нам перепадают его советы. Нравственный человек не в состоянии дать такого совета одному, чтобы не сформулировать моральное правило для многих, всеобщая история и история частная едины.
Данный жанр ведет происхождение от посланий апостолов, а вслед за тем – от папских энциклик. Более всего «Философические письма» соотносятся, разумеется, не с языческими посланиями, и не с назиданиями, данными незаконнорожденному сыну. Прямой адрес – это послания к коринфянам апостола Павла.
Чуть снисходительный, терпеливый, но и безапелляционный тон «Писем» – это тон Павла. И то, что Петр выбрал метод и средство Павла для убеждения, – должно быть, забавляло самого Чаадаева.
Примечательно, что практически в одно и то же время в русской литературе появляются два свода писем дидактически-нравственного содержания: «Философические письма» Чаадаева и «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. Несложно заметить, что оба произведения прежде всего религиозные.
У писем Чаадаева адресат имеется, Екатерина Панова – но имя дамы опущено: автор пишет обращение «Сударыня» – и только. Чаадаева прозвали «дамским философом» за его популярность среди образованных дам той эпохи, а поэт Языков высказался так: «Плешивый идол слабых жен». Впрочем, Чаадаев не возражал быть «дамским философом» – возможно, как и немецкий писатель ХХ века Генрих Белль, он полагал, что «слова «мужчина» и «дурак» сделались синонимами». К тому же обращение именно к женщине можно интерпретировать иначе: возможно, автор обращается к госпоже Истории – или госпоже России.
Цель у писем простая – научить жить; как правило, за советы никто не благодарит. Неудачно сложилась судьба «Выбранных мест из переписки…» Гоголя – письма эти также были осуждены прогрессивной общественностью, хотя, на первый взгляд, по иным причинам. Современников в случае Гоголя покоробила благостность – привыкли к Гоголю-обличителю пороков, а тут Гоголь-миротворец – непорядок! Вот насмешки из текста «Мертвых душ» пришлись кстати, а чуть дошло до положительных пожеланий, как автора пожурили. «Выбранные места из переписки с друзьями» и есть тот самый пресловутый второй том «Мертвых душ», в котором автор рисует обещанный идеал России, – однако идеала принять не пожелали. Сходная судьба ожидала практически всех критиков российского режима – едва от критики они переходили к строительной части, как делались обществу неинтересны. Пока Чернышевский издевается над самодержавием, его ценят; стоит ему порекомендовать социалистические мастерские Веры Павловны, как нас клонит в сон. Пока Александр Зиновьев костерит «зияющие высоты» коммунизма, мы ему аплодируем, чуть только выясняется, что он вообще-то за коммунизм, просто в незамутненном варианте, – как нам становится скучно. То же самое касается и «Философических писем» – восприняли критику России, и тем легче восприняли, что она высказана скороговоркой. А содержательную, идеальную часть текста пропустили. Да и кому это нужно, если на то пошло? Положа руку на сердце, кто из нас читал «Город солнца» Кампанеллы, или «Утопию» Мора, или «Республику» Платона? Мы в целом знаем, что это скучные казарменного толка пожелания – и что тут обсуждать? Толка практического все равно не будет.
Среди прочих прожектов («Как нам обустроить Россию», «Апрельские тезисы», «Как изменить Россию в пятьсот дней» и т. п.) «Письма» Чаадаева до сих остаются невостребованными, хотя их побочное влияние огромно. Подражали Чаадаеву в скептицизме, в афористичности, в манере носить платье и брить голову, в поношении Отечества – но только не в его действительных убеждениях. Все прочие рекомендации в отношении России давно осуществили: и «азиатское подбрюшье» отдали (как то посоветовал Солженицын, прозревая расцвет байского Туркестана и феодального Узбекистана), и недра передали в собственность народу (как то предложил Ленин – правда, потом эти самые недра у народа отобрали обратно), а уж перестройка России «в пятьсот дней» была проведена десятикратно без малейших последствий. Если же присовокупить к этим судьбоносным свершениям неустанную работу прогрессивного чиновничества – докладные записки и манифесты, деятельность Сперанского, Витте, Столыпина, Керенского, Троцкого, Бухарина, Горбачева, Манилова и прочих преобразователей земли Русской – то увидим разливанное море рецептов бытия; что поразительно, все рецепты воплощены в жизнь. Хотели разрушить общину – и разрушили; хотели ввести частную собственность – и ввели; хотели получить кредит МВФ – и получили; хотели стырить бюджетные деньги – и стырили; и мост расписной через реку тоже построили. А все равно чего-то не хватает. И смотрит печально правитель на Россию: и народ дохнет, и промышленность глохнет, и природа чахнет. Что бы еще такое внедрить остроумное?
Не пробовали следовать «Философическим письмам».
Чаадаев написал трактат, сопоставимый с «Монархией» Данте. Сочинение это имеет целью изменение человечества (не только российского общества), в этом смысле Чаадаев находится в ряду прочих утопистов. Сам Чаадаев именовал себя «христианским философом» – имел в виду то, что христианская нравственная парадигма есть критерий истинности суждения.
Критическую часть трактата (первое письмо) следует воспринимать как увертюру, как основание для последующих утверждений.
Например, Платон начинает «Государство» с рассуждения о том, что есть справедливость, в ходе диалога предлагает четыре варианта толкования понятия, не удовлетворенный ни одним из них, он излагает принципы идеального общества – с тем, чтобы предметно разобрать, как действуют принципы. Тот, кто воспользуется определением справедливости, данным на первых страницах диалога, ошибется. Так и Чаадаев предваряет основные рассуждения письмом, в котором указывает на отсутствие в российском обществе истории, – но он нигде не пишет о том, что такое история. По причине недочитывания писем Чаадаеву приписали линейное понимание исторического процесса – или (что столь же абсурдно) мысль о том, что в Европе достигнуто единство, коего России не достичь. Единство – одно из любимых понятий Чаадаева, он вообще не персоналист, хотя ему навязали и это свойство – на основании его одиночества. Единство (как для Чаадаева, так и для здравого смысла) – это такое состояние, которое описывает сразу всех участников бытия, а не только Европу; примененное к одному из слагаемых уравнения, слово «единство» теряет смысл. Чаадаев пишет о том, что в Европе он видит принцип Единства, которой следует применить и к России, и к Востоку.
Чаадаев неоднократно упоминает «спекулятивную философию», «слепую философию» – для него это уничижительное понятие; Чаадаев имеет в виду рассуждение, которое складывается из готовых к употреблению блоков чужих мыслей, из усвоенных штампов. Сегодня для обозначения «спекулятивной философии» мы могли бы использовать термин «идеология». Если бы философия состояла в присвоении сознанием готовых формул, то философия была бы самой мертвой из дисциплин. Однако философия тем драгоценна, что требуется думать всякий раз заново, как если бы никто, кроме тебя, эту мысль никогда не обдумывал. В отличие от армейского устава, в истории мысли нет старших по званию – перед упрямым процессом понимания равны все. Для самого Чаадаева не было авторитета, помимо Бога, и ни единая его мысль не застыла – мысли существуют до тех пор, покуда их думают.
Важно критически отнестись к тексту самого автора: в тексте много аксиоматических утверждений. Для Чаадаева эти утверждения находились в контексте говоримого и обдумываемого – вне контекста это идеологические штампы. Во времена борьбы с российским социализмом данная риторика была выдана за философию, и в результате возник образ философа, изрекающего агрессивные банальности. Этот Чаадаев напоминает книжного героя, Чацкого, – позера и крикуна. Реальный Чаадаев дает основания для существования своего истерического двойника: он пишет догматично, и если не учитывать главной составляющей его текстов, а именно – живой веры, то превратить его в идеолога просто.
В результате Чаадаева сделали сторонником таких доктрин, какие ему и не снилось отстаивать. Поскольку образ мыслей Петра Яковлевича противопоставили идеологии российской государственности, то Чаадаева представили адептом либерализма, капитализма и демократии едва ли не рузвельтовского толка. Это, конечно же, совершенная чушь. Чаадаев не уважал либерализм («Российский либерал напоминает мошку, топчущуюся в луче солнца. Солнце – это солнце Запада»). Чаадаев презирал капитализм и стяжательство («Социализм победит не потому, что он прав, но потому, что другие не правы»). И, наконец, Чаадаев ни в какой мере не симпатизировал демократии.
Он был католик по убеждениям, но не по церковному ритуалу. Впрочем, если про де Местра (влияние которого на Чаадаева отмечают многие) часто говорят, что он «больше католик, нежели христианин», то для Чаадаева идея христианства пребывает самой живой из представленных в мире. Чаадаев был патриотом – но на свой собственный лад. Он был философом, но способом рассуждений напоминал проповедника. Пророку разрешено безапелляционно заявлять, что мир погряз в пороках; остальным следует предъявлять доказательства.
Соединить чаадаевские взгляды в единое мировоззрение можно; но это уникальное мировоззрение, не годящееся для партийной работы. Скажем, пророк Даниил вещает о смене царств, но составить на основе его слов хронологическую таблицу – трудно. Из Чаадаева современники слепили Чацкого, салонного доктринера, а потомки сделали из него борца за либеральный капитализм. Узнай об этом Петр Яковлевич, он бы действительно рехнулся.
Взгляды Чаадаева некоторые исследователи характеризуют как противоречивые. Герцен характеризовал Петра Яковлевича как «революционного католика», в социальных проектах Чаадаева можно видеть социалистические положения, как метафизик Чаадаев родственен пантеизму Спинозы, а христианская вера для него есть условие исторического существования. Это взгляды не партийные – они уникальны.
5.
Чаадаева иногда сравнивают с Сократом – оба пострадали от неправого суда. На этом сходство заканчивается: Сократ подчеркивал отсутствие априорного знания, в то время как Чаадаев поверял истину, усвоенную разумом, – религиозным откровением. Чаадаев греческую философию и эстетику не жаловал, полагал, что античность не выработала общего взгляда на историю, не дала перспективы человечеству. Он не любил античные статуи за их безглазость, считал достижения пластики причиной бездуховности (ср. у Пастернака «Так у статуй, утративших зрячесть, пробуждается статность»).
Однако то, что образы обоих философов были использованы культурой как символы, – это и впрямь общее.
Не оставивший потомкам ни строчки, Сократ был выбран Платоном и Ксенофонтом в качестве героя для диалогов, Аристофан включал его в комедии, скульпторы лепили курносое лицо. Подобно тому, как бюстами Сократа уставлены античные залы музеев, так и русская литература усыпана портретами Чаадаева. В любом романе девятнадцатого века вы отыщете персонаж, напоминающий Петра Яковлевича, – это будет скептик, набравшийся гонору в Европе, позер, доктринер.
Чаадаев стал олицетворять определенный тип, хотя его черты типическими не назовешь.
Один человек не может взять на себя роль судьи – общество этого не одобряет. Всякий герой, и моральный и не очень моральный (Гай Марий Кориолан или Андрей Сахаров), рискует, обнаруживая уникальные свойства. Понятно, что героем является тот, кто являет достоинства в превосходной степени – он умнее, храбрее, активнее прочих, – однако мир на героя обижается: не стоило бы демонстрировать похвальные свойства так назойливо. Общество страдало от присутствия Чаадаева – достоинства налицо, а поведение оскорбительно.
Подобный персонаж поименован в русской литературе термином «лишний человек», русская литература середины XIX века сделала его главным действующим лицом. Этот персонаж является обещанием прорыва, свидетельством имеющихся возможностей. Проявлять эти возможности – несвоевременно, вот он и томится – а потом отправляется в неизвестность.
«Лишние люди» русской литературы обаятельны, окружающие к ним льнут, однако быстро выясняется, что они не умеют любить. Их значительность в том состоит, что они живут не для людей, а для какой-то миссии, для истории. Очевидно, что за героем-одиночкой стоит фигура Наполеона. Явившийся ниоткуда и ушедший в никуда, предъявивший миру такой счет, какой мир не смог оплатить, Наполеон и есть законченный образ истории, как ее понимали романтики. Существует легенда, будто Гегель, глядя из окна на Наполеона Бонапарта, проезжающего на коне, сказал собеседникам, что в настоящий момент он созерцает воплощение Мирового духа. Наполеон нес миру смысл – мир оттолкнул героя, убил его; кем и быть в этом мире, как не «лишним человеком», ежели у тебя есть воображение и страсть? Юная Марина Цветаева на постановке «Орленка» Ростана пыталась выстрелить себе в сердце: ей казалось, что вне большой истории – биологическая жизнь не нужна. Будущий декабрист Лунин повторял вслед за Цезарем: «Скоро тридцать, и ничего для бессмертия», – и хотя будни Лунина были посвящены шаловливым проделкам (скачки по Невскому проспекту в голом виде и т. п.), но целью была историческая биография. Причем сделать Лунин был готов что угодно: заколоть кинжалом Наполеона к вящему торжеству самодержавия, или участвовать в свержении царской семьи – и то, и другое равно есть путь в историю. Мандельштам, поминающий в статье «Чаадаев» боярских детей, посланных в Европу и не вернувшихся (оттого что «нет пути обратно от бытия к небытию»), пишет все про то же – есть просто существование, а есть историческое, осмысленное.
Чаадаев, наличием или отсутствием истории измерявший состоятельность общества, задал жизни такое измерение, которое не изобрела бы романтическая фантазия.
В Европе копировали Байрона, а в России образец для подражания нашелся за углом. Отставной гусар, ставший затворником-философом; смутьян, набравшийся идей за границей; мудрец, объявленный сумасшедшим, – именно Петру Чаадаеву обязаны мы характерами Чацкого, Печорина, Онегина, русская литература долгое время не знала иных героев. До появления фанатика-разночинца, смертника-народника, Базарова, Раскольникова, Рахметова – в русской литературе главенствовал образ Петра Яковлевича Чаадаева, явленный в сотне ипостасей. Копировали манеру говорить, манеру молчать, манеру презирать. «Умел я презирать, умея ненавидеть» – откуда в юном Пушкине такие сильные страсти? «И брошу вам в лицо железный стих, облитый горечью и злостью!» – к тому времени, когда юный Лермонтов написал эти строки, он еще не успел набрать довольно горечи, но можно было позаимствовать ее у Петра Яковлевича Чаадаева.
Грибоедов, автор самого очевидного из портретов, предвидел все, вплоть до объявления героя сумасшедшим, это при том, что комедия о Чацком (в черновиках Чадский) написана за 12 лет до истории с «Телескопом».
Имеется еще Евгений Онегин («второй Чадаев»), есть мрачный Печорин, гусар, как и Петр Яковлевич. Есть и князь Мышкин – вернувшийся из-за границы правдоискатель, которого действительность сводит с ума. Отставной гусар Сильвио – разве не родственник он ротмистру Ахтырского полка, подавшему в отставку? Это потрясающая деталь: после встречи и разговора с царем гусарский ротмистр Петр Чаадаев подал в отставку «по собственной надобности». В мире, где державные замыслы кружат головы народу, Чаадаеву показалось «приятны выказать пренебрежение людям, пренебрегающим всеми». Герой «Выстрела», гусар Сильвио, уходящий в отставку, вынашивающий тайную мысль – как похож он на философа, посвятившего себя одной, упорной думе.
Уместно вспомнить определение, данное Герценом «Философическим письмам»: «выстрел в темную ночь». «Выстрел» – можно прочесть и как описание судьбы, направленной в никуда, путь в темноту. Герой живет лишь для того, чтобы однажды выстрелить – какое фатальное предназначение выбрал себе человек! И разве не так же готовил себя к выстрелу Чаадаев? Выстрелил – и тоже мимо.
И написан образ Пьера Безухова – ибо кто же таков Пьер первого тома «Войны и мира», приехавший из-за границы резонер, как не слепок с «басманного философа», вернувшегося от философа Шеллинга? Самое имя, Петр, – отсылает к Петру Яковлевичу, а фамилия Безухов обозначает, что герой не принадлежит к российскому обществу (Besuch – визит по-немецки). Посмотрел визитер на нас со стороны, осудил. Замечу вскользь, что на вечере у Анны Павловны Шерер молодой Пьер вступает в короткий диалог с аббатом Мортимером – прототипом коего принято считать Жозефа де Местра, небезразличного Чаадаеву мыслителя.
Пьер Безухов в разговорах с Андреем Болконским (романтиком, взыскующим историчности бытия) проговаривает любимейшие темы Петра Яковлевича – поступок исторический в неисторической стране. Как раз в обретении истории не романтической, но всеобщей, поделенной поровну со всеми, – пафос развития Пьера.
Применительно к России, проблема романтического героя – «лишнего человека» – выглядит так: существует традиционалистское общество, и оно отторгает чуждый традиции элемент. Герою – «агитатору за историю» показывают, что жизнь уже сложилась, а его воззвания нелепы: «Москва, вишь, виновата!» Чацкому, горлопану, только и остается, что «вон из Москвы»; Онегин не у дел – Татьяна вышла замуж, пока он занимался самоанализом; Печорин едет в Персию – «может, умру по дороге»; а Сильвио отправляется в войска Ипсиланти, воевать незнамо за что. Лишним оказывается любой, кто, на манер Чаадаева, вменяет принципу общинности внешний счет – России этакий «наполеон» ни к чему.
В частности, драма Раскольникова («Кто я: тварь дрожащая или право имею») и состоит в преодолении комплекса Наполеона и обретении соборного сознания. Комплекс Наполеона («Мы все глядим в наполеоны») – есть не что иное, как «комплекс историчности», то есть претензия к бытию, неумение жить в ладу с другими. Это специфическая болезнь «лишнего человека»: лишние люди в России все как на подбор страдают комплексом историчности.
Достоевский на протяжении всей жизни выяснял отношения с Чаадаевым, вот и Версилов в романе «Подросток» был задуман как карикатура – истрачено было много тяжкой иронии. Изображен человек, «всю жизнь свою проведший в странствиях и недоумениях», «бабий пророк», «скиталец», изглоданный потаенными страстями. По мнению Розанова, помещик Миусов в «Братьях Карамазовых» – это тоже Чаадаев.
Очевидно, что и Тургенев, рисуя манерного Павла Петровича Кирсанова, желал насолить Петру Яковлевичу Чаадаеву. Писатель вывел помещика, говорящего избыточно красиво, переходящего на французский, ежели надо сообщить нечто важное; перед читателем стареющий щеголь, ухлестывающий за деревенскою барышней и рассуждающий о «принсипах». Знаем мы такой тип!
От романа к роману персонаж приобретал устойчивые характеристики, литераторы научились высмеивать манерного доктринера – как авторы итальянской комедии высмеивают бюрократизм Бригеллы.
Длинный получился список литературных героев, но список можно длить еще.
Как показалось многим, Чаадаев сформулировал главную проблему русской литературы – становление уникальной личности вопреки традиционному существованию народа. «Письма» (и так продолжают считать многие) есть учебник противостояния, пособие по индивидуальной борьбе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































