Текст книги "Стратегия Левиафана"
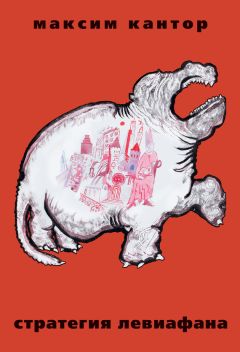
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Четыре некролога
1. Простодушный
Кабинетный ученый по убеждению, Леви-Стросс всю жизнь кормил комаров в тропиках. Философ ХХ века, он посвятил сотни страниц древним мифам про мистических орлов и священных дикобразов. В науке главное – это факты, да, скучные факты, – вот вам и тайны загадочных культур; говорил он голосом профессора Индианы Джонса, а сам уже нашаривал старую шляпу в заваленном бумажками столе. И так продолжалось 74 года из ста прожитых лет.
При жизни он успел увидеть свои книги напечатанными в «Библиотеке Плеяды» (обычно они там оказываются после смерти Героя), а «Нувель Обсерватер» назвал Леви-Стросса «индейцем нашего века». Неизвестно, что является большим комплиментом.
В отличие от многих коллег Клод Леви-Стросс занимался, если можно так выразиться, не абстрактным, но прикладным структурализмом – звучит это словосочетание нелепо, но передает суть. Деятельность структуралистов представляется обыкновенному гражданину непостижимой. Термины «бинарная оппозиция», «морфология сказки», «тартуская школа» и т. п. вызывают священный трепет, кажется, что семиотики заняты чем-то столь таинственно важным, что понять это неподготовленному человеку невозможно в принципе. На самом деле это не так. Эта деятельность не сакральная, стало быть, объяснимая. Структуралисты хотят обнаружить закономерности и связующие начала бытия, они ищут универсальную структуру, прежде всего в речи, в языке. Семиотика тщится показать, что морфемы языка имеют знаковую природу, а знак обладает универсальными характеристиками – через знак объясняется весь мир вообще. И такое обобщение (морфема – знак – мир) приближает семиотику к теологии и даже к религии. Ореол сокровенного знания, которым окружены структуралисты, завораживает. Этот ореол и отвлекает от реальной продукции. Вообще говоря, все человеческие профессии озабочены не только изготовлением вещей, но и определением структуры вещей; сказать, что именно исследователи речи ищут структуру бытия, а, например, врачи или физики структуру бытия не ищут – это было бы крайне самонадеянно со стороны семиотиков. Платон в диалоге «Горгий» вводит следующую дефиницию в различении человеческих занятий: он делит их на искусства и сноровки. Сноровкой он называет ремесленным путем приобретенное умение – готовить (кулинар), убеждать (оратор), управлять (политик). Искусство, в отличие от сноровки, – это то, что воспитывает, обучает, движет сердца. Оратор убеждает толпу, не обучая людей ничему, – философ же сообщает толпе знания, которые могут ее убедить. Пользуясь терминологией Платона, любопытно ответить на вопрос: чем явился структурализм в ХХ веке – сноровкой или искусством?
Леви-Стросс не только разбирал абстракции, но и показывал реальное бытие этих абстракций – в повседневной жизни индейских племен. То, чем он занимался, иногда называют антропологией, но это и не вполне антропология – из жизни и быта индейцев Клод Леви-Стросс выводил заключения общего порядка, которые европейские структуралисты могли применить к иным языкам, иным племенным группам, выводил абстракции, превышающие этнографический опыт. Не исследователь реалий далеких племен – но ученый, выводящий генеральные понятия на примере затерянного племени, вот кто такой Клод Леви-Стросс. То есть, называя вещи своими именами, получилась следующая ситуация: один француз в поиске универсальных категорий для цивилизованного общества обратился к опыту дикарей – и на примере дикарей стал обучать цивилизованных соплеменников. Если вспомнить, что параллельно с деятельностью Леви-Стросса достигают невиданного размаха европейские расистские теории (во Франции их было достаточно – «Аксьон Франсез», например), то деятельность ученого, воспитывающего мир на примере людей «низшей расы», приобретает не научно-абстрактное, но гуманистически-конкретное значение. Внук раввина, антрополог, вынужденный эмигрировать из Франции во время нацистской оккупации, Леви-Стросс построил учение, опровергающее основную посылку века, отвергающее естественный отбор сильнейшего в цивилизации. Мы знаем, чего стоили миру абстрактные теории Риббентропа и мораль Габино – и в той же Европе работает ученый, который показывает, что абстракция (знак, морфема, корень) возникает из такой вопиющей реальности, которая имеет запах и цвет, и называется индейцем племени квакиютль. Рядом с Леви-Строссом работал другой француз, чье высказывание в данном случае вспомнить уместно. «Человек – это не абстракция», – говорит Альбер Камю в романе «Чума». Клод Леви-Стросс подтверждает данный тезис: не может быть более отвлеченной деятельности, нежели работа структуралиста, – он делает ее максимально конкретной и пропедевтической.
Чтобы точнее представить, что сделал Леви-Стросс, надо обратиться к опыту другого француза, проделавшего тот же путь в позапрошлом веке. О Поле Гогене. Подобно Леви-Строссу художник обратился к реальности дикарей, чтобы выявить универсальные ценности, пригодные для Европы. Гоген сделал следующее: взял евангельский миф и перенес его в место, не отравленное цивилизацией, товарно-денежными отношениями, рынком. Мы видим, что Святое семейство необязательно должно быть укоренено в европейскую культуру – оно может появиться среди людей с темной кожей. Излишне говорить, что таким образом Гоген возвращает Евангелию первоначальный смысл: христианство и являлось религией угнетенных, универсальной ценностью, подаренной рабами царям. Поскольку ни Мария, ни Иосиф не были арийцами, вполне допустимо представить их в наше время таитянами, и Гоген поставил левистроссовский эксперимент – на примере таитян рассказал европейцам историю их собственной культуры.
Труды Леви-Стросса особенно должны быть внятны нам, сегодняшним русским, учинившим социальный переворот на основе примитивнейшей абстракции, на основе унылой бинарной оппозиции «варварство – цивилизация». За этими терминами скрываются живые люди – а мы это как-то проглядели. А вот Леви-Стросс их, живых и теплых, видел. Работа Леви-Стросса была предельно конкретна (как и картины Поля Гогена, как больницы Альберта Швейцера, как работа доктора Риэ из романа «Чума»), а из него старательно пытались сделать заумного теоретика. Особенно он ярился, когда его пытались представить гегельянцем. Гегель, конечно, был апологетом разума, но вообще-то следование разумной логике сущего необязательно должно привести к торжеству арийского духа. «Кое-кто из критиков обвинил меня в том, что я рассматриваю структуры мышления в качестве причины культуры, а иногда даже смешиваю то и другое. Но признавать, что ум в состоянии понять мир только потому, что сам ум есть часть и продукт этого мира, – не значит быть идеалистом», – писал Клод Леви-Стросс. Философия Просвещения дала нечто более близкое Леви-Строссу. Просвещение еще не выродилось в политику «бремени белых», когда Вольтер написал «Простодушного», сделав главным героем повести индейца-гурона. Устами этого гурона Вольтер и сформулировал отличие дикаря и человека цивилизованного: «Их называют дикарями, а они хотя и грубы, но добродетельны, тогда как жители этой страны хотя и утонченны, но отъявленные мошенники». Но как для Бога нет ни эллина, ни иудея, так же для структуры мышления не важно, варвар перед нами или цивилизованный гражданин, освоивший арифмометр. Это и выяснил Леви-Стросс.
Клод Леви-Стросс сделал философией учение о жизни человека. Философия перепробовала сотню профессий: профессию физика – с Анаксагором, политика – с Аристотелем, богослова – с Фомой Аквинатом (далее – везде, вплоть до математики и алхимии). Вместе с Леви-Строссом она стала гуманистом. Двуногое существо, наделенное речью, его нетвердая память, неуклюжие произведения его культуры, его смешные семейные ритуалы – вот то, чем должна озаботиться философия после тысячелетий своего существования. И если когда-то Протагор сказал: «Человек есть мера всех вещей», имея в виду нечто прямо противоположное (а именно: относительность всех явлений на свете), то Леви-Стросс подарил этой фразе утвердительный смысл.
Леви-Стросс отправился в джунгли, следуя той же звезде, что увела под чужие небеса не только Гогена, но и Альберта Швейцера. Теперь и сам Леви-Стросс стал частью этой звезды. Она светит нам оттуда, из черного неба – и представителям индейского племени кадиувеу, и питомцам тартуской школы, – и все для того, чтобы доказать, что «чужих» небес нет. И «чужих» людей не бывает тоже, потому что все мы – одно, даже если один из нас верит в волшебные ракушки, а другой – в силу печатного слова.
2. Человек
Через три дня будет день рождения моего дорогого друга – историка Сергея Владимировича Шкунаева, ему бы исполнилось 62. Умер четыре года назад.
Он был кельтолог, то есть занимался древним эпосом кельтов, знал язык, старый гэльский, нового ирландского, кстати, не знал. Мы в Белфасте как-то болтали с полицейским (Сережа мне хотел показать, что он в Ирландии как дома), и полицейский воззвал ко мне: ни слова не понимаю – звуки знакомые, а слов не знаю. Если снимите с полки любые ирландские легенды – там будет или перевод Шкунаева, или комментарии Шкунаева, или перевод под его редакцией – у него было много учеников. Помимо древней Ирландии и всего что с ней связано, Сергей Владимирович был просто нормальным академически мыслящим историком – он очень здраво понимал, что такое историография, как заниматься с источниками, что такое историческое знание вообще – я у него всегда учился, а он щедро учил. Учил он не только меня, но любого: стиль его разговора был назидательный, я потратил много лет усердного чтения, пока Сергей не сменил интонацию. В нашей жизни полно людей, которые не любят и не умеют учиться – а он учился всегда сам и учил других: в его мире, среди его друзей (включая сюда любимые книги) учение было нормой общения. Разговаривали друг с другом для того, чтобы учиться – а для чего же еще говорить? Он охотно рассказывал и приходил в ярость, если его плохо понимали, однако терпеливо повторял, разжевывал грамматическое правило, объяснял эдикт, помогал разобраться в дате.
Он, разумеется, знал латынь и все европейские языки, но его любимым – и трепетно любимым – был французский язык. Сережа ребячливо гордился тем, что он говорит по-французски как француз, дескать, мог бы стать шпионом.
Однако шпионом он не был, но был сотрудником Института Древней истории, занимался своими кельтами, раза два в год ездил, как это и принято среди ученых, на конференции.
Это была крайне успешная, покойная, академическая жизнь – библиотека, собака, дача, старенькая машина. Дача – от деда с бабкой, врачей. В Кратово, на станции «42-й километр» – деревянная хибара в три комнаты без клозета. Туалет пристроил незадолго до смерти, очень этим строительством гордился. Его дача там, в Кратово, выделялась – вокруг стояли терема Маркиза Карабаса, с башенками и бассейнами, а у Сережи – лопухи и крохотная деревянная терраса. На этой самой террасе он полжизни просидел с книжкой и бутылкой.
Неожиданно успешная и покойная жизнь сломалась. Началась т. н. перестройка ценностей, и академическая жизнь перестала быть уютной – требовалось бегать за грантами, что-то у кого-то просить, унижаться перед болванами, участвовать в правозащитных посиделках невежд. Сергей Владимирович это все глубоко и едко презирал. У него выработалась специальная гримаса, вероятно сродни той, что была на лице профессора Преображенского, когда тот общался с Шариковым, – с этой гримасой Шкунаев говорил об Открытом обществе, грантах Сороса и правозащитной неграмотной шантрапе.
Выбор он сделал просто: решил не участвовать ни в чем. Ему предлагали разные бойкие проекты – он язвительно давал им оценку. Очень скоро его перестали приглашать, сочли выпавшим из праздника прогресса. Он и в самом деле выпал – сидел дома с книгами. Стал выпивать – нет, он был не пьяницей, но пил каждый день, потягивал вечером крепкий напиток. Приговаривал: «Лучше за рубль лежать, чем за два бежать».
Потом он заболел раком и умер.
Он умирал очень тяжело, ни разу не пожаловавшись на боль. А боль была сильная.
Сергей был великим человеком. Я говорю это не в каком-то аллегорическом смысле, и не для того, чтобы удивить: вот, мол, был великий человек – а вы и не знаете. Я говорю это крайне просто, это просто такой факт. Вот растет большое дерево, вот стоит каменный дом, а вот жил великий человек.
Он был велик достоинством, знанием, честью. Он не принял ни одного из соблазнов нашего суетливого мира.
Не то чтобы он был праведником – слово не из его лексикона, – он просто органически не умел принять фальшь. У него не получалось, мешало систематическое образование.
Он вообще не выносил невежество.
Газет не читал, а если читал, удивлялся: неужели так врать разрешают? Ведь они совсем ничего не знают.
Помню резкую отповедь, которую он дал некоему либеральному мыслителю, подсуетившемуся с теорией к случаю: потребовалось доказать, что Россия – это Европа, вот не угодно ли цитат?
От полузнания его корежило; помню его любимую фразу, так он обращался к любителям, щеголяющим цитатой Сенеки, допустим, или Плотина. Шкунаев обычно спрашивал: «Как хорошо, что вы читали Плотина, и какая же мысль вас особенно поразила?»
Разговор с ним был всегда праздником. Сергей приходил ко мне часов в шесть, и мы сидели до часа ночи – друг напротив друга – и говорили. Это происходило раз в месяц, иногда реже – лет пятнадцать подряд. А потом его не стало.
Есть такие люди, они как фильтр – очищают время. Мераб Мамардашвили был такой. И Зиновьев был такой. И Сергей был такой. Вот ушли, и мутно стало.
И всего дел-то: в библиотеку ходить, читать много, думать, не врать, не суетиться. Любой может. А как сложно.
Когда Сергей умер, я написал про его смерть повесть, назвал «В ту сторону» – описал Сергея и всех вокруг него. Помню, одна милая критикесса меня упрекнула в том, что я не люблю людей – она не заметила главного героя, которому посвящена была книга, заметила лишь его шумное окружение, в котором вполне могла узнать и себя.
Так и при жизни было. Он не старался быть заметным.
Величие этого и не требовало.
Еще он очень любил кошек. Перед самой его смертью случилось так, что я подобрал на улице котенка, принес в мастерскую. Сережа приехал его кормить, сказал мне: «Вот, Максим, Вам не хватало последней детали».
Это был такой комплимент.
И еще однажды я хотел перейти с ним на «ты» – хоть я и младше, но все-таки двадцать лет дружим.
Он ответил церемонно: «Максим, я дорожу нашим «Вы». Наше «Вы» гораздо более сближает нас, чем «ты».
Как и многие его фразы, эта тоже была великой.
Шкунаев имел в виду то, что существует иерархия духа и этикет в любви – убери, и свобода станет наглостью, а дружба – пустозвонством.
Спите спокойно, Сергей Владимирович.
3. Русский интеллигент
Умер Виктор Топоров – и стало пусто. Фронт оголился – а ведь Топоров был один.
Трудно сказать, что он был совестью русской интеллигенции, поскольку у постсоветской постинтеллигенции нет совести – вместо совести у них корпоративная этика. Топоров просто в одиночку замещал собой целую страту – замещал сразу всю интеллигенцию, которая перестала существовать, хотя потребность в интеллигенции осталась.
Виктор Топоров был русской интеллигенцией в одиночку. Так можно. Ровно так поступает лейтенант, идущий в атаку один, – если взвод невозможно поднять в атаку. Так вели себя все русские интеллигенты; так вели себя Александр Зиновьев и Петр Чаадаев, Чернышевский и Салтыков-Щедрин. Лежащий в укрытии взвод прежде всего ненавидел именно выскочку-лейтенанта, живой упрек в трусости. Идущего поперек корпоративной этики ненавидят больше, чем саму власть, при которой интеллигентам живется недурно. Никакого конфликта с властью у постинтеллигенции на самом деле нет; имеется спектакль, актеры заучили гражданственные роли. За кулисами остается бюджет постановки, обсуждение гастролей, критика в прессе. Спектакль играют давно; но важен не сам спектакль.
Борьба круглоголовых и остроголовых, борьба так называемых либералов и так называемых охранителей – давно символическая. Борьбы реальной нет – соответственно, невозможно солидаризироваться с борьбой или оппонировать ей; можно лишь отметить фальшивую игру актеров. Имитация протеста дурна тем, что дискредитирует настоящий протест. Если ради забавы кричать «волки», когда волков нет, то в присутствии реальных волков окажется, что крик о помощи истрачен впустую. Так постинтеллигенция израсходовала гражданский протест в отсутствии реальных гражданских чувств, истратила право на свободолюбие, променяла роль интеллигента на суесловие. Гламурные оппозиционеры не тем противны, что читают протестные частушки богачам в Барвихе, но они противны тем, что опозорили самую суть протеста. Ряженые фрондеры не тем мерзки, что говорят слова «совесть» и «права человека» на посиделках в кафе, – но тем, что истратили слова, которые пригодились бы настоящим людям для настоящей жизни. Постинтеллигенции потребовалось позаимствовать риторику у интеллигенции – но зачем слова, забыли. Прежде этими словами защищали народ – теперь оправдывают свое существование. Фразы, которые когда-то жгли сердца, нынче обесценились. А слова нужны. И Топоров оказался в положении человека, который отвечает за украденные слова – ведь он писатель. Надо вернуть опозоренным словам смысл. Как быть, если пришли волки, а крик «волки» истрачен на карнавале? Как быть, если обществу нужен интеллигент, а интеллигенты нарядились гондонами?
И Топоров работал. Фактически в последние годы он стал сатириком – писал дневник писателя, критику нашего времени. К данной форме он пришел, уже будучи признанным переводчиком и литературным критиком; в конце жизни он стал сатирическим писателем; Зиновьев тоже сперва был логиком.
Топоров в коротких эссе изобразил всю литературную и общественную жизнь России – он высмеял светских мещан так, как их высмеивали Зиновьев и Эрдман, Горенштейн и Грибоедов, Салтыков-Щедрин и Зощенко. Это традиция русской литературы, и Топоров добавил к традиции необычный жанр – воплотил сатиру в дневниковых заметках. Это и литературная критика, и поэзия, и обществоведение – всё сразу; это человеческая комедия.
Символом пустобреха для него стал журналист Быков, а затем Топоров придумал собирательный персонаж – молдавского правозащитника Обдристяну, существо воплощающее фальшь наших дней. Обдристяну был героем ежедневных заметок – подобно Свифту и Зиновьеву, Топоров умел короткой фразой выявить моральное ничтожество субъекта.
Топоров презирал не оппозицию режиму, но карикатурную оппозицию режиму; он ненавидел не сам протест, но имитацию протеста. Стадное свободомыслие, групповое прозрение – именно это вызывало у него презрение. То, что мы наблюдаем в последние годы, есть голливудский фильм, снятый по мотивам гражданской позиции интеллигента. В массовке попадаются неплохие лица – но это кино, а реальная жизнь отношения к этому не имеет. Есть проданная страна, олигархия, капитализм без профсоюзов, народ, который обокрали. Не интеллигентов обокрали – постинтеллигенцию как раз пригласили в обслугу – обокрали народ. Требуется тот, кто будет говорить от имени обездоленных, – как требовалось и прежде, исторически нужда в интеллигенции потому и возникла. Но интеллигентов больше нет – есть рассерженные менеджеры, статисты из голливудского фильма про русскую жизнь.
Вслед за рафинированным гуманистом Эразмом образованный Топоров принял простой моральный императив: «Народ тебе должен многое, но ты должен народу всё». Феномен Топорова в том и состоял, что он имел все основания не разделять судьбу народа – а он захотел разделить. Он так и жил – наотмашь, навылет, до отказа, – как живет народ. Некогда это был императив интеллигенции; потом про него забыли. Топоров вспомнил заново. Он так писал, словно писал от имени всех – но писал ярко, как только он и мог писать.
Проблема, которую изучал Виктор Леонидович Топоров, крайне серьезна. Вопросы он формулировал ясно. Что есть демократия в мире, где демократия потеряла лицо? Что представляют из себя традиционные «западные ценности» в эпоху кризиса западной цивилизации? Как можно войти в европейский дом, если этого дома нет? Что есть Родина – если той родины, которую мы знали, уже нет?
Топоров на протяжении 20 лет умел идти против течения; в те годы, когда все говорили и делали глупости и подлости, участвовали в разграблении страны словом или делом, он говорил трезво и храбро.
Так Виктор Топоров стал русской интеллигенцией в одиночку; он продержался довольно долго. Тяжелая работа, и он ее делал хорошо.
У него была репутация человека грубого; кто-то считал его злым – поскольку Топоров не прощал морального ничтожества. Это, вообще говоря, нормально: тот, кто упорно говорит нелицеприятную правду, считается сумасшедшим, вздорным. Светская чернь не прощает насмешки, они хотят, чтобы их воспринимали всерьез. Они потешались над Чаадаевым и плевали в Зиновьева, а потом включили Чаадаева и Зиновьева в пантеон – и записали их себе в корпорацию. Но ведь Топоров – это же не Чаадаев, ну он же не Зиновьев, он – просто грубиян. А Топоров был именно классическим русским интеллигентом, как Зиновьев и Чаадаев. В нашем восприятии искусства очень властна иерархия: мы не можем никак поверить, что лейтенант, идущий один в атаку, замещает собой армию и становится генералом естественным образом; ему ведь это не положено. Ладно, Зиновьев – к нему привыкли. Но вот Топоров? Однако это происходит само собой – так было некогда и с Зиновьевым, и с Чаадаевым. Надо просто быть смелым: попробуйте, дело того стоит. Топоров вышел вперед и стал непримиримым человеком – прежде всего к тем, кто проституирует категорию разума. Он всех приучил к тому, что каждый день дает зажравшейся сволочи пощечину – еще и еще. Ты сплясал в Барвихе, жирдяй? Получай. Ты притворился правозащитником, лицемер? Получай. Его называли шутом, хотели унизить. Он был шут в той же степени, что Свифт или Рабле: читатели хохотали над теми, кого он высмеял. Думаю, жанр короткой шутки Топоров выбрал случайно, взял то, что пришлось по руке.
Его суждений боялись: он смеялся над самым святым – над корпоративной этикой.
В течение последних позорных десятилетий постинтеллигенция оформилась в корпорацию – такую же корпорацию, как «Газпром» или «Норильский никель», хотя и с меньшим обеспечением. Корпоративные правила выдаются за нормативы русской интеллигенции, решено считать сегодняшнюю корпорацию правопреемницей моральных заветов Мандельштама и Чехова. От имени Чехова и Мандельштама поддерживали расстрел парламента и разграбление страны – с именами Короленко, Толстого и Достоевского на устах идут в обслугу к олигархии. О, служение вполне необременительное! Главная задача сегодняшней корпорации – казаться, имитировать существование интеллигенции. Страна переживает беспрецедентное горе, но требуется объяснить, что это не горе, а заслуженное наказание за недостаточную просвещенность. Основным правилом современной корпорации является круговая порука – и, соответственно, трусость: нельзя усомниться в легитимности корпорации. А Топоров – усомнился. Вы полагаете, суд Диогена или экзамены Сократа были приятны? Дежурная грубость Диогена бесила приличных обывателей – вот и Топоров был именно таким Диогеном.
Среднеарифметический постинтеллигент заглядывал на его страницы с любопытством, но и с опаской. Топоров писал так, что выжигал дрянь каждой фразой, – а ведь это оскорбительно для дряни. Так опасались афиняне Сократа – за то и приговорили к смерти. И Сократ сказал афинянам: вы можете убить меня, но будьте уверены, что вы повредите больше себе, чем мне.
Теперь Топорова нет. И может жирный правозащитник назвать Топорова государственником и охранителем, так будет спокойнее. А он не был государственником, он не государство охранял, а честь. Он был русским интеллигентом. Это трудная должность, но кто-то должен ее исполнять.
Всё, что здесь написано, – вещи объективные; всё это я говорю не от себя – есть много людей, знавших Топорова ближе; его близким принадлежит право рассказать, какой он был. Мы подружились два года назад – времени на дружбу было мало, но, как это случается с единомышленниками, подружившимися в зрелые годы, мы говорили ночи напролет. Поэтому добавлю несколько слов – не для общественного некролога, а от себя лично.
Сегодня трудно дышать от горя, но многие – вздохнули с облегчением. Ушел человек, который не давал покоя.
Ушел человек, который напоминал пустобреху, что он – пустобрех. Можно вдохновенно врать – пузырь сойдет за вольтерьянца. Можно продавать Родину – и тебя не схватят за шиворот.
Так вот, говорю – и надеюсь, что меня слышно. Смерть Топорова сплотила многих. Русская интеллигенция не умерла. Там, где Топоров говорил слово, теперь скажут два. Ваше время прошло. И это он сделал так.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































