Текст книги "Стратегия Левиафана"
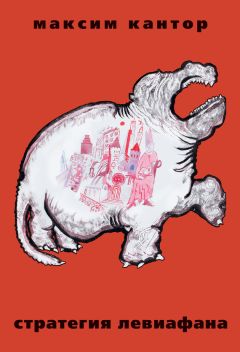
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
2. Торжество тени
Так возникла унылая школа московского концептуализма – паноптикум пожилых мальчиков и их бойких кураторов. В те годы во всяком учебном заведении, готовящем бесконечных инженеров, находились остряки, отточившие свое мастерство в курилках под лестницей, – они и стали творцами нового типа. Это была группа вечных юношей, ничего не умеющих и немного знавших, но со смешинкой во взоре, с постоянной ухмылкой и привычным подскоком. Они были неспособны написать подряд два абзаца, продумать мысль длиной в десять сантиметров, нарисовать кошку – но им объяснили, что умений от них не требуется. По самоназванию это была интеллигенция, но интеллигенту отныне не требовалось доказать свою роль знаниями: требовалось иное – бесконечный капустник. Почему же вот эта публика – интеллигенция, возмущались иные. Скептикам предъявляли учебник Михаила Бахтина, пособие по народно-смеховой культуре, объясняли, почему данный недоросль – не просто балбес, но интеллигент с позицией. Рассказывали про скоморохов, жонглеров, трубадуров, объясняли про две культуры. Оригинальную работу Бахтина не читал почти никто – это довольно вязкий текст, – но индульгенцию, выписанную Бахтиным, выучили наизусть. Смейтесь и обретете свободу. Бахтин ничего подобного не писал (про это речь ниже) – но так он был услышан.
Вышучивали стереотипы и штампы бытия – делали это крайне однообразно. Как и следовало ожидать, борьба со штампами стремительно превратилась в однообразный бесконечный штампованный продукт. Собственно, оригинальным может быть лишь создание нового образа – но шутка, по определению, есть вещь вторичная по отношению к объекту шутки. Образов концептуализм создавать не мог – и не собирался. Это была дисциплина вторичная. Сегодня фигурантам под шестьдесят, это все те же пожилые подростки, состарившиеся в вечном капустнике. Они так же шутят, хотя пора задуматься о вечном.
Московский концептуализм и в могилу сойдет с кукареканьем на устах. Спаяла группу нелюбовь ко всему, что серьезно: к живописи, к литературе, к философии и к истории. Тень не может любить знания, поскольку первым знанием будет знание о природе тени.
Страстная ненависть ко всему серьезному и всему первичному осталась главным достижением культуры-2 – это понятный синдром тени. Тень ненавидит предмет, ее образующий. А сама тень предметом стать не в состоянии – она навсегда пуста.
Здесь произошла важная смысловая подмена – отчасти в подмене повинен теоретический постмодернизм, но подлинного эффекта добилась практика постмодернизма.
Рефлексией стали именовать деструкцию, иными словами, предметным действием стали называть эффект отброшенной тени.
А это некорректная подмена.
Рефлексия предполагает независимого носителя данной рефлексии, то есть реальный образ, отдельного субъекта, наделенного независимыми свойствами и независимой реальностью и способностью к суждению. Это независимое суждение и является рефлексией мира – чтобы его произвести, необходимо быть. Вне образа – нет, и не может быть, рефлексии. Но тень не представляет собой отдельной реальности, тень сама по себе не есть самостоятельный субъект; тень – не образ. Тень лишь уплощает существующий образ, переводит образ в ничто. Этим и занимался, в частности, концептуализм. Ни оригинальной живописи, ни значимого словесного творчества концептуализм создать не мог, как не мог создать даже индивидуального образа художника – явлен парад унылых пожилых фантомасов. Возьмите любого, дуньте – там внутри пустота. Он автор ничего, это тень тени.
Тень десакрализует образ – а собственной реальности тень не создает.
Шутка и высмеивание есть по определению – тень серьезного слова, даже тень тени – ибо само высказывание уже есть интерпретация идеи.
Если следовать логике Платона, чувственное воплощение идеи в предмет – есть «тень» идеи, но здесь возникло нечто обратное – а именно: отброшенную предметом тень объявили идеей. Подмену эту произвела философия постмодернизма, а московский концептуализм довел это противоречие до абсурда.
Так возникло властное царство теней, отброшенных смыслами, – но собственного мира тени не создали.
Тень нуждается в субъекте, ее отбрасывающем, но и ненавидит этого субъекта – за первичность. Это ненависть спонтанная, вспыхивающая к любой законченной и самодостаточной форме. Не только картина умерла, не только роман не нужен, но любое серьезное вызывало легкий приступ тошноты, милую зевоту – и остроту, остроту, остроту в ответ. Так они все шутили и шутили, пожилые юмористические юноши, симулякры искусства, конферансье русской культуры.
Стайки молодых людей, называвших себя концептуалистами, не придумали ни единой концепции (так сложилось, что концептуализм не продуцирует концепций), но занимались тем, что разрушали идеологические табу. И это было очень важной, карнавальной работой. Тогда появилось понятие «акция» – артистов звали на площади, на улицы, производить действия, коллективно пошутить, сделать что-либо нелепое и смешное. Это должно было противостоять табу социалистического коллектива.
Юноши ездили на природу, вешали между деревьев смешные лозунги, фотографировались, смеялись – безобидная, в сущности, деятельность. Эту деятельность стали называть контркультурой, актуальным творчеством.
Сначала шутили над социальными табу – и это было смешно, потом они шутили над идеологией – и это было здорово, потом стали шутить над культурой – и это стало глупо, потом стали шутить над страной – и это стало противно. А потом стали шутить над народом – и это сделалось отвратительно. Народа, вроде бы, уже и не было в природе – где он, этот самый народ? Носители смеховой народной культуры – это ведь отныне интеллигенты!
Однако народ тем временем продолжал существовать. Его страна распалась, его нищенские сбережения обратились в пыль, его будущее сделалось сомнительным – но народ все еще жил. Народ еще посылали на войны – в Чечню, или в Абхазию, или в Приднестровье. Народ привычно продолжали убивать – взрывая дома, лишая пенсий, отключая электричество. Причем делал это не злокозненный президент и его коррумпированная клика, а так сказать, вся система вещей, именно принципы блага, которые исповедовала городская потребительская община – финансовый капитализм, рынок, корпоративные истины.
Можно ли оставаться носителем «народно-смеховой культуры» и одновременно быть включенным в систему корпоративного правления? Можно ли быть скоморохом, зовущим к торжеству финансового капитализма? Этот вопрос благополучно разрешен на лондонских эстрадных концертах оппозиционной куплетистики – да, скоморох может быть не левым, но правым. Но меняет ли это суть скоморошества – это вопрос открыт.
По идее, смеховая культура должна выражать сочувствие угнетенным и осуждение угнетателей. Но произошел моральный сбой: среда потребителей шутила, но осуждать систему вещей не хотела – шутливые акции были плотью от плоти акций финансовых, концептуализм стал официальным языком финансового капитализма, а вечная шутка – сделалась чем-то вроде дежурной улыбки банковского клерка.
Над народом скоморохи финансового капитализма шутили не со зла. Бенефициары шутливых акций ничего другого не умеют: могут или острить – или кусаться, если значительность острот поставлена под вопрос. Это довольно нелогично: если разрешено высмеивать официальную культуру, то должно быть разрешено высмеивать тех, кто высмеивает официальную культуру: академиков осмеяли, теперь пошутим над теми, кто их высмеял, но этого уже нельзя. Шутки объявили «неприкасаемым запасом» второй культуры, то есть идеологии. Так возникло неожиданное развитие теорий Бахтина и Ленина – появилась «антинародная смеховая культура», идеология нового времени.
3. Полдень культуры
Вторая культура, разумеется, есть – это идеология, тень живой культуры. При советской власти такой тенью русской культуры стал соцреализм, в эпоху разворовывания Российской империи – тенью культуры стал концептуализм, официально объявленный актуальным искусством победившей демократии.
Тень у культуры имеется всегда, но время от времени эта тень удлиняется – длина тени прямо пропорциональна степени гниения общества. В гнилых государствах тень культуры – то есть идеология – неимоверно длинна. В эпоху Возрождения, в эпоху Просвещения германских княжеств, во время Перикла – тень у культуры короткая.
Эти времена, когда тень коротка, следует определить как Полдень культуры – и потому, что тень идеологии сжалась, и потому, что само здание культуры явлено во весь рост.
Культура народа – здание цельное, многоэтажное и сложнопостроенное, но это единое здание. И язык в этом здании один, органично сплавляющий в себе жаргон жонглеров и латынь монастырей, язык революционных матросов, брань таксистов и истовую проповедь Аввакума. И Чаадаев, и Толстой, и Маяковский, и Аверинцев – это все один и тот же язык, это одна и та же культура. И Хармс – и Шолохов, и Гумилев – и Симонов – это одна и та же русская культура, как это ни покажется оскорбительным для тех, кто делит культуру на «белых» и «красных». В конце концов, и Гумилев и Симонов – оба были солдатами и знали, что такое воевать за Родину. Но есть и еще более важное основание единства.
Именно про это основание единства и написан «Гаргантюа и Пантагрюэль». Книга эта – оглушительно смешная и исключительно серьезная одновременно, как и все книги такого, эпического замысла – «Дон Кихот», «Похождения Швейка» или «Пиквикские записки» Диккенса.
«Гаргантюа и Пантагрюэль» – есть фактический Новый, Новейший Завет времени Ренессанса. Это новое Пятикнижие, где Бог-отец и Бог-сын явлены в окружении современных им апостолов-бражников, Эпистемона, Эвсфена, брата Жана, Панурга и других, общим числом двенадцать. Рабле нисколько и не скрывал своего религиозного, архисерьезного замысла – и то, что ему было «милей писать не с плачем, но смехом, ведь человеку свойственно смеяться», – не исключает того, что цель книги серьезнейшая. Это был столп веры – освобожденной от ханжества, иерархии лизоблюдов, жестокости мирских царей. Вера Рабле была в христианское свободное государство, модель которого он нарисовал в проекте Телемской обители, построенной братом Жаном по воле Пантагрюэля. Эта фактическая утопия равенства и братства – подобна теологическому проекту всемирной монархии Данте. В этой конструкции и содержится смысл послания Рабле.
Этот столп веры поддержан рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, Пиквиком, которого иначе как ангела во плоти и понять невозможно, и героем Швейком – воплощением не столько шутки, сколько сострадания к народу.
Теория двух культур (официальной мертвой и параллельной живой, смеховой) – властно овладела умами, даже и спросить неловко: а вдруг Бахтин – ошибся, и двукультурности нет никакой? Однако и в святости КПСС некоторые усомнились, и вопрос такой правомерен. И Поппер не во всем прав, и Деррида не безупречен, и деконструктивизм – не единственный инструмент анализа реальности, и шутка – не рефлексия. Мы обязаны допустить такой поворот рассуждения – хотя бы в качестве уважения к тому рассуждению, что тотальных истин не бывает, и если Поппер в этом отношении прав, то его теория первой должна быть подвергнута сомнению.
Не существовало общего для всех тоталитаризма, нет единой для всех свободы, фашизм и большевизм – разные степени угнетения, нет общего зла, но есть множество градаций зла – как нас учит Данте и Святое Писание. Жизнь и история сложнее либеральной дихотомии: и культура сложнее дихотомии тоже.
Менестрели и монахи Провансаля и Лангедока, альбигойцы и крестоносцы, большевики и белогвардейцы, нищие и короли, бомжи и финансисты – это одна культура. Эти люди делят одну история, в которой смех и слезы сплавлены в одно, как это ни банально звучит – этот сплав и есть судьба народа, судьба культуры.
Не было отдельной второй культуры, но идеология – инструмент управления культурой – имеется. Иногда идеология выдает себя за авангард – так Тень из сказки Шварца стала премьер-министром. Надо сказать тени: «Тень, знай свое место!» – и тень растает.
А культура у общества бывает только одна, как свежесть у осетрины, как язык у народа.
И смеховая культура народа образует единое целое с культурой монастырей, великие трубадуры – воплощают знание и насмешку над знанием, веру и сомнение – и все одновременно. Сочетание несочетаемого – это и есть культура.
«Куда бы ни пошел, везде мой дом, чужбина мне – страна моя родная», – эти противоречия совместимы, – «отчаянье мне веры предает, я всем принят – изгнан отвсюду», – писал Франсуа Вийон.
Памятник Вийону, бродячему поэту-жулику, – поставили у Парижского университета Сорбонны.
Проект неравенства
В архитектуре, в отличие от прочих искусств, суждение дилетанта важнее, нежели оценка профессионала – просто потому, что архитектура создает мир, в котором живут люди, а люди имеют право иметь собственное мнение о мире, где живут. Именно их мнение и ценно, а вовсе не мнение того, кто данный мир соорудил.
Вы не можете людям сказать: вы просто не понимаете, как это хорошо. То есть сказать-то можно, но ровно с тем же основанием, с каким политики говорят гражданину, что ему стало жить «лучше и веселее» и что демократия – лучший из возможных порядков на земле. Сказать-то можно, но жизнь от слов не станет краше. Так что, если хотите знать, хорошо ли жить при Путине, спрашивайте не чиновника из министерства, а бабку в бакалее. Хотите узнать про московскую архитектуру – спрашивайте москвичей, а не Рема Колхааса.
От картины можно отвернуться, книгу можно не открывать, музыку можно не слушать – но люди не могут не жить в домах, не ходить по улицам, не смотреть в окно. Они приговорены знать архитектуру и судить о ней. Мы судим о погоде и можем понять, идет ли дождь, хотя мы не метеорологи. И мы понимаем, что продукты дорожают, хотя мы не экономисты. И мы понимаем, что город стал уродливым, хотя большинство из нас – не профессиональные архитекторы. Скажу больше: суждения моей матери или жены, которые далеки от архитектуры, всегда были точнее, чем суждение архитекторов – потому что у них глаза москвичей, которые любят город, живут им и дышат. И ничто не застит им зрения – ни корпоративная мораль, ни цеховая солидарность.
Эта преамбула написана для того, чтобы не расшаркиваться: мол, я, извините, не профессионал, и мое мнение ничего не стоит, но я вот скажу…
Я профессиональный москвич с пятью поколениями стажа, я исходил свой город вдоль и поперек, бродил ночами по бульварам и набережным, лазал по крышам домов и заколоченным церквам в ту пору, когда их еще не открыли; я жил в коммуналках, снимал комнаты, сменил пять квартир, моя родня рассыпана по городу. Видел дома с обвалившимися балконами, видел обветшалый модерн, видел, как возводили брежневские хрущобы и цековские кирпичные бараки. Это мой город, и я знаю, о чем говорю.
Так вот, свой город я разлюбил. Город стал некрасивым и неудобным. Москва была красивым и особенным городом, удобным для жизни и прогулок. По Москве было принято шататься; «иду-шагаю по Москве» – это было занятие всякого, не только молодого. По Москве шатались точно так же, как шатаются сегодня по Парижу, Берлину, Барселоне, Лондону. В Москве было принято гулять – были дворы для футбола и ребячьей беготни и внутренние сады для времяпровождения пожилых жильцов квартала. На Кропоткинской во внутренних дворах были яблоневые сады. Во дворах малосимпатичного района на Войковской сидели доминошники, мальчишки пускали змея, а центр был живой и теплый. Москва стала некрасивым и невыносимым для жизни городом. Трудно поверить, что так эффективно можно было испоганить среду обитания миллионов людей за короткий срок.
За 25 лет совокупными усилиями прогрессивного человечества и архитекторов Москву убили. Хотели, как говорят, хорошего. Но сделали ужасное.
Москву убивали целенаправленно и цинично и, в конце концов, убили. В городе уже нечего любить. Это был красивый город, особенный, не похожий на другие города, а стал город похабный. Я специально выбирал эпитет. Не мерзкий, не гадкий, не отвратительный – а именно похабный. И похабство из Москвы прет. В ней стало неприятно находиться, как в борделе или в гостях у директора ателье. Помните Высоцкого: «Но это был директор ателье и не был засекреченный ракетчик»? Вот этот вот «директор ателье» и победил повсеместно – в виде коллективного заказчика и жлоба. Этот коллективный «директор ателье» – или менеджер Росвооружения, или советник директоров банка – стал значить больше, чем вкус правительства и царя.
В годы Советской власти среди художников было принято осуждать пролаз, которые рисуют вождей, этаких обобщенных налбандянов. Их было не так уж и много – редко кому давали заказ на портрет секретаря обкома; но если находился такой прохвост, его все осуждали – предпочитали ему Фалька. Мораль была для всех очевидна: честным Фальком быть почетнее, чем нечестным Налбандяном. Хитрые налбандяны (шиловы, лактионовы и т. п.) прибегали к псевдоисторической аргументации: мол, во все времена художники работали на заказ, вот, например, Веласкес и Микеланджело работали по заказу, и мы тоже работаем по заказу. Им отвечали с брезгливостью: когда напишешь Сикстинскую капеллу, тогда и поговорим про твое сходство с Микеланджело, шаркун ты этакий. А главное: папа Лев Х на секретаря обкома не похож.
Но еще менее на папу Льва Х похожи держатели акций пенсионных фондов, воры в законе, менеджеры «Газпрома» и депутаты от «Единой России». Однако именно они выступили заказчиками у архитекторов, и архитектура в течение тридцати лет обслуживала вкусы мелкого дрянного ворья. Сперва строили им башенки с лепнинкой и стеснялись – говорили застенчиво: ну, знаете, приходится зарабатывать. А потом стесняться перестали – у ворья появились такие запросы, что особнячок хоть сейчас на Биеннале можно показать. И теперь уже к заказам ворья прислушиваются с интересом – вор нынче продвинутый пошел, много понимает. Хотели ворам навязать свои представления о Витрувии – была такая иллюзия, – и воры обучились быстро. Но еще быстрее обучились принципам и вкусам ворья сами архитекторы.
Купола собора Св. Петра архитекторам не заказали и Сикстинскую капеллу расписать их не попросили, зато прогрессивных вилл по ближайшему Подмосковью настроили немерено. И постепенно вкус архитекторов обкатался под вкусы жулья.
Прежде налбандяны были редкостью – продажности в художественном цеху стеснялись. Сегодня все подряд – налбандяны, все только ворье и обслуживают. А кто еще закажет? Цены, извините, диктуют… Ну так не строй совсем! Иди в подполье! Нет, в подполье не хотят, хотят с ворьем. Беда – все отметились в строительстве хором для ворья.
Некогда советским чиновникам строили типовые санатории, заурядные квадратно-гнездовые апартаменты гостиничного типа. Что, у Брежнева на Гранатном могла разгуляться фантазия зодчего? Задыхался архитектор при Советской власти. Не то теперь – нынче Витрувий такие кренделя выписывает, что ахнешь. Причем количество отстроенных мраморных фазенд прямо пропорционально утраченным городам Российской империи. Впрочем, мы и не любили ее, проклятую тоталитарную страну, пусть себе рушится! Но архитектор – не таксист, ему не должно быть безразлично, кого он катит и по какой стране. Вот отвалился политый кровью Севастополь, а мы ворам – фазенду в прогрессивном стиле. Думаете, это прошло для вас бесследно? Нет, не бесследно. Пребывание в публичном доме очень меняет душу девушки.
Мной лично замечено, что человек спивается за семь лет напрочь; сперва кажется, что его ничто не берет, пьет и не пьянеет, употребляет много водки семь лет подряд – и так превращается в скотину, а потом умирает. Трое сильных мужчин на моих глазах спились и померли, а не дураки были и не слабаки. И с архитекторами произошло примерно то же. Вы сейчас все диву даетесь – где же наша архитектура? Где гении зодчества? Спились – то есть оналбандянились. Настроили ворью особняков – и оналбандянились. Думаю, примерно тот же срок, что и с водкой внутрь, нужен художнику, чтобы оскотиниться. Начинаешь с того, что создаешь прогрессивный силуэт дачи председателя Центробанка, вроде бы и ничего особенно стыдного, даже интересно. Еще пара проектов хороших: коттедж девелоперу Доронину и его темнокожей подруге – а что, элегантная вещь вышла; между прочим, и Микеланджело, и Рем Колхаас на заказ тоже работали… Потом еще одному интересному человеку с запросами, он личность – спекулирует металлоломом; потом еще одному заказчику домик – он просто влиятельный человек, со связями; и так постепенно архитектор превращается в налбандяна. Мало того, не только он оналбандянился, но даже описание этого процесса и прежде всего утверждение и оправдание этого процесса как неизбежного прогрессивного зла превращает критиков, экспертов, знатоков и околотворческую публику в таких же точно мародеров и налбандянов. Однако условились: с нас все как с гуся вода – есть пресловутые условия зодчества, тут ведь иначе нельзя, можно только под ручку с мерзавцами. Простите, а вам тогда что именно в Советской власти не нравилось? Развернуться не давали – где именно? В чем? Вы зачем Сталина ругаете? Вы же еще хуже, чем сталинские клевреты – вы знаете про мерзость власти отлично, вы не верите ни в какой социальный рывок и меры, вы отлично представляете, какой стиль жизни в мраморе воплотили – но делаете это с энтузиазмом. И ждете, что это будет искусством? Нет, так никогда не будет. Вор останется вором, и искусство, обслуживающее воров, будет бандитским. Вы возводите особняки жулью по канонам Витрувия и полагаете, что как-то так, подспудно, эти пропорции облагородят ворье? Так же точно мазурики в притон тащат пианино – чтобы все, как у культурных людей. Но Рихтерами не становятся.
Вы построили малину, граждане.
Бывают каменные джунгли, а вот вы все, сообща, усилиями архитектурных мастерских – возвели каменную малину. Весь город заполнен похабным привилегированным жильем, из всякой псевдоантичной постройки глядит мурло частного охранника – и сколько этой ведомственной швали прикормилось в ваших домах: охранников, консьержей, мажордомов, привратников и вышибал. Это ведь вы их создали, вы этот класс ливрейных подонков между делом спроектировали тоже.
И жить в этой каменной малине, гулять по этой каменной малине – отвратительно.
Архитектор – он прежде всего проектирует образ жизни общества, образ страны, образ будущего. Как Татлин, как Корбюзье, как Микеланджело. Вам не нравится проект общества Корбюзье? О, как все мечтали создать нечто наизначительнейшее – и не столь казарменно-простенькое, а с прицелом на культуру и высокое. Да и заказчик (вот что важно!) был при деньгах.
Когда все начиналось, более манящей профессии, чем архитектор, не было. Помню, мой итальянский товарищ на вопрос, кем воспитает дочку, говорил: ну конечно архитектором, а кем же? Сейчас пора перемен! Все открыто фантазии! Твори, выдумывай, пробуй! Пусть едет в Москву – а там! И глаза закатывал: ведь какие возможности открываются для проектирования человеческого общежития.
То была блаженная пора перемен – ломали казарму, возводили гражданское общество.
Правда, не очень представляли, как это гражданское общество выглядит – но возникло предположение, что облик города сложится из полифонии архитектурных решений. Мы ведь не казарму, не барак строим, мы возводим открытое общество, мы занимаемся зодчеством а-ля Поппер, апофатически обнаруживаем наилучшую форму. Как это сделать? Элементарно – отрицаем все, что оскорбляет свободолюбивый дискурс. И вот так, методом отказа от коллективного чувства прекрасного, от гнездового казарменного стиля, создавали индивидуальные термы, колоннады, портики. Архитекторы всей душой стремились к античности. Не к дорическому, понятно, ордеру – заказчики нынче что побогаче любят, чтобы с кренделями, – но все-таки стильно.
И строили много, на мрамор бабла не жалели, новейшим Барме с Постником – широко башляли. Только вот города не построили, не получилось у архитекторов города – а построили малину.
Почему так вышло?
А потому так вышло, что город – это прежде всего равенство. Именно равенство делает город городом. Утверждение равенства есть то главное, ради чего возводятся дома в городе, это тот принцип, который создает города.
Стена к стене, спина к спине, локоть к локтю, дверь к двери – так встают ряды домов и ряды горожан – в Кале, Амстердаме, Париже, Лондоне, Берлине, Барселоне – везде. Горожане – это равные. Это – ополчение, это – стены города, по словам спартанца Агесилая, это – достоинство каждого, которое прежде всего заключается в том, чтобы не унизить соседа. Первое и главное, что поражает в европейских городах, – это гармония равенства. Когда смотришь на пресловутые крыши Парижа или на лондонскую краснокирпичную застройку, думаешь о единстве общества.
Блочная застройка и сталинская застройка были советскими инвариантами городского мотива равенства – на российский неказистый лад. На социалистический лад изуродовали особняки модерна – превратили в коммуналку квартиру профессора Преображенского. И люди взалкали перемен. Сперва объединили комнаты Преображенского в обширные апартаменты, а неудачных соседей – глухую старушку и ее сына алкоголика – выселили в Фуняково. Не желаем мы таких соседей, мы с прогрессивным дистрибьютором холодильников желаем дружить. И, кстати, вкус у него на уровне – он фазенды заказывает.
Хотели не типовое строить для коллектива, хотели прорывное, личное: как Заха Хадид – с неудобным фестончиком, как Гери – с присвистом. А о том, что архитектура воплощает общество – структуру отношений людей, про это не думал никто. А если думали, то тогда и вовсе удивительно.
Создали проект неравенства – и по проекту неравенства застроили город, задушили все, что было в городе хорошего, а дряни понаставили – не считано. Досадно, что неравенство не позволяет людям долго жить вместе – это стиль властный и победительный, по-своему впечатляющий, но длительной совместной жизни из неравенства не возникает.
Сегодня Москву предложили бросить, ей уже помочь нечем – надо двигаться дальше. Город уже убит, надо перейти на новую площадку, там еще можно начудесить.
И архитектор разводит руками: а что же ему делать? Хорошие люди домов не заказывают. А в стол работать разучились, не «бумажной» же архитектурой заниматься. Про этот героический период «бумажный» архитекторы поминают, как про диссидентство, при котором гениальные романы писали в стол. Неправда, не писали романы в стол, ерунду в стол писали. Правды ради, когда занимались «бумажной» архитектурой, тоже ничего не сделали, проект общества не придумали. Была одна гениальная идея – у Михаила Белова: создать спальные места для бомжей сзади световых рекламных щитов, там спать тепло.
К сожалению, не реализовано – а лучше проекта новейшая российская архитектура не имела. И нечего кивать на «бумажную» архитектуру – если бы там были идеи, вы бы их воплотили.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































