Текст книги "Стратегия Левиафана"
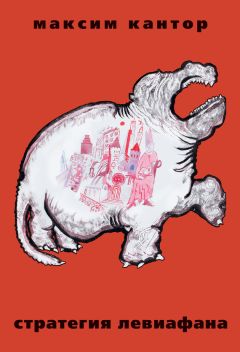
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Мы понимаем закономерности старения организма; старики часто молодятся – однако они все же не живут вечно, это невозможно. Как вышло, что стиль модерн, свободолюбивая имперская эклектика, не умирает? Почему у модерна нет героев, но стиль все еще живет? Почему спирали мазков Ван Гога превратились в завитушки орнамента? Почему клубящаяся линия революционера Домье стала описывать застолья и банкеты? Почему едкое рисованье Тулуз-Лотрека пригодилось в рекламе шоколада? Почему по рецептам Гогена нарисован военный плакат? Как это возможно: девятнадцатый век прошел в борьбе за то, чтобы научиться говорить прямо – умирающий кричит во весь голос с Плота «Медузы», а мир искусства его не услышал? Неужели все они напрасно кричали?
Всякий раз, когда мы идем по музеям, мы спотыкаемся в залах XIX века – произошло что-то непонятное в эпоху романтизма, где-то случилась подмена – там, среди рыцарей Делакруа, там, среди васнецовских баталий.
Прекрасное делается таковым, если воплощает правду – потребовалось девятнадцать веков христианской цивилизации, чтобы выговорить эти простые слова. Потребовалось написать много картин, чтобы доказать, что христианская этика и эстетика представляют единое целое, что Дух Божий нисходит на картину, если картина сострадает униженным и оскорбленным. В конце XIX века Домье рассказал про вагон третьего класса, Милле показал, что крестьянин, собирающий хворост, – прекрасен, Сезанн научил, что достоинство бедняка – крепко, как гора Сен-Виктуар. Как же случилось, что категория прекрасного снова отождествила себя с кокоткой и набриолиненным господином? Разве Ван Гог говорил недостаточно громко?
И как тот самый солдат Первой мировой, спросивший историка Марка Блока: «Неужели история нас обманула?», мы обращаемся к романтикам, ведь они пообещали нам, что свобода возможна – восстание началось с Делакруа.
Рубеж проходит по залам Эжена Делакруа, наиболее значимого художника Франции и всего европейского искусства. Делакруа столь же необходим для понимания Нового времени, как Микеланджело для эпохи Ренессанса, он соединил столько страстей, что его именем клялись и новаторы, и консерваторы. Палитра контрастов досталась от него Ван Гогу, тип крутобедрой красавицы – Майолю, алжирские мотивы – Матиссу, гедонизм – Дали, гражданственность – Пикассо, мистицизм – Редону, христианская тема – Руо. В его творчестве все переплеталось так непринужденно, что вы никогда не скажете, что имеются противоречия, даже принципиальный конфликт с Энгром был мнимым: между «Турецкими банями» и «Алжирскими женщинами» – противоречия не кричащие. Делакруа был одновременно и художником Империи, и певцом свободы, – это он подготовил всеядность стиля «модерн». Делакруа был защитником независимости («Резня на Хиосе»), впрочем, он был и певцом колониализма («Алжирские женщины» не чувствуют ущемления прав). Салонные художники подражали ему, но и независимый Сезанн считал его своим учителем. Однажды Сезанн пошел на Эмиля Бернара с кулаками, когда тот обмолвился, что Делакруа написал нечто «случайно». «Несчастный, – крикнул Сезанн, – как ты мог сказать, что Делакруа писал случайно?!» Не случайным было и то, что Делакруа научил всех, причем революционеров учил революции, а контрреволюционеров – контрреволюции.
Эжен Делакруа, сын хитрейшего Талейрана, написал свободолюбивую картину «Свобода на баррикадах» – по итогам Июльской революции 1830 года, свержения Бурбонов; картина эта стала символом демократии – на голове дамы фригийский колпак, в руке триколор; но что-то мешает поверить в эту народную революцию. Восстание изображено, это факт, но в свободу как общую цель – поверить трудно. Вы можете представить, что сын Молотова пишет «Колымские рассказы»? Девушка с картины, ставшая символом Франции – Марсельезой, Свобода с обнаженной грудью, прообраз статуи Свободы и вечный символ демократии – но нищей крестьянке с полотен Милле или прачке с картины Домье было бы сложно ассоциировать свою независимость именно с этой полуобнаженной дамой. «Человек – не абстракция», – сказал Камю, и свобода человека – не абстракция также, но Свобода Делакруа – это в высшей степени абстрактная посылка. И демократия, воплощенная в этом символе, – сугубо символическая. Картина «Свобода ведет народ» стоит рядом с картиной «Смерть Сарданапала» (разница по времени написания три года), в которой художник описал волнующую гибель империи. Рушится экзотический мир самодержавия, на глазах царя верные рабы закалывают наложниц кинжалами, чтобы положить их в царскую гробницу; одна из наложниц – вылитая Марсельеза. Все это вместе – «Свобода, ведушая народ» и «Смерть Сарданапала» – и образует поле модерна, романтику гибели империй и то, что идет империям на смену. Делакруа вооружил всех последователей – Сомова, Бенуа, Бакста, Розанова, Фройда, Ибсена, Климта, Мунка, Шехтеля – изысканной риторикой, яркой палитрой и гражданской бесчувственностью. То было уже предчувствие «модерна», обещание большого стиля сладкого умирания Европы, перетекание прежних порядков в порядки новые. То был написанный эстетический трактат: как уберечься от бурь века.
Когда в 1848 году в Париже случилась уже более серьезная революция и на улицы вышли крестьяне Милле и прачки Домье, Делакруа повстанцев рисовать уже не стал – слишком конкретной вышла бы эта картина. В июне 1848 года в Париже были реальные баррикады, неопрятный пролетарий высказал свои претензии, и тогда романтическая интеллигенция Франции, начиная от прекраснодушного Теофила Готье и кончая Гонкурами, одобрила расстрел баррикад – в те годы Делакруа ничего про свободу не написал, он писал алжирских женщин, а потом многочисленные охоты на львов в Марокко.
Революция «правого берега» Сены и революция «левого берега» Сены – принципиально разные, просто мы, как правило, не вдумываемся в это различие – когда глядим на «Свободу» Делакруа и «Вагон третьего класса» Домье. И то, и другое движение в некий момент могут показаться единым фронтом – они подчас и представали единым фронтом (в годы Веймарской республики был такой термин «горизонтальный фронт»), – но при необходимости (а таковая возникает в случае реальной опасности для умирающей империи) революция «правого берега» сдает «левый берег» охотно и сразу. Вы никогда не найдете у Делакруа картин протеста против расстрела повстанцев – а Домье оставил нам свидетельство расстрела – «Улица Транснанен,19». И то, и другое движение именуют себя демократическими движениями; и та, и другая риторика одинаково употребляют слова «свобода», «протест», «баррикада», «демократия», но певец «вагона третьего класса» Оноре Домье ненавидел тех, кто вполне мог бы оказаться на невысокой и неопасной баррикаде рядом со Свободой Делакруа, а Свобода, описанная Делакруа, – не предполагала никаких прав для прачек, воспетых Домье.
Это разные жизни, одна из них элитарная, вторая – народная. Эти жизни слиты в одну историю искусств, которая описывает долгое умирание европейских империй. Это хроника прекрасного бесправия и обаятельного коллаборационизма. Редкому художнику удавалось нарушить гармонию долгой агонии Европы – хотя старались многие.
Вопрос в том, знаешь ли ты нечто лучшее, чем империя; вопрос в том, умеешь сострадать или развлекать; решить, для кого и зачем рисуешь – это художник может формулировать по-разному, но суть вопроса от формулировки не меняется.
Лишний человек среди лишних людей
Adveniat Regnum Tuum
1.
Написал Чаадаев немного. Скандальную известность ему принесли «Философические письма». Влияние, оказанное «Письмами» на российскую культуру, огромно, сопоставимо с влиянием Фултоновской речи на послевоенный мир, однако содержание книги мало кому известно.
Эту книгу прятали надежнее прочих; «Мастера и Маргариту», «Доктора Живаго», «Архипелаг Гулаг» держали под запретом совсем недолго, а «Философические письма» Петра Чаадаева даже не запрещали толком, просто не издавали, за ненадобностью. Была публикация в 35-м, да кто ее помнит. Когда напечатали, наконец, полностью, читателей не нашлось.
Слышали про опального философа многие, мнение о нем составили все – зачем читать? Вряд ли можно отыскать интеллигентного человека в России, который в соответствующем месте беседы не сослался бы на Петра Яковлевича Чаадаева. Имя сделалось нарицательным, и несколько вольно излагаемых цитат прилипло к языку российского фрондера: мол, истории у нас в России не было; дескать, живем, чтобы дать урок прочим народам; и вообще, не могу любить Отечество, стоя на коленях.
Тот факт, что эти фразы не являются оригинальными мыслями и могли бы с равным успехом принадлежать, например, Долорес Ибаррури (ср. лозунг Пассионарии: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»), нимало не смущает: в целом понятно, что философ имел в виду. Если спросить, а что же такое сделал Чаадаев, то любой скажет, что философ выразил тоску по западным ценностям, что он предъявил счет России, призвал свою Родину войти в сонм культурных народов. Общее представление имеется: за горькую правду мудрец подвергся гонениям – ну, как Сократ или как Солженицын.
Обличение отсталой Родины питало сердца фрондеров многих поколений – в сущности, знаменитые строчки Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны» есть не что иное, как вольная цитата из Чаадаева. Мандельштам посвятил Чаадаеву специальную статью: во многом поэт отождествлял свою судьбу с чаадаевской, поэтому статья получилась трагической.
В советское время не публиковали ни «Философических писем», ни статьи Мандельштама о Чаадаеве – и образ опального пророка вырос до исполинских размеров. Слово «Чаадаев» было паролем инакомыслящих во времена брежневского правления. Скажешь: «Чаадаев», – и добавлять ничего не надо: дело дрянь, живем, под собою не чуя страны. Текстов никто не знал – но чудом издали биографию Петра Яковлевича Чаадаева в серии ЖЗЛ (автор А. Лебедев, издана в 1975 г.), и эта полубеллетристическая книга стала обязательным атрибутом интеллигентной библиотеки. Сказано в книге было немного, но были приведены фотографии могильной плиты в Донском монастыре, даны некоторые цитаты – собственно говоря, все те же самые: мол, нет у нас истории, нет у нас ни прошедшего, ни будущего.
Информацию о Чаадаеве добывали по крохам. Страницы «Былого и дум» Герцена, посвященные «Философическим письмам», разобрали по строчкам: Герцен был рекомендованным автором – значит, через цитату Герцена, через биографию из серии «ЖЗЛ» и можно донести слово правды.
В Чаадаеве мы и поныне приветствуем самую идею инакомыслия и критику России, в его судьбе были смоделированы будущие биографии правозащитников: официальное объявление Чаадаева сумасшедшим предвосхищает пресловутые «психушки», в которые помещали антисоветских агитаторов в брежневские годы. И наконец, кажется, что его обобщения предрекают годы советской тирании. «Живем, чтобы дать урок другим народам!» – а что, разве не горьким уроком выглядела Россия социалистических времен? «Просвещение нас не коснулось!» А что, разве это не правда? Вон как люди живут в странах развитой демократии – не то, что мы! Большой популярностью у свободолюбивых людей и поныне пользуется фраза «Я не могу любить свою Родину, стоя на коленях, с зажатым ртом, и т. д.». «Философические письма» объяснили русским эмигрантам, почему они покинули пределы России. Сегодня в Нью-Йорке группа эмигрантов собирается открыть клуб «Чаадаев» – удачливым бизнесменам и женам портфельных менеджеров кажется, что их жизненная позиция схожа с чаадаевской: они тоже не любят рабскую Россию.
При этом ни Мандельштам, ни поклонники лебедевской книги про Чаадаева, ни те, кто цитировал «Былое и думы», ни учредители нью-йоркского клуба – никогда не знакомились с реальными текстами первоисточника. Собственно говоря, все эмоции по поводу Чаадаева возникали у них лишь в связи с единственным письмом, опубликованном в «Телескопе» и обильно цитируемым. Это первое из «Философических писем», а всего их восемь.
Писались эти «Письма» (недлинный текст, вообще говоря) долго; Чаадаев не тщился современников развлечь и выступить с произведением не спешил. Долго обдумывал, как бы точнее сказать, и, наконец, сказал. Петр Яковлевич любил повторять, что у него имеется «только одна мысль», вот ее он постоянно и шлифует. Почти всякое положение он многажды проговаривал в частных беседах и в письмах к близким; оттачивал поворот речи, стремился дойти до конца в рассуждении; так скульптор доводит свое произведение до совершенства, полируя камень.
В итоге Чаадаев добился афористичности – и даже аксиоматичности. Многое из сказанного в «Письмах» не имеет доказательной базы. Вероятно, собеседники на протяжении лет следили за мыслью в развитии, но читатели получили ничем не обоснованные утверждения. Доверительным собеседником Чаадаева на протяжении многих лет был Пушкин («поспорим, перечтем, посудим, побраним, вольнолюбивые надежды оживим, и счастлив буду я…»), но дальние знакомые подозревали, что салонный мудрец рано или поздно нечто опубликует. «Письма» ходили в списках с 31-го года, и, однако, когда вышла журнальная публикация, все поразились: типографский набор выглядит категоричнее рукописи.
Кто в застойные времена не собирался рано или поздно напечатать нечто судьбоносное? Подобно Петру Яковлевичу Чаадаеву, и мы готовились прокричать свое «доколе». Придет пора, явим миру свое мнение, а пока «пишем в стол». То, что именно «любитель» сказал веское слово по вопросам общего порядка, – внушало бодрость советскому интеллигенту. Не обязательно быть историком, чтобы судить об истории, – достаточно, что мы понимаем вопрос в целом, кое о чем наслышаны, и однажды всех поразим!
Есть в «Самоубийце» Эрдмана такой смешной эпизод: ополоумевший от своей храбрости мещанин Подсекальников берет телефонную трубку и просит соединить себя с Кремлем, а когда ему отвечает телефонистка, он заявляет: «Передайте там, что я Маркса читал, и что мне Маркс не понравился!» Окружение Подсекальникова смотрит на героя завороженно, они потрясены мужеством. Это весьма точная зарисовка: таких героев и такой благодарной публики было в советские годы без счета. И самое примечательное, что Петр Яковлевич Чаадаев обитателями коммуналок воспринимался точь-в-точь таким же Подсекальниковым. Завороженно смотрели на фразу «В России истории не было» – и переживали катарсис гражданского чувства. Российский мещанин привык доверять авторитетам: в «Правде» пишут, что социализм построен, стало быть, так и есть; в «Коммерсанте» пишут, что рыночная экономика сулит народу выгоду, а значит, жить станет лучше при капитализме; Чаадаев считает, что истории в России не было, – ну, значит, ее действительно не было! И даже если в глубине сознания возникает вопрос: а что же было-то вместо истории? – такой вопрос задать стесняются. Строго говоря, громкая фраза «В России не было истории» сама по себе – пуста, она стоит утверждения «Я Маркса читал, и Маркс мне не понравился»; отдельно взятая, эта фраза – точно такая же белиберда. Однако сколько обличений окаянному режиму было выписано с этим роковым эпиграфом! Менее всего Чаадаев мечтал получить таких последователей.
Примеров злосчастного использования чаадаевского имени много – приведу один. В предсмертные годы Петр Яковлевич Чаадаев в письме, отправленном Герцену в эмиграцию, пожелал тому превзойти в анализе русской действительности Котошихина – «стыдно было бы, чтобы в наше время русский человек стоял ниже Котошихина». Любопытно, насколько адекватно Герцен понял чаадаевскую иронию (в том же письме Чаадаев советует Герцену освоить хоть один иностранный язык вполне – и рекомендует французский, посылая письмо в Лондон), но потомки иронии уж точно не разглядели, имена Котошихина и Чаадаева поставили рядом: советскими фрондерами Котошихин почитался за одного из первых глашатых правды о нашем Отечестве. Григорий Котошихин был беглым писцом Посольского приказа, скрывавшимся в Стокгольме, где по заказу шведского правительства он написал уничижительный разбор российской жизни. Впоследствии за убийство, совершенное в нетрезвом виде, Котошихин был обезглавлен на городской площади. Суждения беглого мазурика стали образцом критики Отечества, подчас по степени огненности их сравнивают с чаадаевскими. Российская история знает бесчисленное множество подобных биографий; перебежчики, воры и спекулянты охотно критикуют былое Отечество, часто приключения стяжателей выдают за биографии мучеников, что не вполне пристойно по отношению к действительно стоическим и правдивым людям – протопопу Аввакуму, Чаадаеву, Чернышевскому.
Чаадаев не сводил счетов с Родиной, напротив, хотел Родине служить, безыскусно излагая рецепты общественного блага. Однако сколько Иполит Маркелычей/Ипполитов Матвеевичей, визионеров, мистиков, прозорливцев ютилось по российским кухням, грозя Уйцраору российской государственности разоблачением – и брали примером они автора «Философических писем»! И визионерская «Роза мира» Даниила Андреева, и геополитическое «Письмо вождям» Солженицына – это оттуда, из пафоса чаадаевских писем. Мог ли догадываться Александр Исаевич о последствиях отторжения от тела России «азиатского подбрюшья»? Вряд ли он заглядывал столь далеко. Чаадаев же был озабочен именно дальним будущим.
Казалось, что Чаадаев современен: Ключевский с Соловьевым разгребают пыльные архивы, а этот – свой, он говорит сразу о главном, как и мы на своих кухнях. Чаадаев стал героем полуграмотных фрондеров: мы обучились безапелляционности суждений и воспринимаем только салонные афоризмы.
Необходимой деталью образа является физический облик Чаадаева, аскетический и одновременно изысканный. Гладко выбритый лысеющий череп, прямая осанка, негромкая отчетливая речь, строгое платье – все в данном человеке совершенно. По свидетельству современников (Герцена, например), Чаадаев появлялся в салонах и приковывал к себе внимание: ни с кем не общаясь, стоял в стороне, созерцал общественный мутный водоворот. С легкой руки Пушкина, описавшего Чаадаева как привередливого денди («второй Чадаев, мой Евгений… в своей одежде был педант»), и Жихарева, уверявшего, что Чаадаев «возвел процесс одевания в ранг искусства», повелось считать, будто не только суждениями, но даже физическим обличьем своим ставил перпендикуляр к российскому болоту. Наше бытие не только лживо, оно вульгарно; Чаадаев противостоял фальши как на интеллектуальном, так и на бытовом уровне.
Если добавить к этому, что представители советской оппозиции имели вид неухоженный; если вспомнить, что словесные излияния вольнодумцев сопровождались водочными возлияниями, а речь была путаной и комканой, – станет ясно, что пример строгого педанта волновал и манил.
Характерен московский апокриф о встрече писателя-диссидента Владимира Кормера с философом Мерабом Мамардашвили.
– Володя, – сказал Мераб, – джинсы с пиджаком не носят!
– Может быть, Мераб Константинович, у нас и истории не было?!
2.
Роковые слова «Истории в России не было!» повторяли все подряд, нимало не заботясь о том, что такое история. У людей патриотических эта сентенция вызвала раздражение.
Обиду патриотов можно понять: разве мыслимо отменить историю народа? Мы просыпаемся, идем на работу, играем с детьми, болеем – разве это не наша история? Если говорить о событиях общественных, то Россия прожила длинную жизнь (не столь длинную, как Европа, – но ведь и существование Европы длится менее, нежели существование Китая). Россия воевала, принимала конституции, крестилась, бунтовала, меняла строй с монархического на республиканский, а экономику с капиталистической на социалистическую. И на тебе! «Не было истории!»
Как известно, Пушкин отозвался личным письмом на «Письма», спор Чаадаева с Пушкиным о наличии истории в России напоминает спор Остапа Бендера с ксендзами о наличии Бога. «Бога нет, – сказал Остап. – Есть, есть, – сказали ксендзы». Чаадаев говорит, что у России нет «ни прошлого, ни настоящего, ни будущего», а Пушкин возражает: а как же Петр Первый, «который один уже есть целая история», а наши предания старины, Олег с Ольгою? «Неужели это не история?»
Пушкин, подобно Аристотелю, полагал, что история есть перечень того, что с нами было, а Чаадаев считал, что перечень фактов есть «история» с маленькой буквы, а великая История – есть «нечто иное» (если пользоваться определением Карлсона (см. «Малыш и Карлсон», часть третья)). Чаадаев рассуждал об истории в традиции немецкой философии: история – это общее для всего человечества движение, в одном направлении и с единой целью.
Одновременно с тем, как писались «Письма», в Берлине читал лекции по философии истории Гегель – впоследствии лекции оформились в специальную книгу. Движение мирового духа, описанное в «Философии истории» Гегеля, не похоже на то, о чем писал Чаадаев, но представление о едином замысле миропорядка – совпадает. И вот этой большой Истории в России не было, полагает Петр Яковлевич Чаадаев.
В письмах Чаадаев трактует «соучастие в общих мировых делах» (то есть то, что, по его мнению, есть подлинная история) как соучастие в объединяющей всех христианской вере. Это щекотливый вопрос – ввиду наличия ислама, например, но Чаадаев обходит эту ловушку, считая ислам своего рода ответвлением христианства.
Если лишить «Письма» Чаадаева их религиозной посылки, то сами по себе исторические тезисы будет легко оспорить.
Чаадаев, как следует из текста первого письма, европоцентрист. Читатель вправе сделать вывод, что историю автор понимает как развитие от дикого состояния к цивилизации; значит, флагманом цивилизации является Европа, а мотор этого флагмана – христианская доктрина. Дихотомия «варварство – цивилизация» в первом письме прочитывается легко; иначе как объяснить то, что Россия не попала туда, куда попали все приличные народы? Фатальной неудачей России, по Чаадаеву, является Схизма, отделение православия от католичества, отпадение тем самым, от общей судьбы европейских народов. Дальнейшие несчастия – к их числу относится затянувшееся крепостничество – потому приключались в нашем отечестве, что духовный образец, очевидный для европейцев, в России отсутствовал. Соответственно, личное совершенствование («Философические письма» носят воспитательный характер, подобно «Письмам к сыну» Честерфильда) в России затруднительно; надобно принять общие для цивилизации правила.
На это сразу находится ответ. Положение дел в Европе в сороковые годы девятнадцатого столетия тоже было не блестящим. Например, Диккенс видел недостатки в организации работных домов и отрицательно относился к детскому труду; Жюль Верн порицал работорговлю, которую европейцы вели в Африке; Бальзак с неприязнью описывал махинации капиталистов, а Энгельсу не нравилось положение рабочего класса Манчестера. Спустя двенадцать лет после публикации «Философических писем» выходит Коммунистический манифест Маркса и Энгельса, который подытожил европейские волнения, современные Чаадаеву. Революционный 48-й год называли «Весной мира» – и революции прошли по Европе везде: в Германии, Австрии, Венеции, Ломбардии, Венгрии, Франции, Хорватии – не затронув лишь Россию да Великобританию. Не от избытка благоденствия зародилась мысль о Коммунистическом манифесте; однако Чаадаев продолжает говорить о европейской цивилизации в превосходных тонах («Существует ли более одной цивилизации?» – постоянный чаадаевский рефрен) – в то время, как сами европейцы уже эту цивилизацию хоронили.
Сегодня не заметить этого противоречия – между реальной европейской жизнью сороковых годов и чаадаевским панегириком цивилизации – трудно; противоречие имеется. Сегодня оно воспринимается тем более остро, что в наше время Россия предприняла очередную попытку воссоединения с Западом, вхождения в западную систему ценностей – и как раз в то время, когда Запад испытывает острейший кризис, в том числе кризис идеологический.
Надо сказать, что европейскую цивилизацию хоронить стали давно, вовсе не Шпенглер в 1918-м году до этого додумался, Европа умирает последние двести лет. Отчего-то для тех, кто хочет опровергнуть сведения о плохом самочувствии Европы, длительность болезни служит самым лучшим аргументом в пользу здоровья: мол, так долго хоронят, а Европа-то живехонька! Однако продолжительная болезнь – как в случае престарелого члена Политбюро, так и в случае Римской империи – все-таки есть свидетельство умирания, а не притока витальных сил, с этим ничего не поделаешь. Разумеется, умирание сложного организма проходит долго – в единый день смерть не случается; но, как говорит ирландская поговорка: «Когда Бог создавал время, он сделал его достаточно» – что такое двести лет? То, что уже в девятнадцатом железном веке люди почувствовали запах гнили, – зафиксировано. В чаадаевское время Жозеф де Местр писал, что он умирает вместе с Европой, и это «хорошая компания» для перехода в мир иной.
Однако последователи Чаадаева глухи к свидетельствам самих европейцев: из России европейские неурядицы видятся иначе – нам бы их проблемы! Подобно диссидентам брежневских времен, которые не желали слышать о зверствах португальцев в Конго и резне в Калимантане, но говорили: «Подумаешь, проблемы! У нас в Бирюлево нет свободы слова и потолки в хрущобах низкие!» – чаадаевские почитатели не интересуются проблемами западнее Бреста.
Европа – эталон «исторической» страны, у нее есть уникальная миссия в мире, данное положение константно для тех, кто следует чаадаевской системе рассуждений.
Надеждин (тот самый Н. И. Надеждин, что издал первое письмо, а вслед изданию поспешил вступить в полемику) назвал Чаадаева «пророком, предсказывающим назад» – то есть, Чаадаев столь тенденциозно преподнес историю России, что выхода из этой истории не усматривается. Этот детерминизм присущ немецкой философии – и выражение «пророк, предсказывающий назад» происходит из Германии.
Здесь уместно вспомнить строфу из «Высокой болезни» Пастернака:
Однажды Гегель ненароком
и вероятно, наугад
назвал историю пророком,
предсказывающим назад.
Лотман писал о том, что данное определение истории принадлежит Фридриху Шлегелю, а не Гегелю, и что Пастернак, мол, оговорился. Впрочем, оговорка извинительна: «предсказания назад» – это то, чем занимался как раз Гегель, а не Шлегель, и детерминированная картина истории создана именно Гегелем. Правда, «ненароком и наугад» Гегель никогда и ничего не говорил – его историческая картина не оставляет свободы для гаданий и может быть трактована как исторический тоталитаризм: предсказав назад – определяешь то, что произойдет впереди (ср. с лозунгом из книги Оруэлла «Кто владеет прошлым, тот владеет будущим»). Именно восстание против категориального детерминизма гегельянцев стало пафосом постмодернизма конца ХХ века.
В своей «Философии истории» Гегель выписывает приговор отдельным странам и культурам – так, в частности, изображая маршрут шествия Мирового духа, Гегель отмечает тот факт, что Китай выпал из истории, уснул навсегда. Случилось так, что именно сегодня мы стали свидетелями пробуждения Китая, причем пробуждение столь активно, что ошибочный диагноз Гегеля очевиден. Однако, руководствуясь европоцентризмом Гегеля, существовала вся постгегелевская философия, в том числе и та, коей питались последователи Чаадаева.
Истории нет, выпали из истории, однажды не сумели в нее войти, а потом нас уже не пустят – с радостью мазохиста мы повторяли приговор. Мандельштам в упомянутой выше статье пишет о всемирной истории как о Лестнице Иакова – для поэта данная метафора есть символ раз и навсегда заданной иерархичности бытия. Советский художник-концептуалист Кабаков опубликовал некогда статью «В будущее возьмут не всех» – имея в виду то же самое чаадаевско-гегелевско-мандельштамовское: не вошли однажды в историю, так и нечего надеяться! Здесь правомерно спросить: а что Америка? Вошла эта страна в поле общечеловеческой духовной проблематики значительно позже России; христианство, ей усвоенное, не византийского, правда, толка, однако уж точно не католическое, стало быть, в Америке тоже истории нет? В саге о солдате Чонкине есть уморительное рассуждение: если труд сделал обезьяну человеком, то почему же лошадь, которая работает больше обезьяны, человеком не становится? Чаадаев и Дарвин ответили бы, что процесс эволюции завершен, и у лошади нет шансов. Стало быть, у Америки шансов тоже нет.
Конечно, удручающе холодная и неурожайная природа российских пустошей тоже сыграла свою роль. Фразу «Не на шутку спросишь, а создана ли эта страна для жизни разумных существ» цитировать любят чрезвычайно. Сказано хлестко, природа в Неаполе куда как слаще, но совсем не очевидно, что неополитанская культура превосходит культуру российскую. У скандинавов, например, природа вовсе скверная, а у молдаван, напротив, исключительно приятная, однако Рюрик и Вильгельм Завоеватель оказали влияние на Россию и Британию, прибыв туда совсем не из Тирасполя.
Чаадаевский тезис «Можно ли сказать, что существует больше чем одна цивилизация?» стал основой российских преобразований недавнего времени: в самом деле, для чего изобретать велосипед, если у соседа имеется лимузин?
И на этот вопрос тоже ответить надо определенно. Если под цивилизацией иметь в виду преобразование культуры и традиций народа в социальную базу и общественные институты, то цивилизаций существует много – Арнольд Тойнби, например, выделяет двадцать одну цивилизацию, в том числе и православно-христианскую, то есть именно ту цивилизацию, наличие коей Чаадаев отрицает в принципе. Природа и культура России обладают столь сильной валентностью, самостоятельной силой, что превращают благоприобретенный продукт (христианство, коммунизм, демократию) в нечто совершенно особое, русское. И так происходит не потому, что страна и культура недоучили урока, но потому, что данный ученик имеет собственную манеру выражения, и даже когда читает наизусть чужой текст, то снабжает его оригинальным звучанием. Предания наших бабок, могилы наших отцов и пеленки наших сыновей – все это вместе образует достаточно прочный фундамент. Как выражался Гете: «Кровь – это особый сок», и сока этого в российскую почву ушло достаточно.
Не нужно ссылаться на Тойнби, чтобы доказать очевидное: попытки объединить разные цивилизации в одно целое – например, глобализация или сегодняшняя попытка создания «единой Европы» – всегда приводят к появлению синтетического продукта вместо натурального. А синтетический продукт долго не живет. Живая культурная составляющая синтетической цивилизации проявит себя – и различие общественного уклада Португалии и Германии, Греции и Франции станет очевидным, несмотря на общую таможенную зону и единую валюту. Поэтому ответ на чаадаевский тезис прост: да, разумеется, цивилизаций значительно больше, нежели одна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































