Текст книги "Стратегия Левиафана"
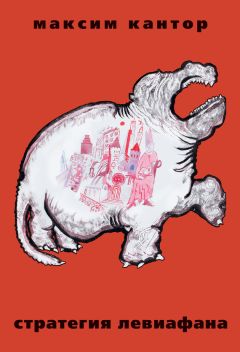
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Таким образом, список положительных героев Михаила Булгакова требуется пополнить еще одним, существенно важным для общей картины мира, персонажем. Рядом с интеллигентом-профессором стоит человек в погонах, твердый в решениях офицер, серьезный военный. Когда наш взгляд, пресытившись карикатурами на жирных, вертких, кривых личностей (а Булгаков таких написал предостаточно), обращается к прямостоящему офицеру, мы уже знаем: вот человек, о котором автор говорит без всякой иронии.
Булгаков, легко и охотно отмечавший комическое и несуразное в людях (скошенные от постоянного вранья глаза, голос, срывающийся с баса на дискант, и т. п.), никогда, ни при каких обстоятельствах не замечает комического в своих героях-офицерах. Комическое Булгаков умел видеть везде: в манере речи писателей («стрелял в него проклятый белогвардеец, раздробил бедро и обеспечил бессмертие»), официантов («икорка, понимаю»), министров («пушной товар»), нэпманов («к этой жилетке шатенка сама просится») – а вот в манерах военных он комического не замечал. Бесшабашно веселье генерала Чарноты – но мы смеемся вместе с ним, а не над ним. Булгаков наделяет полковника Най-Турса картавостью, и это, пожалуй, единственная неаккуратность облика военного; в остальном все они, включая палача Хлудова, люди безупречной внешности, обладатели выразительных манер и примечательных фамилий. Фамилия – то есть обозначение человека в мире – для писателя Булгакова важна крайне. Булгаков оставил невероятно длинный перечень смехотворных персонажей с потешными именами и фамилиями, каждая из которых звучит как характеристика: Рвацкий, Швондер, Семплияров, Латунский, Рюхин, Лиходеев, Варенуха. Писатель давал персонажу фамилию, как иной дал бы пощечину – навсегда метил шельму сочетанием звуков. Произнесешь «Швондер» – тут слышится и «вошь», и «вонь», и «шваль», и уже не требуется дополнительного рассказа. Ни одному из своих офицеров Булгаков потешной фамилии не дал. Любопытно то, что прототип Хлудова, генерал Слащев, носил не особенно привлекательную фамилию – писателю ничего не стоило усугубить ее свистящие и шипящие звуки, однако он дал герою-офицеру фамилию холодную и твердую, как дуло ружья.
Интеллигенту в мире, описанном Булгаковым, живется плохо – он на грани гибели. И мир непременно раздавит его, а если что-то и спасет, то удачно и вовремя встреченный военный начальник.
Нетрудно заметить, что такое чудное совмещение любви к порядку и к независимости интеллигенции, сочетание страха перед стихией и безусловного принятия произвола властей – эту чудную смесь государственности и тяги к свободе Булгаков унаследовал от Пушкина. Пушкин, по выражению философа Федотова, «певец государственности и свободы», определил весьма существенный алгоритм сознания российского писателя – человека, сочувствующего народу, но и опасающегося народа, человека, оппозиционного власти, – но и надеющегося единственно на власть.
Представление о верховной безжалостной власти как о единственном препятствии на пути варварства достигло кульминации в главном романе – где стихии чиновного своеволия и социалистической распутице противостоит Сатана. Надежды в этом мире нет, положиться не на кого – спасение приходит от Сатаны. Тут есть от чего растеряться. Сделать Сатану положительным героем книги о евангелисте (а Мастер, несомненно, евангелист) – дело практически кощунственное. Изобразить Сатану фактически единственным положительным героем всемирной мистерии – до этого не додумывался ни один писатель, включая в список Мильтона и Гете. Мефистофель у Гете все же персонаж не особенно симпатичный. Он много знает о мире, он замечает подлости и не любит корыстолюбцев, но добра творить отнюдь не собирается. Не то Воланд – этот постоянно творит добро, он, можно сказать, вершитель справедливого суда, он – Хлудов последнего акта, только во вселенских масштабах. Не вмерзший в лед проклятый носитель зла (как изображает его Данте), но деятельный, глубокий, внимательный к мелочам, заступник обиженных светской властью, ценитель и защитник прекрасного – вот каков булгаковский Сатана. Противопоставить стихии Советской власти писатель был готов что угодно – так и Черчилль однажды сказал, что, если бы Люцифер пошел против Гитлера, то он заключил бы союз с адом. Сатана (то есть Воланд) исполняет в мире, созданном Булгаковым, строительную функцию, он деятелен и справедлив.
Насколько правомерно суждение, будто личные отношения Булгакова со Сталиным (последний, как известно, поучаствовал в судьбе писателя, устроив работать во МХАТ), отражены в отношениях Мастера и Воланда – сказать трудно. Скорее, в данном случае уместно вспомнить взаимоотношения Мольера и Людовика – в пьесе «Кабала святош» и в «Жизни господина де Мольера» Булгаков оставил нам точную хронику своих отношений с властью. Призвал к себе, обласкал; мог погубить, но посадил за стол и накормил. Смотрите, завистники-критики, смотрите, сборщики податей, вот, сам король посадил меня рядом с собою! Власть пугает, но и надеяться более не на что; король – самодур, но он защитит. То, что отношение писателя к государственной власти – и отношение писателя к Советской власти не совпадали, в этом нет сомнения; и происходило так именно потому, что Советская власть в представлении Булгакова была не вполне властью. В культуре, где фактор стихии – основной, где разлив Невы (см. «Медный всадник»), или разгул петлюровщины (см. «Белую гвардию»), или разбой чиновничества (см. любое произведение русской литературы) задавят каждого, – в этой культуре одна надежда: на Петра, на Хлудова, на Пилата, на Сатану, на государственность. А Советская власть (по Булгакову) опиралась именно на стихию, в этом ее беда, в этом ее ошибка. Писатель даже предрекал такой форме управления гибель, говоря, что сегодня Швондер натравливает пса Шарикова на профессора Преображенского, не понимая того, что завтра Шариков погубит самого Швондера. Распространено мнение, будто Булгаков был в оппозиции к Советской власти; к Советской – да, но не к власти вообще. Ничего подобного толстовскому отрицанию государственности он никогда не испытывал и не пропагандировал; напротив, если и изображал носителей власти отрицательно (гетмана Украины в «Беге»), то лишь потому, что те отказывались от бремени власти. Узнав, что гетман предал войска и бежал, оставив город Петлюре, полковник Турбин приказывает юнкерам срывать погоны и разбегаться – предано самое главное, предана государственность: умирать более не за что. Упрек Советской власти, разрушившей русскую государственность, Булгаков предельно ясно сформулировал в пьесе «Иван Васильевич» – он изобразил управдома, захватившего царский трон. В данном случае Булгаков довел до реального воплощения известную фразу Ленина о том, что кухарка сможет управлять государством. Попутно следует отметить, что Ленин говорил иное: надо поднять образование общества до такого уровня, а власть сделать народной до такой степени, чтобы и кухарка могла управлять государством. Как бы то ни было, Булгаков написал то, что, по его мнению, сделали кухарки и партийные безграмотные активисты, дорвавшись до власти. Вот сели в царских палатах два мелких негодяя – карманник и управдом, и вершат государственные дела, разбазаривают страну, воруют драгоценности, набивают карманы. Совершенная правота Булгакова подтвердилась много позже, – но эти эпизоды гиперболического воровства и расхищения государственной собственности уже относятся к истории сегодняшней.
Притягательность Сталина (а то, что Сталин завораживал воображение Булгакова, занимал его мысли – несомненно) состояла в том, что в России заново начала строиться государственность, уже не советская, не большевистская, но просто государственность как абсолютное воплощение власти. И природа нашего края устроена так, что люди, и даже, и прежде всего писатели-гуманисты тянутся к этому системообразующему началу, которое именуют то «петровскими реформами», то «демократическим централизмом», то «централизованной демократией». Какое место в данной картине мира, где в центре находится тиран, а по краям дикий народ, занимает художник – и вообще, оставлена ли «вакансия поэта», – на этот вопрос Булгаков старался ответить всю жизнь.
Булгаков оставил несколько автопортретов: молодого доктора из «Записок юного врача», Николку Турбина из «Белой гвардии», писателя Максудова из «Театрального романа», разумеется, Мольера – и последний, щемящий автопортрет Мастера из романа. Раз от разу автопортреты становились все мрачнее: Николка Турбин еще задорный и энергичный, писатель Максудов еще сохранил силы прельститься театром, Мольера еще воодушевляет признание короля – но лицо Мастера уже омрачено навсегда, мы не помним, чтобы Мастер улыбнулся. Так в холстах Рембрандта, от юности до старости писавшего автопортреты, постепенно сгущалась тьма вокруг лица, и в последних автопортретах измученный старик выглядывает из непроглядной черноты. То, что Булгакова «травили», общеизвестно; это слово слишком абстрактно, значение его стерто, но, вообще говоря, травля художника – это далеко не абстракция, это каждодневная пытка.
Булгаков слишком хорошо знал себе цену – совсем как его герой, Мастер. Он знал, чего стоит та или иная его строка; знал, что владеет русским языком как никто из современников. Он назвал себя Мастером – весьма просто обозначив свое место в русской литературе. Если они – писатели, то, значит, я никакой не писатель. Если вот это называется современным искусством – тогда я действительно и не современный, и не художник. А кто же тогда? Я – мастер.
Любопытно то, что так же (то есть как к ремеслу, а не как к искусству) относился к своей работе и Маяковский; идейные противники, Булгаков с Маяковском были поразительно во многом схожи. Булгаков работал над речью, он не написал ни единого слова, звук и значение которого были бы ему неведомы. То, что мы называем особым стилем Булгакова, есть просто в высшей степени осмысленная русская речь – писатель знает, что именно он хочет сказать, и слышит, как выговариваются его слова. Совпадение звука речи и смысла сказанного – задача почти что поэтическая, но в русской литературе существует несколько мастеров, так относившихся к слову в прозе. Так писал Гоголь, так писал Толстой, так именно писал Платонов, и Булгаков тоже писал так. Язык (русский не исключение) живет своей отдельной от замысла жизнью, он течет своим собственным течением, и надо обладать очень ясным умом и очень чутким ухом, чтобы войти в течение языка, и сделать общеупотребимые слова своими собственными. Требуется не менее чуткое ухо, чтобы уловить разницу в звуках осмысленной речи – и речи, не обремененной заботой о смысле. Слова говорятся одинаковые, и даже содержание будто бы имеется – но речь не превращается в искусство. Мольеровский Журден однажды открыл, что говорит прозой; вообразите, что тысячи Журденов будут считать, что они не только говорят прозой, но еще прозой пишут. Вообразите, с какой ненавистью отнесутся они к тому неосторожному человеку, который укажет на ошибку в их самооценке. Булгаков и оказался таким неосторожным человеком – и нажил себе врагов прежде всего среди коллег по ремеслу. Травит художника не власть – что за дело власти до художника? Травит художника не толпа – разве интересуется толпа его опусами? Травить, целенаправленно и со смаком, может только артистическая интеллигенция, люди со взглядами, с художественным образованием, с признаками таланта. Они ведь тоже литераторы – и они ведь разбираются в искусстве.
«Вы разве читали мои стихи?» – спрашивает Иванушка Бездомный у Мастера, когда тот поморщился при слове «поэт». «Так что ж, я других разве не читал», – рассеянно отвечает Мастер. Он не писатель, он не поэт – он мастер, и он совсем не старается скрыть своего отношения к халтуре. Такое, разумеется, простить нельзя.
Писали критические разборы его сочинений, пасквили и доносы, потом просто забыли о нем – нет такого писателя. Не давали работы, снимали пьесы с репертуара, не печатали. И не то чтобы дело было только в идеологии – нет, дело было в том, что сегодня определили бы словом «немодный». Оказалось, что правильная речь Булгакова – это вчерашний день, так давно не говорят. Тогдашний мейнстрим назывался «пролеткультом», но суть от термина не меняется – требовалось разделять эстетические правила союза коллег, а правила эти (как всякие общие правила в искусстве) были крайне бессмысленными. Напрасно он показал им свое пренебрежение! Когда начинается травля одиночки, в собратьях по цеху включается инстинкт стаи – каждому необходимо куснуть отщепенца. Булгаков сначала отшучивался, отвечал фельетонами, потом шутить перестал – травлю сплоченного коллектива просто выдержать, когда тебе тридцать; потом становится тяжелее.
В романе Мастер показан тяжело больным, у него болит душа, он бесконечно устал.
Булгаков не побоялся изобразить своего героя издерганным, запуганным, нервным. Мастер печален навсегда, он все больше молчит. Да и что говорить: все что хотел, он уже написал в романе о Христе. Евангелие, написанное Мастером (иногда критики называют эту книгу «евангелием от Сатаны»), довольно странное: по Булгакову выходит, что истина и добро могут быть адекватно восприняты только властью – и пророк никогда не найдет отклик ни в ком, кроме своего палача. Немудрено, что такая книга понравилась Сатане, – и Воланд спасает новое евангелие из небытия и вручает миру как последнюю правду. Немудрено и что евангелист, додумавшись до такого грустного сценария жизни, впадает в тоску. Искусство нового времени знает несколько таких судеб – одиночек, впавших в тоску из-за того, что сказали слишком много или увидели нечто крайне страшное. Идти в ногу с веком они не могут, выжить в одиночестве – не могут тоже. Так погибли Кафка и Ван Гог, так погибли Маяковский и Модильяни, – все они, каждый по-своему, оказались несвоевременными художниками. Так умирал и сам Булгаков: он очень хорошо знал, о чем пишет; когда он описывает душевную боль Мастера, получается правдоподобно.
Мастер снимает комнату в подвале дома в арбатском переулке; комната описана довольно точно – речь идет о деревянном двухэтажном доме в Мансуровском переулке, где еще двадцать лет назад существовал тот самый подвал, с окошками на уровне земли, в которые и стучала Маргарита, приходя на свидание. Подвальная комната была маленькая, метров в десять, с печкой, покрытой черной эмалью. Именно в этой печке Мастер и сжег свой роман о Пилате и Христе, о власти и истине. Такая прямая цитата из биографии Гоголя (сожженный второй том «Мертвых душ») отчего-то не наводит на мысль, что если рукопись Мастера не горит, то не должна бы сгореть и рукопись Гоголя, а уж если сгорела рукопись Гоголя, то как можно утверждать, что рукописи не горят? Рукописи, к несчастью, горят отлично – со времен Александрийской библиотеки это слишком хорошо известно. Еще при жизни Булгакова это снова доказали в Европе, сжигая книги на площадях городов, – но тогда, в сороковом, заканчивая роман, Булгаков страстно желал – вопреки одиночеству и безвестности – сказать, что он пишет такую книгу, которая переживет пустое время, переживет моду, останется в веках.
В одном из автобиографических рассказов («Самогон») Булгаков описывает свой собственный быт – в коммунальной квартире, с вечно пьяными соседями, которые бьют детей. Он кричит соседям: «Не смейте бить!», отрывает их от ребенка, потом снова возвращается к столу, садится под лампу, пытается сосредоточиться. За дверью ругань и плач, звон разбитого стекла, мат, грохот. «И тут я сделался железным», – Булгаков сказал себе, что «напишет такую книгу…»!
Требуется мужество для ежедневной работы, если эта работа не нужна никому, кроме тебя. Офицерская выправка, набриолиненный пробор, чисто выбритый подбородок, монокль, галстук – Булгаков самым обликом своим, подчеркнуто аккуратным, противостоял хаосу советского быта. Каждый день к столу, каждый день писать – упорством и волей, вопреки болезни, наперекор травле, в одиночестве и нищете писал Михаил Афанасьевич Булгаков свой последний роман. Он диктовал его, будучи смертельно больным, а этот роман один из самых веселых в русской литературе. Так диктовал умирающий Гашек своего веселого «Бравого солдата Швейка» – и мы забываем, когда смеемся над фразами Булгакова и Гашека, чего стоили авторам их остроты. Помимо прочего, в этом тексте, в его литых строчках, содержится урок стоицизма.
Роман долго не печатали, лишь спустя тридцать лет вышел журнальный вариант с предисловием Симонова, спустя еще лет пятнадцать роман издали без купюр. Правды ради надо сказать, что роман не издавали не оттого лишь, что в нем содержались карикатуры на советских чиновников – просто роман оказался абсолютно несвоевременным. Трудно было написать нечто менее актуальное. Спустя год после завершения книги началась страшная война. Вторая мировая война сменила все представления – в частности, представления об искусстве. На фоне того, что происходило со страной и с миром, страдания непризнанного писателя и его богемной подруги смотрелись бы странно. Что же это за страдания такие – если сравнить их с тем, что реально, фактически сделали с людьми в те годы. Да, заболел нервным расстройством, да, не печатали – но ведь руки и ноги целы, не сожгли в печи, не послали в газовую камеру, не гнил в окопе, не закрывал телом амбразуру. Гибли миллионы, рушились города, по всей Европе работали лагеря смерти, беженцы брели из страны в страну, – и драма Мастера и Маргариты перестала быть драмой, превратилась в романтическую, сентиментальную повесть. Вряд ли в те годы русский читатель оценил бы рассказ о справедливом Сатане – слишком явным было присутствие Сатаны в жизни, и никакой благости от этого присутствия не наблюдалось. Следующие события русской истории – разоблачение культа личности, рассказ о репрессиях ГБ, правда о лагерях, подсчет безвинно убитых – все это никак не способствовало тому, чтобы история любви в арбатском подвальчике вышла на первый план. Симонов и Твардовский, Солженицын и Шаламов сказали куда более существенные вещи о том времени и о подлинной драме страны.
Лишь в семидесятых годах, когда советский быт обуржуазился, когда вновь народившиеся обыватели стали задумываться о дачах и машинах, когда понятие «взятка» сызнова прочно вошло в быт, когда заново встал пресловутый «квартирный вопрос», когда просвещенные люди стали называть себя «средним классом» – тогда Булгакова прочли заново.
Булгаков описал межвоенное время, время растерянного стяжательства, торопливого воровства, мелкое суетливое обывательское время, которое подготовило страшную бойню. Дивизии, созданные из этих самых булгаковских управдомов и застройщиков, журналистов и карманников, прошлись по Европе, убивая и калеча людей, – Булгаков описал то, как варится зелье будущей войны, как подготавливаются рекруты для бойни. Все эти бунши и шариковы, милославские и ликоспасовы, семплияровы и латунские вскоре сделались не карикатурными, но по-настоящему страшными – прежде они крали, потом стали убивать. Читая Булгакова, мы видим, как у обывателя формируется психология гегемона: пройдет каких-нибудь пять лет – и интернациональный «присыпкин» (тот самый герой пьесы «Клоп», которого Булгаков и прочил в могильщики себе и Маяковскому) поставит сапог на тело Европы. И случится так отнюдь не потому, что разгулялась ненавидимая Булгаковым народная стихия – нет, этих присыпкиных поведут в бой генералы и прокураторы, и дирижировать войной станет Сатана. Впрочем, Булгаков так далеко не заглядывал – ему хватало его сегодняшней беды, довольно было драмы одиночки, потерявшегося в суете, обкраденного и оболганного. Он умудрился дожить до начала мировой войны – и не написать о ней; все, что он хотел сказать, относилось именно к периоду межвоенному.
Европейских авторов, писавших в то же самое межвоенное время, называют писателями «потерянного поколения» – они описывали растерянных, не нашедших себе места в новой жизни, героев. Писателем русского «потерянного поколения» был Булгаков. Его роман в большей степени родственен «Триумфальной арке» Ремарка и «Смерти героя» Олдингтона, нежели сочинениям современных ему советских беллетристов. Потому Михаил Афанасьевич и оказался несовременным и устаревшим – ровно по той же самой причине, по какой герои «потерянного поколения» не могли встроиться в современный им капиталистический быт. Потерянный герой Булгакова – совсем как герой его западных коллег – тоже офицер (правда, скорее офицер белой армии или сочувствующий этому офицеру интеллигент), просто он пришел не с Первой мировой, а с Гражданской войны. Как и герои западных книг, герой Булгакова смотрит вокруг – и не понимает, почему все граждане так буйно веселятся, зачем так много пьют, отчего так самозабвенно врут, по какой причине так отчаянно воруют. Миром овладела лихорадочная суета – и честному нормальному человеку в ней нет места. И Олдингтон, и Ремарк, и Хемингуэй пережили Вторую мировую и сумели увидеть то, к чему вело лихорадочное стяжательство тридцатых годов, как именно оболванили обывателя, как квартирный вопрос нашел свое разрешение в окопе и камере. То время, которое мы проживаем сейчас, и тот современный обыватель, который отстаивает сегодня свои акции и квадратные метры, сделали Булгакова актуальным заново – но что еще важнее, вновь актуальным стал исторический закон, рекрутирующий обывателя в солдата. Случилось так, что всю жизнь писатель писал одну тему, одну книгу – а попутно, против воли, написал и другую. Булгаков описывал трагедию художника, зажатого между властью и толпой – но, силой вещей, ему выпало написать трагедию общества, которое власть постепенно доводит до скотского состояния, чтобы потом было легче отправить его на убой. В этом последнем акте трагедии уже не поможет ни мудрый офицер госбезопасности, ни профессор-идеалист, и уж тем более не поможет романтический Сатана. Поможет ли Иешуа – это нам всем предстоит проверить.
Сказанного, однако, недостаточно: как всякое большое произведение, главная книга Булгакова содержит и бытовой, и социальный, и метафизический уровни. В связи с последним следует произнести вот что.
Булгакова легко представить сатанистом – поскольку сатанистов-романтиков буржуазная литература рождала в избытке, вспомним хотя бы Бодлера («Сатана, помоги мне в безмерной беде!»). Сатанистом писатель Булгаков ни в коем случае не был. Даже строгая православная церковь на роман запретов не налагала – просто потому, что это не роман о Сатане, но роман о судьбе христианства.
Упрощенная христианская риторика, беззастенчиво примеряемые на себя поэтами и художниками тех лет маски пророков и апостолов (Маяковский, Есенин, Блок, Гончарова и далее без счета) – вроде бы, это так похоже на Мастера. Однако же Булгаков, сын большой и нутряно, естественно, народно-религиозной семьи, риторику эту не присваивал ради художественного эффекта, но познавал простым детским проживанием веры. Евангелие, лампада, ласковые сестры, колокола близко-близко на горе – это единственная основа его мировосприятия.
Вот ключевая сцена во всем творчестве Булгакова: сестра Турбина молится в маленькой комнате об умирающем брате. Нет ничего за пределами круга, освещенного крошечным огоньком, – ни дня, ни ночи, ни мерзлого Киева, ни белой, ни красной гвардии, ни надежды. Есть только женщина на коленях перед лицом Богоматери – человек перед вечностью. Женщина зовет – и она знает, что если сила ее любви достаточна, то она будет услышана. Она зовет; она знает, Кого она зовет; там, за иконкой – стоит вечно слышащий Бог, огонь которого заключен в милосердии. Не блаженный революционер в розовом венчике; не гвоздящая карающая сила с чудовищными руками гончаровских пророков – но всегда милосердный и всегда умеющий прощать Бог. Надо только верить. Надо только просить – о том, что невозможно, и о том, что бесценно. Сила такой веры в возможность божественного Дара – жизни – попирает смерть. Турбин выздоровеет.
Эта молитва сестры сделала Булгакова одним из самых добрых русских писателей. Он, язва-сатирик, был изумительно добр к созданиям; может быть, притягательная сила его демона, кота Бегемота – в том, что автор этой книги был любовно-внимателен к кошачьей натуре (так гофманский кот, филистер Мурр получился привлекательным из-за того, что у него был реальный – и любимый автором – прототип).
Безбожность первых десятилетий Советской власти уже довольно разоблачали – но дело не только в коммунистической идеологии (если читать Маркса внимательно, эта идеология есть следование заветам Христа). Дело в другом: лампадку сестры было приказано задуть повсеместно, и не только в Советской России. Наступило прагматическое время, час торжества человека над Богом, час первенства материального прогресса над духом. Историю общества объясняли доступно, как таблицу умножения, доказывали как дважды два, что прогресс лучше, чем традиция, что хорошо быть богатым и деятельным, а быть бедным и робким – дурно. То было время рузвельтовской политики «нового дела», кейнсианской теории занятости, американского прагматизма, европейской банковской изобретательности и сталинской индустриализации. Нэпманы, коих окарикатурил Булгаков, потом разоблачил Ежов, а затем уже стерла в прах Вторая мировая, важны именно как носители единственной веры тех лет, веры в материальный успех. Именно твердое убеждение в том, что рубль в руке важнее, чем Бог на иконе, и сделало общество таким, каково оно сейчас. Сравните то время с сегодняшним, сравните то потерянное поколение с новым поколением, которое тоже потерялось и только ждет, что придет пастух и погонит вперед покорное стадо.
Для Булгакова было очевидно (с детства понятно – и всё, не нуждается в разъяснении), что человеческое сообщество не может развиваться без божественной идеи. Свято место пусто не бывает: если бросить его – туда придет дьявол; Сатана завладевает оставленной пустошью. Все эти поэты бездомные, сделавшие карьеру на нехитром слогане «Бога нет», – опасны не сами по себе. Мейнстрим современной культуры противен, но страшен не он, опасно и страшно иное: всякий релятивизм неизбежно призывает Сатану. Так суетливые обыватели, растерянные ловкачи выкликают из черноты свое будущее, и будущее неизменно приходит. Воланд возникает под липами Патриарших прудов именно как следствие разговора карьерного критика Берлиоза и неуча поэта Бездомного – они сами выкликают нечистую силу, точно Фауст, чертящий на стене магический знак.
Дьявол приходит хотя бы потому, что он – деятелен. По Булгакову, добро не нуждается в действии; добро не насилует природу, добро присуще бытию, и единственная подлинная деятельность христианина – это молитва (которая, как мы помним, может гораздо больше, чем хлопотливость докторов). Но и самые светлые персонажи – сами Мастер и Маргарита – не знают дела молитвы; вера ими утрачена. Героем повествования становится Сатана – именно потому, что иных героев современное вертлявое общество не знает. Оно само, это общество, отказалось от Бога – вот Сатана и заступает на опустевшее место. Сатана берет власть.
Это роман о власти – но это роман и о тщете власти. Власть может все – но одновременно она молит о прощении, как молит о прощении Пилат. Пилат будет прощен – и это милосердное прощение палача и есть подлинный финал романа. Для Булгакова, доброго писателя Булгакова, важно поддерживать свет лампады; важно, чтобы разговор, который вела с Богом святая сестра Турбина, не закончился никогда. Прокуратор Иудеи пойдет по длинному лучу на встречу со своим желанным собеседником, Он ждет его. В том, что разговор со Спасителем может вести даже и величайший грешник, исполненный раскаяния, – важнейшая и добрейшая вера Булгакова в Россию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































