Текст книги "Стратегия Левиафана"
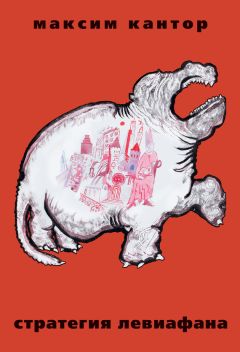
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
6.
Отличие природы героя от природы окружающих, европейское начало индивида и азиатская сущность толпы – иногда кажется, что русскому литератору больше и писать не о чем. Госпожа Бовари страдает, д‘Артаньян совершает подвиги, а Дэвид Копперфильд проходит непростой жизненный путь – но все это не потому, что они личности, а вокруг них – стадо. В российской же литературе для выбора Пьера Безухова, для тоски Онегина, для преступных замыслов Раскольникова, для отчаяния Годунова – причиной чувство собственной значительности (историчности) и ничтожества прочих: я наделен самосознанием – а они? Что будет со мной, если я перестану считать их, бессловесное стадо, за людей? Я им отворил житницы, а народ все равно безмолвствует – чего им, окаянным, надо? Что правильнее: «общие даже слезы из глаз» – или «ступайте прочь, какое дело поэту мирному до вас»? Следует ли отказаться от истории – если окружающим она без надобности? Или следует отказаться от окружающих – во имя истории? Одним словом, «зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе?»
Примечательно, что тульскому заседателю герой не сочувствует – напротив, герой, утомленный одиночеством, завидует тульской бесчувственности! Он-то страдает от избытка сознания, и сколь бы отрадно опуститься на ступеньку ниже по той самой лестнице Иакова, которая не давала покоя Мандельштаму, и достичь бессмысленности тульского заседателя!
Характеризуя русскую натуральную школу, принято повторять: «Все мы вышли из Шинели Гоголя» – однако до того, как оказаться в «Шинели» Гоголя, вся русская литература побывала в сюртуке Чаадаева – во всяком случае, имелось подозрение, что это его сюртук – и сюртук этот никогда не был снят. Шинель накинута поверх сюртука, так, на время. Иными словами, боль за отсутствующее историческое бытие для русского интеллектуала острее и ощутимее, нежели боль за униженное состояние народа. Русский писатель томился оттого, что у него нет достойного соседа и пристойного народа – не хватает нам пейзан с красивой традицией и благозвучным фольклором, а оттого, что этот пресловутый народ недоедает, русский литератор страдал крайне редко.
От одной броской фразы повелось считать, что сочувствия в русской литературе – через край, брызжет аж за книжный переплет. Это где же, к кому же? К шариковым? Отыщите у Ахматовой, Мандельштама, Замятина, Булгакова, Бунина пару строк сочувствия к внеисторическим персонажам пустырей. Если точно анализировать события, от шинели Гоголя русские литераторы избавились быстро: вышли из нее, сдали в гардероб – и никогда более к ней не прикасались: смердит! Сострадание малым сим не есть отличительная черта русской литературы – это выдумка. Чтобы разглядеть беду униженных и оскорбленных, потребовалось много лет; однажды все же разглядели – но долго не всматривались. Горше горя, чем то, что приключилось с интеллигентами в России, – все равно и не бывает, смотреть на мужиков и люмпенов не обязательно. В сущности, так называемым «униженным и оскорбленным» в русской литературе сочувствовали каких-нибудь шестьдесят лет, авангард 10-х годов двадцатого века уже вернулся к уникальным чувствам сильных личностей. Мода прошла, кто сегодня поминает мелодраматичного Некрасова? «Вчерашний день, часу в шестом…» – за это, извините, Нобелевскую премию не дадут, тут движения исторического сознания не изображены. В пушкинское время (соответственно, и в чаадаевское тоже) интеллигенция еще не занималась самоанализом, интеллигенции просто не было, а Иван Бунин уже посчитал, что мужички не стоят просвещенного сочувствия; они, чертяки, в окаянные дни такое вытворяют! Мы им однажды посочувствовали – а они! Мы им определенно сказали: «Если он не пропьет урожаю, я того мужика уважаю», – а они вздумали не токмо что урожай, а и помещичью усадьбу пропить! Сочувствуй им после этого, макарам и мареям! Вот в этом промежутке – от Гоголя до Бунина – романтические «лишние люди» вдруг увидели, что помимо их оскорбленного сознания есть еще что-то. Взволнованный Нехлюдов однажды счел, что Катюше Масловой, мимоходом им соблазненной, пожалуй, тяжелее живется, чем ему – но нехлюдовские чувства для русского интеллектуала нетипичны.
Советская диссидентка Людмила Алексеева однажды высказалась в том смысле, что нынешние правозащитники чувствуют себя продолжателями традиций разночинцев, но без сочувствия народу a la Чернышевский: ибо интеллигентам в наше время живется хуже, чем народу. И действительно, более всего запомнились репрессии над людьми интеллектуальными, а народ никто никогда не считал, к тому же народ в советские времена сам вершил суд. Советское диссидентство подвело черту под традициями натуральной школы.
Интеллигенция в России (если судить по Короленко, Некрасову, Чехову, Гоголю, Толстому, Чернышевскому, Достоевскому) выступала как бы адвокатом бессловесного народа – отстаивала его права перед начальством. Собственно, в этом состоит миссия русской интеллигенции – в сострадании, в защите униженных. Правда, униженные лишены исторического чувства, они просто живут – однако это достаточное основание для того, чтобы считать их людьми. Они наделены душой, они плачут, если у них отнимают кров, горюют по покойникам, сжимают в руках свое нежирное достояние. Они не могут объяснить, зачем они живут (дать ли урок миру? Расползтись подобно масляному пятну по карте? Быть всечеловеками? Строить и месть?), но им, очевидно, хочется жить. По меркам исторического самосознания они, вероятно, не вполне личности, но, возможно, это не должно препятствовать тому, чтобы видеть в них себе подобных? И что же тогда будут значить литература и гуманитарные занятия, если изъять из этих дисциплин сострадание? Короче говоря, русская интеллигенция (натуральная школа, разночинцы, передвижники, толстовская традиция, народники, марксисты, социалисты) выступила адвокатами – рассказала миру о страданиях Акакия Акакиевича, на время отложив в сторону драму Печорина и Сильвио.
Но это лишь эпизод в русской литературе – эпизод завершен революцией, досадным переворотом понятий, когда Акакий Акакиевич вдруг захотел сам стать хозяином своей судьбы. Ему, видите ли, сочувствия и сострадания мало! Мы собирались лить над ним слезы и постепенно выводить его на свет, мы дали ему шанс, а он взял и полез на баррикады. Интеллигенция показательным образом поделилась на тех, кто «принял революцию», и тех, кто ее «не принял». Договаривая до конца, для того, чтобы остаться русским интеллигентом, требовалось «принять революцию» – как то сделал Пастернак, Блок или Маяковский – несмотря на всю фатальность этого решения. Сострадание – такая штука, что не поддается дозированию, оно либо есть, либо его нет. А уж то, к чему привела солидарность с восставшими Акакиями Акакиевичами, – вопрос другой, но, отвернувшись от них, русский горожанин с образованием перестал быть русским интеллигентом. Он сделался в лучшем случае интеллектуалом, в худшем – чиновником и менеджером, но само понятие русской интеллигенции размылилось в пену.
В современной России термин «интеллигент» столь же туманен, как термин «демократ», – это практически умершее понятие.
Тему «лишнего человека», который начинает с того, что противопоставляет себя толпе, а потом теряется в толпе, – ведет русская литература от Раскольникова к Нехлюдову, а от Нехлюдова к доктору Живаго, к последнему русскому интеллигенту. Доктор идет вслед Нехлюдову, ушедшему за Катюшей по этапу, и идет он еще дальше – он просто растворяется в толпе. «Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других, как бы им в даренье». И другого пути для интеллигента (исторического человека), понимающего, что история – вещь всеобщая, – не существует, как нет в огне брода.
Тема интеллигенции (а соответственно, и отдельного исторического стояния между властью и диким народом) закрыта «Окаянными днями» Бунина, «Реквиемом» Ахматовой. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был» – эту барскую фразу мог бы сказать Чаадаев, но никак не Толстой, не Чехов, не русская интеллигенция. После революции образованное сословие вменило народу счет – как народ мог предать тех, кто ему искренне соболезновал?
Растворился в толпе доктор Живаго, и осталась лишь литература толпы – «Тихий Дон», «Хорошо», «Живые и мертвые», «Как закалялась сталь», – литература, в которой лишних романтических людей уже нет. Литературу эту среди интеллектуалов любить не принято, как не принято любить и роман «Доктор Живаго». На первый план вышло жизнеописание униженных и оскорбленных, обретших право; Акакиев Акакиевичей, пошедших работать в Метрострой, Катюш Масловых, призванных на фронт медсестрами, Макаров Девушкиных, ставших секретарями райкома. Летчики, агрономы, монтажники-высотники, какая, в сущности, скучная публика! Энтузиасты – но крайне неинтересные. И ведь строят очевидным образом внеисторическое общество!
Вдруг оказалось, что отдельных лишних людей нет. Не стало ищущих понимания выскочек, растворились без остатка в щелочной среде Отечества. Вдруг выяснилось, что вопрос никчемности всех стоит куда как более остро, нежели стоял он в отдельной судьбе Чацкого или Печорина. «Любовь пограндиознее онегинской любви», – писал Маяковский. Мы добавим сегодня: а одиночество народа будет пограндиозней онегинского одиночества.
Оказалось, что есть очень много лишних людей, сплоченных общей лишней судьбой. Имеется целый лишний народ, лишняя культура, лишняя страна, ни на что не похожая история, совершенно лишняя в этом мире.
В настоящее время им дали шанс, пригласили забубенных в историю, предложили принять человеческий облик. И люди (по-настоящему лишние люди, а вовсе не просвещенные эгоисты, европейски ориентированные) затравленно озираются: их позвали в историю – как некогда звали на войну, на баррикады, на освоение целины. Им внушили, что их повседневное существование – это так, черновик, сляпанный наспех, – но есть иная миссия, достойная свободных людей! Им, макарам девушкиным, предстоит стать историческими личностями! Прежде их называли «дикарями», «крещеными медведями», «варварами», «недочеловеками», «свиньями», про них снимали потешные голливудские фильмы, они влачили внеисторическое существование, давая урок другим народам – как не надо жить. Но теперь появился генеральный план – они наконец-то обретут историю!
Правда, быстро выяснилось, что много людей в историю не поместится, поскольку в историю войдут лишь те, кто обслуживает сектор добычи ископаемых, а для работы на помпе столько миллионов не требуется.
Раньше хоть требовалось каналы рыть, а сейчас и каналы ни к чему; лишний народ! И как еще назвать народ, который никому не угодил – ни Гитлеру, ни Западу, ни Чаадаеву, ни Рейгану, ни самому себе. Неудачники, выпавшие из общей истории, пытавшиеся построить заведомо обреченный социализм, не приспособленные для свершений, но упорно к ним стремящиеся, готовые на жертву, чаще всего бесполезную, – ведь мы уже привыкли, что на нас все показывают пальцем? И смотрят на этот народ придирчиво и недоуменно, как смотрит садовод на больное дерево, – и думают: а что причиной такого недуга? Плохая почва? Жуки-паразиты? Или причиной то, что садовник облил дерево ядом, борясь с вредителями, – а оно возьми да засохни?
«Лишние люди» и их лишняя судьба сменили проблему «лишнего человека» и его праздных метаний по свету.
Правда, с лишними массами как раз проблем не возникло. Просто пришла пора – и в изгнание отправились не Чацкий с Печориным, не Сильвио с Онегиным – в изгнание отправились российские рядовые граждане, то есть русский народ. Лишние люди романтического образца, люди, наделенные историческим сознанием, – они обрели место под солнцем. Новые печорины с онегиными стали акционерами «Газпрома», Сильвио зажигает в Куршевеле, Чацкий работает в администрации президента, – а лишний народ отправился странствовать, узнавать мир. Пускай теперь они побегают, внеисторические варвары. Прежде в заграничные сентиментальные путешествия уезжали, чтобы набраться карбонарских идей, повстречаться с Шеллингом, соединиться с Виардо, оплакать в Баден-Бадене судьбу соборности – нынче в романтическое изгнание отправлен весь народ, в поисках зарплаты и пропитания русские лишние люди рыщут по просвещенной Европе.
Вы полагаете, Петр Яковлевич Чаадаев о таком историческом существовании мечтал? Вы думаете, он этих свершений желал своей Отчизне? Вы считаете, Чаадаев вот эту вот мерзость называл историей?
Вовсе нет.
7.
Автора теологического сочинения в стране, исповедующей христианство, официально признали сумасшедшим – это поразительно. Ни единый человек не выступил с опровержением, практически все поддержали государственный вердикт.
Чтобы понять, что оскорбило современников Чаадаева, достаточно представить, что публикация «Писем» происходит в наши дни, а читателями являются наши знакомые. Давайте представим, что современный журнал публикует подобное письмо. В те годы, в точности как и теперь, Россия доказала сама себе, что она не уступает ни в чем Европе, что, по сути, она Европой является. Уже и Екатерина возгласила: «Есть европейская держава!» – уже и город на Неве возвели, уже и по-французски друг с другом изъяснялись просвещенные люди, и на Версальские балы ездили, а закусывали так, что европейские князья только облизывались. Чем же не Европа?
И вот, несмотря на головокружительные достижения, является неприятный господин и говорит, что как были мы оболтусы, так оболтусами и остались. Обидно? Представьте, что нашему сегодняшнему обществу, освоившему западные курорты, освободившемуся от социалистической тирании, принявшему принципы финансового капитализма, полюбившему Оруэлла и Поппера, – представьте, что нашему совершенно-как-на-западе-обществу некто говорит, что пыжится общество напрасно, а фигуранты светской хроники как были провинциальным быдлом – так быдлом и остались. Свиное рыло не спрячешь, хоть ты Поппера читай, хоть в Куршевель катайся.
Вероятно, подобное заявление было бы воспринято как злобная клевета: зря мы, что ли, ходили на демонстрацию «Долой Сталина и да здравствует финансовый капитализм!»?! Автор заявления будет сочтен субъектом, как теперь говорят, неадекватным. Тогда сказали: сумасшедший.
Необходимо сразу развеять миф в отношении гонений на Петра Яковлевича Чаадаева: преследовал философа отнюдь не Николай Палкин, совсем не государственный гнет сделал его отщепенцем. Да, царь объявил философа сумасшедшим и ответил рядом репрессивных мер на публикацию – а что ему еще было делать? Царским указом «Телескоп» закрыли, редактора сослали, цензора уволили, Чаадаев находился практически под домашним арестом – в течение полутора лет к нему являлся лекарь, осматривал его. Оскорбительно – но ведь и смешно! Пара эпиграмм – и смехом можно уничтожить обиду.
Начиналось классически, с цепочки доносов: статский советник Филипп Вигель написал митрополиту Серафиму, митрополит Серафим написал министру Бенкендорфу. Последовали репрессии, но подлинную расправу Чаадаеву приготовила просвещенная российская публика: Баратынский, Вяземский, Тургенев, Языков, Денис Давыдов, и прочие, и прочие.
Публичными судами и расправой над философом со времен Сократа никого не удивить. Мы знаем о гражданском суде над Пастернаком, историю о том, как поэт Сурков (автор трогательной песни «Бьется в тесной печурке огонь») назвал роман «Доктор Живаго» – «бомбой замедленного действия» и требовал наказать предателя.
Вот как отреагировал на «Письма» поэт Языков:
Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна,
Ее предания святые
Ты ненавидишь все сполна,
Ты их отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю пап,
Почтенных предков сын ослушный,
Всего чужого гордый раб! и т. д.
Уместно привести стихотворение Дениса Давыдова – героя войны, баловня салонов. Представьте, ну, допустим, реакцию Константина Симонова, певца битв с фашизмом, на диссидентство.
Денис Давыдов
СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Фраз журнальных лексикон,
Прапорщик в отставке,
Для него Наполеон —
Вроде бородавки.
«Прапорщик в отставке» – т. е. ротмистр в отставке Чаадаев служил в Ахтырском гусарском полку под непосредственным началом Дениса Давыдова, командира данного полка (впоследствии Ахтырскому полку имя Давыдова присвоено), и участвовал вместе с Давыдовым в битве народов под Лейпцигом и взятии Парижа. Есть свидетельства личной храбрости: за участие в штыковой атаке при Кульме Чаадаеву пожалован «кульмский крест».
Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.
Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum!
И раздолье языкам!
И уж тут не шутка!
И народам и царям
Всем приходит жутко!
Все, что есть, – все пыль и прах!
Все, что процветает, —
С корнем вон! – ареопаг
Так определяет.
И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая…
А России – Боже мой! —
Таска… да какая!
И весь размежеван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!
Данный стих достоверно передает состояние российского общества после всякой великой победы (ср. победу демократии в последние годы) – самое время вкусить заслуженный покой, а лезут из щелей недовольные букашки. «Таска России» – это «Философические письма», вернее сказать, то злополучное первое письмо, которое одно только и мог знать Давыдов. Вообразить, что партизанский ум продрался сквозь следующие письма, – невозможно.
Впрочем, Давыдов – патриот и генерал, удивительнее обида Баратынского и Вяземского, удивительнее то, что никто не встал на защиту, но все вполголоса согласились с мнением царя – да, умом тронулся.
В наше время эпитетом «сумасшедший» наградили писателя Зиновьева – я не раз слышал это слово в его адрес из разнообразных либеральных уст.
Выход книги «Зияющие высоты» произвел в интеллектуальной России шок, сравнимый с публикацией Чаадаева в «Телескопе». Первая реакция была следующая: «Подумаешь! Мы это давно знали! – А я и не такое между строк высказал! – А я дальше пошел в своем выступлении на круглом столе!»
Так было и с Чаадаевым: решили, что подобное слышали и прежде; России пеняли и Надеждин, и Белинский – пожалуй, более остро. Если даже Чернышевский (не имеющий оснований ревновать) высказался в том ключе, что сказанное общеизвестно, то что же прочие амбициозные личности?
Случай с Зиновьевым позволяет реконструировать градацию обиды. Первая реакция – досада, но затем люди почувствовали, что их оскорбили: «Мы то же самое знаем, но деликатно молчим! А он не уважает нас, если полагает, что ему одному невтерпеж! Мы страдаем и терпим! Видите ли, чистоплюй нашелся!» То есть «отщепенцем» автора назвал свой же круг: сослуживцы, сокурсники, коллеги.
Сходная обида появилась в отношении Чаадаева. Чаадаев подписал письмо, указав местом сочинения – Некрополис, город мертвых. Тем самым он назвал круг знакомых упырями и мертвецами. Разве не обидно – за людей не считает, а у нас, между прочим, в гостях такие личности бывают! Надо заметить, что мрачная шутка принадлежит не Чаадаеву, но поэту тринадцатого века Гвидо Кавальканти, старшему другу Данте, автору «нового сладостного стиля», в котором написана дантовская «Vita Nuova». Предание гласит, что однажды Гвидо оказался на кладбище в обществе своих критиков, которые принялись высмеивать его стихи. Гвидо мягко ответил им так: «Господа, вы у себя дома, а потому можете говорить все, что вам угодно». Чаадаев несомненно был знаком с этим эпизодом, тем более, что Данте его занимал чрезвычайно.
Обида за неуважение к коллективу была не финальной реакцией. В свой черед узнали, что, хотя Александр Зиновьев выступает против Советской власти, – однако он при этом не за капитализм, как прочие, и не за образец демократии, явленный Западом. Вот тогда реакция стала свирепой: «Да он просто умалишенный! Мало того, что всех унизил своим выступлением – превратил нас в трусов! Но теперь заявляет, что мы и мечтаем о чем-то вздорном! Он – сумасшедший!»
Достойно удивления то, что объявили Зиновьева сумасшедшим те самые люди, которые отлично знали про шельмование Чаадаева, про гражданский суд над Чернышевским, про травлю Пастернака. Это были приличные люди, прогрессивные. Они не видели в историях с Чаадаевым и Зиновьевым сходства, были уверены, что это разные истории: с Чаадаевым поступали нехорошо, а вот они, наговаривая на Зиновьева, – лишь воздают неприятному человеку по заслугам. Ведь это вопиющая разница: Чаадаев – за западный образ жизни, а Зиновьев – против! Приличные люди обязаны выражать свои убеждения, в конце концов! Они просто должны сегодня объявить Зиновьева сумасшедшим, ведь они за прогресс и свободу – а то, что их убеждения совпадают с мнением начальства (которое тоже страсть как полюбило западный образ жизни), ну что ж, такое в России счастливое стечение обстоятельств.
Механизм травли просто представить, вспомнив, например, биографию Пастернака. Разумеется, никто на Бориса Леонидовича собак не спускал; его не били на пересылках, не жгли его книг. Просто исключили из Союза писателей, а на дачных верандах стали говорить, что роман у поэта вышел плоховатый. Поэт-то он приличный, хороший даже поэт, а вот роман – так себе. Вовсе не Хрущев сетовал на недостатки пастернаковской прозы, но коллеги по литературному цеху: то было мнение знатоков. Цеховая ненависть к собрату, посмевшему высунуться, настолько была сильна, что неприятие романа сохранилось по сию пору. Уж и Джакомо Фельтринелли нет на свете, и Хрущев читает закрытые доклады на иных съездах, однако интеллигентное мнение по-прежнему гласит, что «Доктор Живаго» – роман неудачный. Это вердикт, вынесенный не властями – да нет же, не власть карает в России! в крайнем случае, власть убивает, – но это мнение интеллигентного планктона.
Совсем не царская охранка прилепила к имени Николая Гавриловича Чернышевского едкие эпитеты, но мнение либералов, злой шарж интеллигентного писателя Набокова. Казалось бы, что вы цепляетесь к каторжанину? А вот, оказывается, есть причина! – он предал цеховую мораль, этого коллеги не прощают.
Булгакова (и его героя Мастера), и Маяковского, и Зиновьева, и Чернышевского, и Чаадаева шельмовала не власть, но милейшие друзья, вчерашние собеседники.
Не чудище, простершее «совиные крыла» над Россией, но либеральных настроений личности – вот кто выносил приговор. Раздражал дидактический тон, мешало то, что после поучений шампанское пьется не так лихо – поучений мы страсть как не любим. Да кто ты такой, чтобы нас учить? Прогрессивное общество не прощает, если его уличат в недостаточном прогрессе. Травили Петра Яковлевича по зову души, по неистребимой потребности круга интеллектуалов растоптать любого, кто значимость данного круга подвергнет сомнению.
Проповедей было не стерпеть, и прочесть их сил не было: ведь основное понятно из первого письма. Ну да, самодержавие скверно, крепостное рабство нам всем не по душе, не можем мы любить Родину, стоя на коленях – все это мило, знакомо, мы это уже проходили, сами все знаем, – но при чем здесь еще и католицизм? Да еще и ислам зачем-то приплел (Давыдов не дочитал до панегирика Магомету, а то бы еще пуще расстроился).
И – кривились, вертели пальцами у виска.
Как говорил Гамлет (к тому времени уже признанный сумасшедшим), слушая Полония: «Они меня окончательно с ума сведут».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































