Текст книги "Стратегия Левиафана"
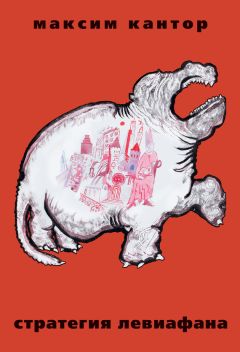
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Страх и трепет. Счеты с тираном
Почему нам полезно перестать сводить счеты со Сталиным
Когда я учился в советской школе, скажем, в 1970 году, нас с ребятами смешили учебники по истории. Учебники тех лет с маниакальным упорством проводили сравнение между достижениями современной нам промышленности и состоянием таковой на 1913 год, во времена царизма. Беглый взгляд на графики (в учебнике истории всегда были серьезные графики: столько-то угля добыли в 1913 году – столько-то в 1970-м) доказывал, что социализм гораздо более успешен, нежели царизм.
Дети смеялись: как можно сравнивать то, что было шестьдесят лет назад, и сегодняшний день? С тех пор случились две войны, история вообще поменялась, о чем вы, граждане авторы учебников? Вы бы лучше сравнили наше сельское хозяйство с американским, вот было бы интересно.
Однако претензии к царизму были столь велики, что учебники сводили с Николаем II счеты спустя пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет – и все доказывали, что это царизм виноват в наших бедах. Помню анекдот: проклятые Романовы! Триста лет Россией правили – и не могли мяса напасти на семьдесят лет вперед!
Точно так же мы сегодня сводим счеты со Сталиным.
Тиран умер шестьдесят лет назад, кости его истлели в гробу, но упреки к нему актуальны и поныне. Люди пугаются того, что плакаты с изображением покойного могут развесить по улицам, люди приписывают покойному поистине сатанинскую власть над миром – он не только губил население России, но и затеял мировую войну, спровоцировав все страны кинуться в бойню. Он хотел захватить земной шар, он еще явится с того света и всех посадит в ГУЛАГ. Комично то, что антисталинисты отрицают правдивость тех эпитетов, что были выданы Сталину при жизни, – мудрейший, величайший. Но одновременно Сталину приписывают управление всей историей человечества, а такое мог осуществить только гений всех времен и народов. Сегодняшние активисты изыскивают все новые доказательства того, что Гитлер, Черчилль и Рузвельт были лишь пешками в глобальной игре Генералиссимуса. Сталин, он один, осуществлял гениальный план захвата мира. Без преувеличения следует сказать, что термин «сталинизм» перерос локальное значение и стал обозначать вообще все плохое – тоталитаризм как таковой, угрозу демократии, беспринципность в политике, лагерную систему, мировую войну.
Призывы изъять Ленина из мавзолея и предать наконец прах земле кажутся абсолютно бессмысленными – ввиду того, что не призрак Ленина будоражит наше воображение, отнюдь нет. Ленин мирно полеживает в саркофаге и не ходит ночью по улицам. Но Сталин! Сталин! Магическое имя! Вот кто живее всех живых сегодня – Сталин наш постоянный страх, наш постоянный собеседник, наш родовой, фамильный российский призрак, бродящий по неухоженным пустырям и пустошам Родины. Это именно сталинизм хочет возродить наш гэбэшный лидер, это сталинизм грозит сегодняшним демократам. Сажают в тюрьму Ходорковского – это сталинизм, создают партию «Единая Россия» – опять сталинизм. Ловят правозащитника в борделе – сталинизм. Помилуйте, но во все века российской истории царь уничтожал сильных бояр, во все века российской истории партия власти обладала привилегиями. Во все века демократы проводили время в борделях. Сталину приписали авторство тех вещей и тех процессов, которые происходят в истории всегда, а он всего лишь один из прочих царей Государства Российского. Да, один из самых талантливых угнетателей народа – наряду с Петром и Иваном. Люди, простые, милые интеллигентные люди, тревожно ждут, что за ними придут ночью, уведут в застенок! И произносят имя «Сталин» как объяснение своих страхов. Но задолго до Сталина скакали по улицам опричники с песьими головами у седла – не сегодня это придумано, что русское население – такой же ресурс власти, как лес, пенька и уголь.
Казалось бы, разумный взгляд на вещи исключает возможность реставрации Сталина. В данной фразе нет ни грамма оптимизма: с обществом может случиться беда, собственно говоря, беда и случилась, то, что происходит сейчас, иначе как бедой не назовешь – только это не сталинизм. Сталинизм ушел в историю – это было специальное состояние российского общества при переходе от крепостного крестьянского хозяйства к индустриальному имперскому социализму. Особенности сталинской диктатуры связаны именно с этой фазой существования Российской империи. Именно Российскую империю и возрождал Сталин, попутно отказавшись от всех интернациональных планов равенства и братства. Сталинизм приспособил марксистско-ленинскую идеологию к процессу реставрации Российской империи в новой, индустриальной ипостаси. Ни то, ни другое, ни третье (ни марксизм-ленинизм, ни Российская империя, ни индустриализация) более не играют никакой роли в истории. Из формулы вычеркнуты все слагаемые – а результат остался. Поразительно!
Есть такая вещь, как фантомные боли: рука отрезана, но продолжает болеть. Есть также исторические фантомные боли. Демократии в России нет – а демократическая риторика у бизнесменов сохранилась, возможностей для сталинизма нет – а страх перед Сталиным остался.
Возродить сталинизм на фоне финансового капитализма – задача невыполнимая в принципе. Психологически понятно, что богатые по-прежнему сводят счеты с призраком социалистической индустрии и лично со Сталиным – и мотивация совершенно та же, что у авторов учебника истории 1970 года: показать, что спустя шестьдесят лет мы живем лучше, нежели при «развитом социализме».
И точно так же, как школьников 70-х запугивали возможностью реставрации царизма, так и школьников сегодняшнего дня запугивают реставрацией сталинизма.
Вообразить себе, что появится диктатор, который отменит символическую функцию денег, власть международных корпораций, который своей безжалостной рукой отберет американскую баскетбольную команду у Прохорова, яхты у Абрамовича, особняки и замки у российских богачей, номерные счета в швейцарских банках у российских депутатов – вообразить такое невозможно. Впрочем, рано или поздно это произойдет – но произойдет это не из-за реставрации сталинизма (ржавого оружия, пригодного в сегодняшней политической жизни, как трехлинейка во Второй мировой), а просто потому, что процесс истории неумолим, и рано или поздно все платят по счетам. Невозможно украсть навсегда, невозможно владеть вечно – как невозможно иметь нервущиеся ботинки, вечные носки, неподвластное времени здоровье. Это, сегодняшнее, состояние неравенства – невечное, чувство социальной справедливости отменить вовсе – не получится. Но не Сталин в этом виноват, а простая сила вещей, человеческая природа, законы истории, законы общества. Заплатят по счетам когда-то и сегодняшние олигархи – или станут жертвами междоусобных интриг, или будут наказаны иначе, но маятник истории непременно качнется влево – после того как качнулся вправо. Просто потому, что маятник все время качается – это не из-за Сталина так получается, это не злокозненные коммунисты его раскачали. Простая истина заключается в том, что история и ее закономерности – существуют.
Приходится констатировать удивительную вещь: призрак Сталина стал выполнять роль призрака истории – напоминания царям земным о том, что расплата в принципе существует. Сталину приписали поистине мистические свойства – и призрак его стал воплощением грядущей кары, некоего неотвратимого возмездия людям. С портретом Сталина маршируют убогие колонны сталинистов, взывая к покойному, как к высшей справедливости. Но что еще более комично, сегодняшние демократы шарахаются от этих плакатов, словно Сталин и впрямь может ожить и провести долгожданный пересмотр приватизации. Вообще говоря, про это было известно и прежде – есть такая общеизвестная инстанция, как Страшный суд, которая исполнит свои полномочия неукоснительно. В положенный срок запоет труба ангела – и никто не спрячется. И забавно то, что современный финансовый капитализм переадресует свои страхи перед Страшным судом – товарищу Сталину. Словно бы это Сталин встает из гроба и каждую ночь пишет на стенах Кремля «Мене-Текел-Фарес»! Страх перед Сталиным принял сакральный характер – и когда обличают мертвого тирана, совершают мистический обряд – заклинают историю, заговаривают время. Остановись, мгновение – пусть всегда пребудет блаженный миг финансового капитализма, торжества западной морали, кредитной системы. Пусть кризис, ничего, потерпим – только бы не сталинизм!
Страх Сталина есть не что иное, как страх истории. Мы отменили историю, а напоминание о ее наличии есть сталинизм. Противоречия между странами? Помилуйте, это Сталин организовал Вторую мировую войну – вот сожжем его чучело, и не будет противоречий больше. Разрыв между бедными и богатыми? Постойте, это же Сталин придумал классовую борьбу – вот разоблачим Сталина, и не будет больше проблем бедных и богатых.
Помимо прочего, страх Сталина есть обратная сторона массовой любви к нему. Лучшее доказательство того, что Сталин был действительно народным лидером, – это сегодняшнее желание представить его виноватым во всех бедах Российской истории. Антисталинисты даже не сознают, что гальванизация страхов перед генералиссимусом есть лучшее доказательство того, что Сталин действительно был любим массами. С рьяностью демократы доказывают народу: вы не любили Сталина! Нет, вы не любили, вы ошибались! Но если не любили, зачем эта истеричная отповедь?
Сталин был тиран – но Российскую историю придумал не Сталин. Сталин был диктатор – но мировую историю двигал не он. Сталин был палач – но цикличность эпох установить ему не под силу. Страх перед историей заставляет современных антисталинистов представлять историю предвоенных лет как футбольное поле, по которому бегает лишь один игрок, а прочие стоят неподвижно. Одинокий футболист (Сталин) гоняет мяч вокруг неподвижно стоящих Гитлера и Муссолини, Рузвельта и Франко, Черчилля и Троцкого. Он сам пасует и сам принимает пасы, он забивает голы в пустые ворота, он торжествует на замершем поле истории.
Надо ли говорить, что история – живет? История – это футбол, в который играют все, причем играют одновременно. И угадать, куда пошлет мяч Черчилль или Муссолини, – почти что невозможно. Сталин вел свою, очень хитрую и виртуозную игру, но такую же хитрую игру вели и остальные. Надо сказать, что в этом футболе Россия (то есть Сталин, как капитан сборной) проиграла – кубок достался совсем не нашей команде. Однако представление о феноменальной мистической игре, где по полю бегает только один игрок, осталось. Так происходит потому, что Сталин для нас стал символом истории вообще, истории как таковой.
Ради сохранения здравого смысла следует обозначить те преступления, в которых Сталин неповинен. Сталин неповинен в наличии глупости и жестокости, жадности и тщеславия. Он умело использовал эти качества в своих лакеях – но свойства вечные, увы. Сталин не виноват в российском климате, в русском раболепии, в Первой мировой войне – да и в Октябрьской революции Сталин неповинен. Когда введут платное образование (при Сталине оно было бесплатным) и российское общество расслоится на классы уже необратимо, то и в этом случае вина Сталина будет минимальной. Это тоже беда – но из другой главы учебника истории.
Ниже я обозначу те важные десять преступлений, в которых Сталин не виноват: распад Российской империи – дробление страны на олигархические кланы; финансовый кризис; коррупция и воровство – на всех этажах здания; разрыв между бедными и богатыми, образование новых классов; демографический кризис; кризис образования и науки; кризис культуры, превратившейся в обслугу богатых; кризис демократической системы; кризис в отношении с мусульманским миром; отсутствие политической оппозиции.
Болезнь не лечат, а в качестве причины недуга указывают на застарелый сталинизм. Особенность отечественного правового сознания в том, что в нашей школе правозащитников выковали те кадры, которые умеют бороться с коммунистическими режимами, и других специалистов у нас просто нет! Так случилось оттого, что российское диссидентство никогда не интересовалось реальной жизнью Запада, реальными проблемами демократии. Книжек нужных не читали, с историей вопроса незнакомы. Лагеря осудить – пожалуйста, а когда прогрессивный демократических взглядов воротила недоплачивает шахтерам зарплату, они видят в этом проявления сталинской диктатуры. Так бывает, что врач умеет лечить только скарлатину – и туберкулез лечит той же таблеткой.
Собрался клубок типичных для капиталистической демократии проблем, а ситуация с бесправными шахтерами и привилегированными владельцами производства должна бы напомнить 1905 год – но мы продолжаем искать в этих злободневных проблемах вину Сталина. Связь, несомненно, есть, но в том лишь смысле, в каком Сталин олицетворяет российскую историю вообще.
Проснувшаяся сегодня (это уже четвертое издание: ХХ съезд, диссидентское время, перестройка – и вот теперь сегодня) новая ненависть к Сталину – симптоматична. Эта гальванизация гражданского сознания сегодня выполняет служебную функцию – ну, скажем, как концепция общего («горизонтального») фронта левых сил в Веймарской республике. Вроде бы исключительно благородно, но не вполне понятно, для чего и кого приведет к власти, какие силы вытолкнет на поверхность. Сталин – не единственное зло на свете. Мы страшимся вчерашнего дня – тогда как надо бы трепетать при мысли о дне завтрашнем. Сегодняшние беды выявляют определенные алгоритмы российской истории и тем самым напоминают сталинизм, но, к сожалению, не только его. Чума – страшная вещь, но если проглядеть туберкулез – лучше не будет.
Зеркало треснуло
Золото и пурпур византийского обряда – это сияние небес и кровь Христова, но князь Владимир объяснений богословов не знал, в выборе религии руководствовался красотой службы. Поскольку эстетика Корбюзье в то время еще не овладела умами, красотой почитались богатство и пышность. Князь выбрал церковь, которая наглядно являет могущество. Европейские храмы того времени были просты – лишь спустя два века после выбора Владимира аббат Сюжер убедил, что богатство и изощренность храма – ко славе Господней; так возникла готика. Православный храм всегда был пышен, а обряд – велеречив.
Православные – не баптисты, не квакеры и не сайентологи. Православный храм – не протестантский молельный дом, в котором можно находиться, не снимая головного убора (квакерский обычай). Православный храм поражает величием. Роскошь – не прихоть того или иного архипастыря, это дань обряду. Патриарх – по чину, а не по алчной прихоти (хотя иногда это совпадает, тяга к роскоши может быть особенностью человеческой) – облачен в драгоценные ризы и живет богато. Власть и слава собора и архипастыря уравновешены в православии несуетным равенством в мире общины, смиренным батюшкой, нищим, как и его паства, деревянной церковью в селе. Православная икона порой грозит, а часто блещет величием (Христос во славе или Спас Ярое Око), но образ Покрова Богородицы (католический аналог – Мадонна Мизерикордия) утешает и согревает. Пренепорочная укрывает целебным своим омофором всех – нищих и властных, классовых врагов, представителей воюющих корпораций.
Многие православные богословы пытались примирить пышный обряд и мягкую веру сельской прихожанки. Некогда отец Павел Флоренский сформулировал простой тезис: «Что полезнее – дать больному лекарство или обучать медицине?» Он, несомненно, выбрал путь врача, дающего лекарство, – но были русские мыслители, которые хотели разобраться в медицине.
Сегодняшняя критика церкви как раз такого, общего порядка – претензия, вмененная храму и патриарху, должна быть переадресована всей русской культуре, воспитанной на осмыслении Православной церкви. Русская культура знает несколько ответов на этот вопрос.
Например, Лев Николаевич Толстой расходился с ортодоксальной верой во многом; о главном, в чем Толстой не совпадал с каноном, речь впереди, но, в частности, он не любил обрядовую церковь, богатство напоказ. Лев Николаевич не любил стяжательство как таковое – вероятность того, что он стал бы хулить патриарха и одновременно славить миллиардера Прохорова и его благостную сестру, исчезающе мала.
Прихотливое прочтение Толстого, следование одним из толстовских заповедей, но забвение других – это для русских бунтов не новость, противоречия Толстого мы любим корректировать.
Существует известная ленинская трактовка («Лев Толстой как зеркало русской революции») – Ленин рассказывает о том, что противоречия Льва Николаевича, а именно ненависть к угнетению и одновременно непротивление злу насилием и т. п., отражают комплексный характер перемен в русской жизни. С одной стороны, крестьянство хочет смести институты угнетения, в том числе церковь, с другой – цепляется за патриархальный уклад. То есть крестьянин жадных попов не любит и угнетателей готов спалить, но отказаться от мира общины не готов. Однако эта слабость, пишет Ленин, будет преодолена, и рано или поздно из крестьянства выкуют железные батальоны, а свои анархические идеалы мужикам придется забыть.
Мы знаем сегодня, что в этом направлении было сделано много; Толстой к произволу отношения не имеет никакого.
Нынешняя ситуация болезненно напоминает начало прошлого века, а метания крестьянства – рыхлое сознание горожанина. Именно горожанина, как иначе назвать героя сегодняшних споров? Сегодняшний полемист уже не крестьянин, совсем не пролетарий, совершенно не интеллигент, а как определить менеджера, имеющего бабушкину библиотеку с трудами Толстого, – неизвестно. Его сознание, вспаханное представлением о финансовом капитализме как пике истории и гражданскими свободами, которыми он наделен по праву, есть желанное поле для сеятеля, как некогда сознание общинного крестьянина. Требуется совместить призыв к нестяжательству и капитализм как идеал развития общества. Служа в корпорации, спекулируя акциями, заботясь о марже, надо одновременно сохранить неприязнь к мздоимству. И это архитрудная задача, стоящая перед горожанами сегодня. Есть выход: сказать, что мы против коррупции, но за честное преумножение богатств. Здесь – трудность, поскольку всякая спекуляция есть непременная коррупция, вне скрытого соглашения сторон эта деятельность невозможна (искусственное занижение стоимости акций, например, на коем построено все хозяйство), а значит, надо говорить о приемлемом для правового сознания уровне коррупции. Задача, как говаривал Ульянов, «дьявольски сложная»!
Время явило поразительные типы: сотрудник беглого олигарха, очевидным образом обворовавшего страну, упрекает церковь во мздоимстве; спекулянт биржевыми акциями, каковые были введены поверх общества, делается знаменем борьбы за равенство граждан перед законом – это на первый взгляд сочетание несочетаемого, однако это герои нашего времени. Время такое, противоречивое. И если в книгах Толстого как в зеркале можно было разглядеть противоречия русского крестьянина, то противоречия души менеджера разглядеть негде. Зеркало треснуло.
Точнее сказать, зеркало разбилось на тысячу осколков – а осколки цельный образ не отражают. Нет более общего интереса, а стало быть, нет общества, и общественной совести нет; нет классов – стало быть, нет классового сознания. Зато представлены корпорации – и, соответственно, появилась корпоративная совесть. Корпоративная совесть напоминает совесть обычную, но имеет локальную сферу применения.
Можно было бы предположить, что современное наше общество, положившее в основу гражданских прав собственность, приобретательство и стремление к накопительству, отнесется к церковной роскоши благосклонно. Но этого, однако, не произошло, поскольку богатство в данном случае представляет доходы иной корпорации, не той, где числится протестная публика. В этих вопросах члены корпораций щепетильны. Вообразить, что литератор – лауреат премии «Дебют» задается вопросом о генезисе средств учредителя премии Андрея Скоча, невозможно; и в бреду менеджер корпорации Абрамовича не заинтересуется, на какие средства финансируется современное искусство, уж не Антон ли Могилевский заложил основы нашего непорочного дискурса? А обнародовать размеры неправедно нажитых и отмытых средств в галерейно-выставочном бизнесе было бы самоубийственно. Тем достаточно. И, однако, именно корпорация «Православие» вызвала наипринципиальнейший гнев. Будь общество цельным, мы бы сказали: как же, ведь это же совесть народа! Однако народ (т. е. инертная масса, каковую принято именовать «быдлом») и сам подвергся критике, его пристрастия вряд ли ценятся. Критикует церковь агностик, желая повышения эффективности работы православной корпорации.
Руководствуясь идеалами либерального капитализма, мы сегодня разоблачаем Православную церковь – и на первый взгляд риторика совпадает с былой, с советской риторикой. Понятно, что ископаемый большевик пенял батюшкам за ихние хоромы («все люди братья – люблю с них брать я»), но пристало ли это тем, кто положил в основу прогресса рынок, слияния и поглощения, правду сильного? И главное: те же прогрессивные люди, которые сегодня разглядели дефекты РПЦ, вчера сетовали на трудности, которые переживает церковь при социализме. Совсем недавно привычным занятием интеллигенции была охота за иконами в разоренных провинциальных церквах. Но одновременно коллекционировали «Вестники РХД» и ждали возрождения. Это было всего двадцать лет назад. Будущие менеджеры, что сегодня негодуют на алчность попов, вчера горевали о разорении имущества батюшек. Что же поменялось? Православие ли стало иным? Или чаяли увидеть какую-то иную церковь, не православную? Но почитайте сказки Афанасьева: спокон веков народ высмеивал жадных попов, а помянутый выше отец Павел Флоренский иронизировал над склонностью батюшек к алкоголю. И критики православия не одиноки: если заглянуть в новеллы итальянского Возрождения, узнаешь много такого про монахов, что уважения не вызывает, с обличениями церковного лицемерия выступали гуманисты и просветители Европы – кстати сказать, многие из аргументов были унаследованы советской властью, взрывавшей монастыри и храмы.
Священнослужители, как и прочие люди, обычных пороков не избегли, церковь – земное учреждение, не небесное, соответственно и грехи имеет. Однако о ее поругании советская интеллигенция печалилась: скорбела о народе, лишенном отеческой веры, теряющем мораль. А вот когда Православная церковь возродилась – хватило пустяка, чтобы вернуть риторику, которая раздражала в коммунистах. Впрочем, корпоративные претензии сегодняшнего дня на качественно ином уровне.
Уже прозвучало: ошибкой России было принятие именно православия. Сходную мысль некогда высказал Петр Яковлевич Чаадаев – он считал, что принятие православия из византийского источника сказалось пагубно на истории социальной жизни России. Сам Чаадаев (вопреки легенде), кстати сказать, был православным, а не католиком, но мечтал о единении церквей; как и Владимир Соловьев впоследствии, он думал об экуменизме. Упрек византийскому «мутному источнику» запомнили, любят цитировать. Однако, повторяя упрек Чаадаева, сегодняшний прогрессивный борец думает не о католицизме и отнюдь не об экуменизме. И не о некоем очищенном варианте православия, разумеется, идет речь. И вовсе не о лозунге нестяжателей в конфликте с иосифлянами. Ну какое же, право, нестяжательство сегодня? С финансовым капитализмом все это не уживется никак, сколь бы многоярусно ни было сознание менеджера.
Речь сегодня идет о радикально ином понимании роли церкви, которое несет с собой Реформация. Как это нередко бывает в России, народное сознание подстраивается под внедренную социальную перемену задним числом: во время первого сошествия капитализма на Русь обнаружилось, что в России нет пролетариата, надо было его срочно изобретать; а во время второго пришествия капитализма выяснилось, что не хватает здорового лютеранского эгоизма, которым легко управлять. Не хватает основного рычага, чтобы личный интерес обрушил коллективное сознание, а рычаг такой очень нужен. Община хороша для маевок и коллективного планового хозяйства, а чтобы качественно работать в корпорации, нужно совсем иное. Максимально секуляризированная религия, личная ответственность служителя, право паствы судить о пастыре, каждый сам себе пастырь – это все манера рассуждения протестантской общины, вовсе не православного мира. И метаморфоза в общественном сознании тех людей, которые вчера горевали об утраченной вере отцов, любопытна. Идея возникновения капитализма из протестантизма (описанный Вебером феномен) стала причиной новых комплексов в России. В который уже раз Россия испытала чувство культурной несостоятельности: мало было нам татарского ига, мало было нам злокозненного коммунизма, мало было нам планового хозяйства, вот оказывается теперь, что и религия у нас некондиционная. В приличных странах вон во что верят, а у нас?
Некогда Николай Бердяев выводил истоки русского коммунизма из феномена православной общины, идеалы общины стали основой толстовства – и, как это повелось при тотальном переломе в России (см. реформы Петра, Столыпина и Троцкого), именно общинный уклад и является тем, что требуется рушить до конца, в прах. Таким образом, хотя мы и повторяем советскую риторику касательно священнослужителей сегодня, суть ее противоположная: желание радикального искоренения социалистических основ общества ведет к отрицанию православия. То есть сегодняшний антиклерикальный пафос, собственно говоря, проходит по ведомству столыпинских и троцкистских реформ – искоренение общинного сознания вообще, замена такового на сознание корпоративное.
Переделать Россию в пятьсот дней, введя кооперативы, – это семечки; возникает желание более дерзновенное – изменить культурную природу Отечества, призвав православие к ответу. Сколь перспективно было бы ввести строгие молельные дома, в которых прихожане будут обмениваться сдержанными рукопожатиями, а ответственность каждого перед своей корпорацией рукопожатных составит первый урок в бизнесе! Реально ли заменить православную веру Отечества на протестантскую – сказать затруднительно. Изменение народа на генетическом уровне социальными практиками еще не опробовано. То есть программы в 30-е годы ушедшего века писались, но неловко вспоминать авторов и предложенные методы лечения.
В условиях гражданской смуты рушить и церковь как последнюю моральную скрепу общества – опрометчиво, если не сказать больше. И хотя призыв к нестяжательству можно лишь приветствовать, будет вовсе славно, если мораль сия будет применяться не выборочно, но повсеместно.
Желание просвещенной публики идти стопами графа Толстого в критике неправды, в частности неправды церковной, понятно, но следование графу не вполне последовательно.
Отказаться от стяжательства – достойно. Стяжательство есть позор и непоправимая беда для человеческой натуры. Об этом задолго до возникновения христианства предупреждали Платон, Диоген Синопский, Антисфен и Сенека. Деньги уродуют человеческую натуру непоправимо, а изобретательность в добыче богатства мобилизует хитрость, ловкость, лживость, властность – но отнюдь не доброту и сострадание. Церковь в этом смысле с античными мыслителями сугубо солидарна. Жизнь отдельных пастырей и простые сельские храмы как нельзя лучше это иллюстрируют.
Однако сам по себе институт церкви и жизнь ее главных предстоятелей – это нечто иное. Пий XII отмечен в истории минувшего века малопривлекательными вещами, но авторитет папства это поколебать не смогло, и слава Богу, что так. Претензия, вмененная обществом храму и патриарху, должна быть переадресована всей русской культуре, воспитанной на осмыслении Православной церкви.
Пышность убранства церкви есть воплощение славы Господа, есть элемент обрядовой веры – веры тысяч и миллионов бесправных и беззащитных. Личность предстоятеля может быть сугубо ничтожна, но в той мере, в какой он предстоятель, он воплощает и те Покрова Богородицы, которыми все еще укрыт обманутый вкладчик. В этой вере можно сомневаться, сам обряд можно обсудить в теологическом диспуте. В конце концов, можно пенять князю Владимиру, зачем выбрал православие, а не иудаизм, где убранство храма попроще. Можно, как говорено выше, алкать перемены православия на лютеранство и полагать, что вслед за лютеровской «боевой проповедью против турок» возникнет новый поворот в замирении Кавказа. А можно – и это наиболее благородно для менеджера наших дней – обратиться к толстовству.
Лев Толстой не признавал чуда Воскресения – в дни Пасхи Христовой об этом нелишне вспомнить. В этом было основное расхождение толстовского христианства с ортодоксальным православием. Он считал Иисуса смертным человеком, а чудо Воскресения трактовал – как мы знаем из одноименного романа – как духовное перерождение человека. Отказаться от греховной жизни, открыть себя к состраданию ближним, жить интересами всех, а не своей персональной наживы, – в этом, по Толстому, и есть чудо Воскресения, человеческого и общественного.
И если бы наше корыстное общество хотело такого Воскресения – было бы не жаль и согласиться с критикой церковного обряда. Но искать грехи предстоятелей и одновременно поклоняться золотому тельцу в лице самых вопиющих его жрецов – это поразительная особенность нашего кривого времени.
И если у кого-то возникла мысль, что это есть путь к гражданскому обществу, то мысль эта в большей степени утопична, нежели насаждение коммунистических идеалов при помощи лагерей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































