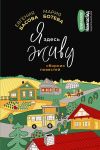Текст книги "Три повести о войне"

Автор книги: Мария Ботева
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Глава 19
– Стась, поехали со мной завтра в больницу к Ленке? Она вроде из комы вышла, ее в обычную палату переложили, но состояние у нее… это… как его? Вегетарианское, что ли? Ну, то есть она вроде сама дышит и все такое, но ничего не соображает. Я… мне… понимаешь, как-то я…
– Боишься? – спросила я в лоб.
– Угу. – Ромка рассматривал трещину на асфальте, убегающую от самого школьного крыльца вверх по улице Ленина. На перекрестке она разветвлялась, как крона дерева, на множество отдельных отростков.
– Похожа на нерв из биологии, – улыбнулась я.
– Угу, – опять согласился Ромка. – Ну, так что?
– Поеду! Только у мамы разрешения спрошу.
* * *
Мы с Ромой встретились у школы и теперь вместе шли на субботний клуб. В расследовании мы так и не продвинулись, но, если завтра я поеду с Ромой в Воронеж, можно попробовать отыскать Тонину подругу. Конверт с адресом прабабушка нашла, так что останется только выйти на нужную улицу, а судя по всему, она была как раз рядом с больницей.
Мы уже подходили к библиотеке, когда навстречу нам выбежал Виталик. Всегда причесанный и подтянутый, сейчас он был сам на себя не похож: волосы взъерошены, лицо раскраснелось. Он пробежал мимо, даже не взглянув на нас. Я хотела его окликнуть, но так и повернулась вокруг своей оси с открытым ртом – Виталику было явно не до приветствий.
За круглым столом собрались все, за исключением Танечки. Я поставила рюкзак на стол и принялась вытаскивать из него бережно упакованные расписанные стаканы и вазочку. На столике у окна уже лежали Сонины шкатулки и Танины вязаные игрушки.
– Я еще не закончил, – угрюмо сказал Даня, – на неделе занесу.
– Ага, лет через пять, – тут же поддела его Соня. – Развел мастерскую, весь стол завалил. Не мог чего попроще придумать?
– Мне немножко осталось, – Даня стукнул носком ботинка по ножке стола.
– Ну что, рыцари круглого стола? Все в сборе? – Яков Семенович вынырнул из подсобки.
– Танечки нет и…
– Танечка здесь, – влетела в комнату запыхавшаяся Таня. – А где Виталик?
Все посмотрели на Якова Семеновича.
– Не все могут спокойно воспринимать критику, – бесстрастно сказал он. – Я показал Виталию некоторые нестыковки в тексте, а он занервничал. Но мне кажется, он сейчас остудится немного и вернется.
– Плохо вы его знаете, – вздохнула Танечка, – он все принимает очень близко к сердцу.
В этот раз Яков Семенович включил спокойную музыку и велел написать словесный портрет какого-нибудь литературного героя, просто так, для тренировки. Сказал, что такой навык нам всегда пригодится: кому на ЕГЭ, кому по жизни. Я со вчерашнего дня читала «Пятую печать» и, хоть в книжке почти не было никаких описаний героев, а сплошные диалоги, живо представляла себе и часовщика Миклоша Дюрицу, и столяра Ковача. Пока я писала про Миклоша, в голове все вертелась загаданная им загадка… Под конец сочинения явился Виталик. Он не острил и не хохмил, как обычно, сказал сухо, что пришел, чтобы обсудить план действий. Он ведь Шерлок Холмс, как-никак.
– Яков Семенович, – позвала я, когда мы сдали работы, – а можно спросить? Вот там, в «Пятой печати», была такая задачка. Скажем, есть остров, с которого некуда деться. Островом правит тиран. Он всех мучает и убивает. А еще есть раб, над которым этот тиран издевается: пытает его, убивает жену и сына… Рабу, конечно, плохо приходится, но он рад, что сам он не тиран, что никому зла не приносит и что совесть его чиста. А тиран не знает, что такое совесть, ему и так хорошо. И вот есть выбор: можно стать либо рабом, либо тираном, третьего не дано. Что выбрать?
– Хм… А что, обычным правителем стать нельзя? – спросил Даня.
– Нет, только тираном или рабом.
Воцарилась тишина.
– Интересно, – улыбнулся Яков Семенович и сел.
– Но ведь можно стать хорошим тираном! – снова заговорил Даня. – Ну, жестоким, может, но не убивать.
– Где ты видел хороших тиранов? – накинулась на него Соня. – Тиран, он и в Африке тиран.
– Но ведь тиран имеет выбор, да? – в своей манере спросила Танечка. – Он может убить, а может не убить, а у раба никакого выбора. Не, тираном лучше.
– Ром, а ты? – я взглянула на одноклассника.
– Наверное, тиран, – неуверенно отозвался тот. – У него деньги, власть. Он может, конечно, кого-то тиранить, но кому-то может и помочь. И семью свою он точно защитит. А раб ничего не может.
– А я за раба, – вдруг выпалил молчавший до этого Виталик. – На нем никакой ответственности, ну да, живется ему не очень, но зато он чист. Яков Семенович, а вы что думаете?
Яков Семенович, нахмурившись, смотрел в окно и то надевал, то снимал колпачок с шариковой ручки.
– Это просто рассуждения, – тихо сказал он, не поворачиваясь. Потом перевел взгляд на разбросанные по столу листочки. – Понимаете, что бы мы сейчас тут ни говорили, когда будем стоять на краю, перед реальным выбором, мы удивим сами себя. Потому что он уже у нас внутри: как мы живем, как думаем, во что верим – все это выйдет на поверхность в критический момент. И это будет момент истины, знакомство с самим собой.
– То есть, – возмутился Виталик, – любой из нас внутри может оказаться убийцей, и в критический момент это вылезет наружу, так, что ли?
– Нет, Виталь, я не о том. Каждый из нас внутри очень разный, и мы сами себя не очень хорошо знаем, а других и подавно. Я всего лишь об этом.
– Чушь, – Виталик резко встал из-за стола, – я себя прекрасно знаю. Да и каждого из вас тоже.
С этими словами он вышел из зала.
– Я же говорила, что он все принимает слишком близко к сердцу, – вздохнула Танечка.
Глава 20
В Воронеж поехали с утра пораньше. На автовокзале меня ждали Ромка с мамой. Ромина мама ездила в больницу каждый день, для нее это теперь была все равно что работа. Она бы поселилась там с Леночкой, но не могла Ромку одного оставить. Она сразу же отсела от нас назад, отдернула автобусную занавеску и воткнула в уши наушники.
– У вас нет папы, Ром? – повернулась я к нему.
– Почему нет? Есть, в Москве где-то. И брат у меня там есть сводный.
– А про Леночку ему сообщили?
– Мама пыталась дозвониться, но телефон не отвечает. Написала письмо. Пока ни ответа, ни привета.
– Слушай, а как же вы? Мама не работает?
– Ну, пока на больничном, потом, говорит, посмотрим…
– Ясно…
Я не знала, о чем еще говорить, и тоже уставилась в окно. Весна только начиналась, хотя здесь она приходит немного раньше, чем везде. Вон, вчера показывали по телевизору: в Москве еще снег идет, а тут уже черные деревья начинают покрываться зеленой дымкой, еще не листочки, а так, предвестники. Мне всегда казалось, что это похоже на парикмахерскую: в начале весны деревья пришли такие прилизанные и некрасивые, а летом их будто завили и уложили. А весна – такое время неопределенное: вроде уже тепло, и ждешь чего-то нового, хорошего, и только настроишься на легкий плащ или туфли-лодочки, как на следующий день повалит снег, и весны как не бывало.
– Странный он какой-то, – вдруг как-то некстати сказал Ромка.
– Кто?
– Яков Семенович.
– Почему? – удивилась я.
– Ну, не знаю. Он все спрашивает, а сам почти всегда молчит. Никаких выводов не делает. Вот в школе на литературе все четко и понятно: Пугачев – такой, Гринев – сякой, ответили на вопросы, записали в тетрадь. А тут чего? Вот он ведь даже вчера не сказал, кем надо быть: рабом или тираном.
– Так и я не сказала, потому что не знаю. А вообще, это же каждый сам решает.
– Ну вот мне интересно: как он решает? Какой-то он скользкий, непонятный. Можно так, можно сяк…
– А разве нет? Это вон у Виталика только все однозначно: предатель, и точка. Не, Яков Семенович классный. Я бы не отказалась от такой литры в школе. Только вот почему у него никого нет?
– Вот. Видишь, непонятно! Взрослый, не урод, а семьи нет.
– Ну, мало ли… Может он женоненавистник? Или у него любовь несчастная?
– Ага, – хмыкнул Ромка и замолчал.
Ну и пусть молчит, подумала я, а Яков Семенович все-таки не такой, как другие. С тех пор как он про письмо рассказал, я стала часто задумываться, как всё непросто в жизни. Вот ты считаешь Тоню злюкой, ничего не понимающей, а у нее вон какая история была, и хоть она все равно злюка, но теперь понятно почему. Или вот в поликлинике на той неделе я просидела два часа, потому что какая-то тетка с двумя детьми пролезла без очереди. Все, конечно, возмущались, кричали, чем они, мол, хуже, почему ей можно, а им нельзя. А потом, когда моя очередь подошла и меня пустили в кабинет, я слышала, как участковая с медсестрой взволнованно говорили о том, что одного из детей той женщины надо срочно в больницу, что с ним там что-то очень-очень плохое, я, правда, не поняла что… Или вот Алмих… Он, конечно, не подарок совсем, но в нем же тоже есть что-то… наверное… Ну, что-то ведь должно хорошее быть! Перед глазами появилось покрасневшее лицо директора, раздутые от возмущения ноздри и маленькие сощуренные глаза. И я вспомнила кота из старого диснеевского мультфильма о Золушке. Золушка так и не смогла придумать, что же в нем хорошего.
Когда въехали в Воронеж, было еще утро, но утро в большом городе – совсем не то, что в О-жске: здесь в центре не кричали петухи из-за деревянных изгородей, вместо них тренькали трамваи и сигналили друг другу автомобилисты, все куда-то спешили, на площади у больницы развернули рынок выходного дня, и по нему сновали деловые хозяйки с сумками. Шумный, шебутной народ галдел, как на празднике, и я даже почувствовала резь в глазах от этой разношерстной пестроты, такой странной после мелькающих за окном деревьев и полей. Автобус вполз на станцию и с тяжелым вздохом открыл двери: приехали. Ромкина мама, не глядя по сторонам, шла целеустремленно через толпу к белому больничному входу. Это был не центральный вход, с пандусом, куда привозят больных, а боковой, для посетителей.
Едва за нами закрылась входная дверь, уличный шум как отрезало, будто там, за дверью, и не было яркой улицы с торговыми лотками. Направо и налево расходились длинные коридоры с одинаковыми дверями, у некоторых дверей стояли банкетки и каталки. Ромкина мама уверенно повернула налево, оглянувшись на Ромку и кивнув ему. Я держалась немного сзади, мне почему-то стало тревожно, как только мы оказались в этом мире больничных запахов и тишины. Я всего раз лежала в больнице во втором классе с подозрением на воспаление легких, но это было довольно весело. В палате было еще три девочки постарше, и мы с ними до самого отбоя играли в «Уно». Здесь же было совсем по-другому. «Нейрохирургическое отделение» – прочитала я над аркой в небольшом холле. За стойкой сидела молоденькая медсестра.
– Все так же, – подняла она голову на немой вопрос Ромкиной мамы, а та кивнула и прошла в девятую палату.
– Нам тут ждать?
– Мама позовет, – Ромка опустился на банкетку и принялся очерчивать рисунок на линолеуме носком ботинка.
На потолке гудели белые длинные лампы, а в остальном в больнице было тихо, только в самом конце коридора уборщица терла шваброй пол и периодически гремела железным ведром. Как в Нарнии, подумалось мне, пока там еще не появилось время. Наконец в дверном проеме показалась голова Роминой мамы.
– Посидите тут, последите за капельницей, я к врачу пока схожу.
Ромка нерешительно направился в палату, я – за ним. Я боялась увидеть что-то страшное и осторожно выглянула из-за Ромкиного плеча. Сначала я вообще ничего не разглядела, кроме двух белых кроватей: одна побольше, другая, детская, поменьше. У той, что побольше, на двух составленных друг с другом стульях спала молодая женщина. Когда я лежала в больнице, у нас в палате была двухгодовалая Катюха, но ей сразу вкатили детскую кроватку с решеткой, чтобы она не вывалилась. У Леночки решетки не было, и сначала мне показалось, что кровать вообще пустая. Но потом я заметила маленький сверток одеяла у стены, а из свертка выглядывало бледное Ленино лицо и еще рука, от которой шла прозрачная трубочка к банке с жидкостью на металлической стойке.
– Когда дойдет вот до этого деления, – Ромина мама провела ногтем по банке с лекарством, – зовите медсестру, она отключит.
Ромка приволок стул поближе к кроватке, усадил меня, а сам присел на краешек постели.
– Сейчас хоть трубок поменьше, – прошептал он, – в прошлый раз ее вообще не разглядеть было.
– Слушай, давай я ей почитаю. – Я полезла в рюкзак за шотландскими сказками, прихваченными из дома.
– С ума сошла? – искренне удивился Ромка. – Она же ничего не понимает.
– Пусть читает, – раздалось вдруг с другой кровати. Мы с Ромкой оглянулись: женщина проснулась и расчесывала волосы. – Главврач говорит, с теми, кто в вегетативном состоянии, надо обязательно разговаривать, тогда они быстрее в себя придут.
Я достала книжку и открыла первую страницу: «Давным-давно был в той стране народ, называемый пиктами»…
Я читала легенды о вересковом меде, о фейри и великанах, и мне очень хотелось, чтобы Леночка где-то там, где она сейчас находилась, сквозь ватную тишину и пустоту слышала хотя бы обрывки старинных сказок, в которых все как в жизни, но есть еще и волшебство, и поэтому все можно изменить и поправить… Вот бы Леночка поверила в чудеса так же, как я. Глупо, конечно, мне уже тринадцать, а я все разговариваю по вечерам с Капитаном Крюком… Но сейчас даже он мог бы помочь. И когда я в очередной раз посмотрела на бледное, восковое лицо Леночки, мне показалось, что под полупрозрачными веками задвигались ее глаза, как это бывает, если человеку снятся беспокойные сны.
* * *
– Ром, я обедать не пойду, у меня тут в городе одно дело есть, семейное, – сообщила я Ромке, когда мы вышли из больничной тишины и полумрака на яркое солнце и нас снова окружили разноголосые звуки весеннего города. Мама отпустила нас перекусить, а сама осталась дежурить у Лены.
Мне не хотелось рассказывать Ромке про Тонину подругу и про то, что, возможно, она как-то могла бы помочь в нашем расследовании. Кто знает, может, ее и в живых давно нет?
– Давай я к автобусной станции подойду уже?
Ромка только пожал плечами. От самой палаты он не сказал ни слова, опустил голову, так и шел, но тут вдруг резко повернулся:
– Стась, спасибо…
– За что?!
– Что веришь, ну, в то, что Ленка слышит. Я тоже сначала верил, приходил и разговаривал с ней, пока никто не видел, но она лежит и лежит, не шевелится. Разве может человек так долго быть без сознания, а потом опять стать собой? Мне кажется, она уже никогда не вернется. Оттуда.
– Спятил, да? – Я от возмущения сжала кулаки, мне хотелось стукнуть этим кулаком Ромку по голове, чтобы он сам пришел в сознание. – Если ты верить не будешь, то кто же тогда? Конечно, она вернется. Я читала, люди иногда несколько лет так вот лежат, а потом приходят в себя. А Ленка вообще маленькая, не может с ней ничего случиться. Не должно! Дети не умирают.
Я произнесла последнюю фразу и осеклась. Однажды я уже говорила эти слова…
Мне было девять, когда мама стала заметно поправляться.
– Твоя мама что, беременная? – спросила меня у школы Соня Певченко. Соня знала толк в таких вопросах, у нее полгода назад родился брат. Я посмотрела на нее ошарашенно:
– Не знаю…
– Ну ты даешь, – поджала губы Соня, – там уже месяцев шесть как минимум, а она не знает.
– Да, у тебя будет сестра, – сказала мама буднично, когда я вечером выложила ей Сонино предположение.
А меня будто тряхнуло как следует. Сестра?! И мама молчала? Да что же, она не знает, как я хотела брата или сестру? Да я с шести лет прошу родителей родить мне кого-нибудь. Сестра! Они купят детскую кроватку с музыкальной каруселью, такую, качающуюся, как у братика Сони Певченко. Я буду укачивать сестру, петь колыбельные, а когда та подрастет, мы будем собирать вместе фигурки, и я расскажу ей про хоббитов и Нарнию, про Нетландию, а потом мы будем играть в Питера Пэна, я буду Питером, конечно, а сестра… ее можно будет нарядить крошкой Динь-Динь. Когда мама возвращалась с работы и скручивалась калачиком на диване, я подползала ей под бок, клала голову на живот и вслушивалась. Мне казалось, что я слышу, как малыш булькает и плавает внутри, и я прижималась еще ближе и шептала прямо в живот, чтобы мама не слышала:
– Когда ты вылезешь оттуда, я подарю тебе Ромео. Это мой кроватный заяц. Пока я сама с ним сплю, но потом отдам тебе. Он защищает от кошмаров.
– Щекотно, Стаська, – смеялась мама, – что ты там шепчешь? Малыш все равно ничего еще не слышит.
– Меня – слышит, я ведь сестра, – говорила я убежденно, и мама улыбалась.
А потом маму увезли в роддом, а мы с папой поехали в центр покупать коляску. На рынке было так же шумно, как сегодня, у прилавков с детской одеждой и игрушками толклись мамы с детьми, а коляски в основном присматривали одинокие молодые папы или беременные женщины. Я остановилась у коляски с желтыми мишками на капюшоне:
– Пап, давай такую, малышка будет там лежать и с мишками разговаривать!
– А может, лучше розовую, – задумался папа, – для девочки-то?
И тут зазвонил телефон. У папиного телефона был такой противный звук, «Полет шмеля» называется. Мне всегда казалось, что эту мелодию следовало назвать не «Полет шмеля», а «Сверление зуба бормашиной». Звук постепенно нарастал и сверлил мозг, и даже на шумной рыночной площади его нельзя было не услышать.
Я все еще смотрела на пятерых мишек, улыбающихся с капюшона коляски, когда папа резко схватил меня за руку и потащил от прилавка. Я ничего не понимала и упиралась как могла:
– Но мы же должны купить коляску, пап!
– Уже не нужно, – пробормотал папа на ходу и потащил меня дальше.
Когда мы вышли из толпы и зашли за автобусную остановку, папа повернулся ко мне и сел на корточки. Наши глаза оказались на одном уровне, и я впервые в жизни увидела у папы вертикальную глубокую морщину между бровями. Раньше морщинки появлялись только в уголках его глаз – от смеха.
– Стась, – папа смотрел мне прямо в глаза, но, кажется, не видел меня, – это звонила мама, ее выпишут через несколько дней, и она будет дома. Надо ее не расстраивать и не баловаться. Хорошо?
– А сестренку? Ее тоже выпишут?
– А сестренка… Понимаешь, так иногда бывает, Стась, она родилась мертвой, и врачи не смогли ничего сделать.
– Но ведь дети не умирают! – Я никак не могла вместить услышанное.
– Умирают, малыш, к сожалению, умирают…
Через несколько дней мама вернулась домой, но она еще долго была какой-то чужой, даже меня почти не обнимала и все время плакала. А я чувствовала себя виноватой, непонятно в чем, но виноватой. Может, в том, что вот жива-здорова, в школу хожу, играю в человечков, читаю, а сестренка так никогда не сможет, ей просто не дали шанса. Почему?
Потом мама стала больше работать, по вечерам ходила на курсы вождения, и жизнь в нашей маленькой семье покатилась по привычным рельсам с привычными остановками на пути: «Школа» – «Работа» – «Воскресные прогулки в парке». Только папа сменил на телефоне рингтон, теперь там стояла тема из Джеймса Бонда.
– Дети не должны умирать, – твердо сказала я и улыбнулась Ромке. – Давай встретимся на остановке через два часа?
Ромка кивнул и пошел в палатку за шаурмой. А я вытащила из кармана скомканную бумажку с адресом Тониной подруги.
Глава 21
Уличный шум имеет странное свойство: он может истончаться и совсем исчезать, как кусок мыла от воды, стоит только зайти в каменную коробку подъезда. Пока преодолеваешь первые два пролета, с улицы еще доносятся крики дворников или собачий лай, но чем выше поднимаешься, тем дальше уходишь от внешнего мира. Дом со всеми его запахами и собственными странными звуками поглощает тебя, закрывает в себе. Причем я давно заметила, что запах у каждого дома разный. В некоторых подъездах пахнет кошками и старыми дедушками, в иных – пловом и блинами, а пару раз я заходила в новомодные подъезды, где пахло исключительно моющим средством и духами. В подъезде, куда я сейчас попала, с трудом открыв тяжелую дверь без кодового замка, пахло вкусно: пирогами с корицей. Я сразу прониклась доверием к этому дому и решила, что все у меня получится и Тонина подруга окажется на месте.
Пятьдесят третья квартира обнаружилась на четвертом этаже за коричневой дерматиновой дверью. «Звонок не работает. Стучите» – прочитала я над кнопкой звонка. Стучать совсем не хотелось, но что делать? Сначала я постучала по дерматиновой обивке, но получилось совсем тихо, и тогда я заколотила по косяку что было сил. С той стороны послышался собачий лай, потом кто-то долго ковырялся в замке, и наконец дверь приоткрылась на старинную цепочную щеколду, а в получившейся щелке появился чей-то прищуренный глаз.
– Вы кто? – спросили из-за двери.
– Ох, так быстро и не объяснишь, – вздохнула я. – А вы – Ангелина Федоровна?
– Я-то да, но если вы будете опять предлагать мне купить пылесос или заполнить анкету в поддержку каких-то депутатов, то до свидания.
Дверь стала медленно закрываться, и я решилась:
– Я правнучка вашей подруги, Тони. Помните такую?
Дверь замерла, так и не закрывшись, а изнутри стали нетерпеливо теребить щеколду.
– Одну минутку! Сейчас.
Ангелина Федоровна отошла к стене, давая мне пройти в тесный темный коридор. Все стены занимали книжные стеллажи, на которых, похоже, уже сто лет никто не вытирал пыль. У меня сразу защипало в носу, и я чихнула. Ангелина Федоровна махнула на дверь справа и снова пропустила меня вперед. Комната, куда мы попали, была не очень большая; все стены увешаны картинами, фотографиями и книжными полками. В углу – стеклянный шкаф, забитый куклами, а на низеньком столике у окна громоздилась старая печатная машинка. Как в музее. Я не успела рассмотреть хозяйку дома в коридоре и сейчас с любопытством оглянулась на нее. Ангелина Федоровна напоминала дореволюционную учительницу: высокая, худая, с седым пучком на голове. В отличие от Тони, она держалась как-то слишком прямо, будто в позвоночник была вставлена спица. На руках у нее сидел маленький серый пудель и нюхал воздух. Ангелина Федоровна сощурила глаза и окинула меня с головы до ног оценивающим взглядом.
– Неужели умерла? – спросила вдруг она.
– Кто?
– Тоня.
– Нет, нет, что вы! С ней все в порядке, – испугалась я.
– А зачем же ты тогда пришла? – удивилась Ангелина Федоровна.
Будто больше прийти незачем.
– Это долгая история… – начала я, но хозяйка тут же перебила.
– Тогда садись, а я за чаем, – сказала она и вместе с пуделем вышла в коридор.
Я завертела головой: все-таки комната очень напоминала музей. Особенно сильно притягивал шкаф с куклами. И было с первого взгляда понятно, что это коллекция, которую собирали долго и с любовью. Куклы стояли на полках группами: старинные, с фарфоровыми лицами, – повыше, современные, в национальных костюмах, – внизу.
– Руками не трогать, – донеслось с кухни, – я ими очень дорожу!
Через минуту хозяйка появилась в дверях с двумя заварочными чайниками:
– Там на кухонном столе – поднос с печеньем и чашки; принеси, пожалуйста. Тебе какой чай: черный или зеленый?
Ангелина Федоровна уселась в кресло у окна, налила зеленого рисового чая и пристально посмотрела на меня. Есть я совсем не хотела, но из вежливости взяла сушку с маком и отгрызла маленький кусочек.
– А ты совсем на нее не похожа, – констатировала Ангелина Федоровна. – Значит, говоришь, с ней все хорошо?
– Ну, не совсем хорошо, конечно, руки болят, у нее этот… остеохондроз.
– Да уж не девочка, понятно. И зачем же ты пришла?
– Ой, это долгая история, – повторила я и поняла, что почему-то мне хочется рассказать этой женщине все как есть, так, как я ни за что бы не рассказала собственной бабушке: и про занятия по субботам, и про Якова Семеновича, и про Старцева.
Услышав эту фамилию, Ангелина Федоровна вздрогнула и отставила чашку. Она смотрела на меня не отрываясь и слушала, слушала…
– А Тоня мне сказала, что вы учились у Старцева, вот я и подумала, что, может, вы что-то про него помните, – закончила я свой рассказ и замолчала. Вместе со мной замолчало в комнате все, только часы где-то на кухне перекатывали время, подталкивали его стрелками на циферблате: тик – секунда, ток – еще одна. Ангелина Федоровна сидела, вытянувшись в кресле, и смотрела куда-то на стену за моей головой, прямая и несгибаемая, как вековая сосна. И лицо – как у ее фарфоровых кукол: белое и застывшее.
– Я никогда этому не верила, – вдруг быстро и сбивчиво заговорила она, – ни одной секунды. До последнего, пока школа еще работала, он собирал нас на кружок. Я даже была в него чуток влюблена, ну, так, по-детски, конечно… А перед каждым занятием мы залихватски пели на немецком.
Ангелина Федоровна на секунду замолчала, что-то припоминая, а потом вдруг запела глубоким низким голосом:
– Хорошо, кроме нас, никто не понимал, о чем это… А еще была у нас такая игра в шифровки. На дом он раздавал нам текст, каждому свой, а мы должны были расшифровать. С помощью дешифратора. Так-то и не станет никто читать, а с дешифратором этим даже двоечники покупались. Не, Старцев был голова! И учитель от бога. Не мог такой предателем стать. Вот доказать не могу, а не верю. А трафаретка эта у меня, кстати, до сих пор где-то валяется. Погоди-ка.
Ангелина Федоровна встала и прошествовала к комоду в углу комнаты. Старинные ящички выдвигались со скрипом, будто просили оставить их в покое. Все они были набиты открытками, письмами, квитанциями и записями.
– Никогда ничего не выкидываю, – говорила Ангелина Федоровна, перебирая длинными сухими пальцами бумаги. – Вот, погляди-ка, это мне Тоня писала в пятидесятых.
Ангелина Федоровна передала мне стопку писем, перетянутых аптечной резинкой. Я сразу же узнала убористый Тонин почерк и, вытащив из стопки верхнее письмо, быстро пробежала глазами:
Здравствуй, Геля!
Не ожидала я от тебя такого. Не думала, что будешь мой адрес направо-налево раздавать всяким старым знакомым. Я чуть не умерла, когда ко мне Серега Савельев постучался. Пьяный вдрызг, на кухню прошел. Сидел до ночи, в любви объяснялся. А у меня, к твоему сведению, муж молодой и дочка грудная. Зачем мне эта пьянь? Еле его выпроводила. Я понимаю, что он герой, войну прошел и т. д. Но ты и меня пойми: у меня новая жизнь началась, я не хочу ничего вспоминать, ни про войну, ни про школу. Ты бы хоть разрешения моего сначала спросила. Я очень тебя любила и дорожила нашей дружбой, но так нельзя.
Не пиши мне больше, и тем более никому не давай мой адрес.
Тоня
Я пораженно подняла глаза на Ангелину Федоровну.
– Серега Савельев? Савельев?
– Серега, да, они с Тоней в одном классе учились. Кажется, она ему действительно нравилась. А с войны он вернулся контуженый, ну и пил, как говорится, горькую. Очень непросто привыкнуть к обычной обстановке после того, как там побывал. Там каждый день с жизнью прощаешься, теряешь тех, с кем вчера бок о бок в палатке ночевал, вокруг тебя грязь, кровь. Тем более он в партизанах был, всякого насмотрелся. А сюда вернешься – вроде и радоваться надо, а не можешь, потому что война всю душу съела, пережевала тебя, да и выплюнула. Не все с этим справлялись… Вот Серега так и не выкарабкался. Я, как его увидела, не могла отказать, он очень с Тоней повидаться хотел. Кто знал, что она психанет? Но ты на нее не сердись, ей тоже хлебнуть пришлось, ничего вспоминать не хотела.
– И вы с тех пор не общались?
– Нет, – улыбнулась Ангелина Федоровна, – Тоня такой человек: если решила что-то, то так и будет. Ты же ее знаешь.
– Знаю, – вздохнула я. – Жалко.
– Ко всему привыкаешь… Ага, вот оно. – Ангелина Федоровна повернулась ко мне; в руке у нее был зажат потрепанный картонный прямоугольник с дырочками, которым она торжественно потрясла над головой. – Это и есть дешифратор. Смотри!
Хозяйка вытянула из нижнего ящика исписанный листок и разгладила его на столе. Я склонилась над столом и прочитала:
– Королева позвала к себе гвардейца и дала ему задание, чтобы он отправлялся к соседнему королю и привез от него огромный сервиз на сто человек уже завтра. Она записала приказ на странице из своего блокнота. Но гвардеец потерял его по дороге. Поэтому через день он доставил королеве только пятьдесят чашек и тарелок, четыре из которых тут же полетели в его голову из-за невыполненного приказа. Что это за бред?
– Это не бред, это задание на дом по немецкому языку, – засмеялась Ангелина Федоровна. – Я сама шифровала, между прочим! Попробуй теперь вот так его прочитать.
И она протянула мне дешифратор, показывая, какой стороной его надо приложить к листочку. В окошках дешифратора тут же появилась надпись:
«Задание на завтра на странице пятьдесят четыре».
– Ого! – только и сказала я. – Здорово!
– Это еще не «ого», у Антона Петровича каждый урок превращался в детективную историю. Он нам даже спряжения глаголов не объяснял, мы сами должны были расследовать, почему в словах окончания разные. Из-за него я немецкий на всю жизнь полюбила. Вот хоть режьте меня, а не мог он быть предателем.
– А можно я сфотографирую этот дешифратор? – спросила я.
– Фотографируй на здоровье. Вот отдать я тебе его не отдам, это у меня память о нем. У меня вообще тот комод – ящик с воспоминаниями.
Ангелина Федоровна собрала чашки со стола и отправилась на кухню, а я достала телефон и нащелкала несколько кадров дешифратора, истории про королеву, а заодно еще зачем-то и Тонино письмо отсняла.
– Ты Тоне все-таки от меня привет передавай, – сказала на прощание Ангелина Федоровна. – Я на нее зла не держу, люблю все так же. Глупо на старости лет помнить обиды.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.