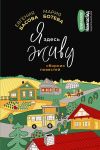Текст книги "Три повести о войне"

Автор книги: Мария Ботева
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Глава 17
Это случилось на математике. В кабинет заглянула перепуганная Марина Владимировна:
– Можно я заберу Бойцову? Это срочно.
Неужели Алмих что-то заподозрил? Не могли же мы оставить следы у него в кабинете? Мы же выключили комп, Гришка даже стер историю поиска. Я послушно собрала рюкзак, с тревогой поглядывая на классную. Марина Владимировна никогда раньше не говорила так жестко и холодно, как конвоир, сопровождающий арестанта на суд.
– Не ожидала я от тебя, Анастасия, – выговаривала мне по дороге классная. – Моя лучшая ученица, отличница. Отличилась, нечего сказать…
– А что случилось? – Я искренне не понимала, в чем дело.
– Сейчас придем к Александру Михайловичу, и узнаешь, – горестно покачала головой Марина Владимировна.
Алмих восседал на кресле, как на троне, и свысока смотрел на меня – ну, ни дать ни взять царь, только что одержавший победу над Наполеоном.
– Ну? – спросил он как-то слишком спокойно, а лицо оставалось на удивление бледным.
Я не знала, как реагировать на это «ну». Переспросить, что он имеет в виду, – как-то невежливо, рассказать, как прошел день, – странно. Я предпочла молчать и вопросительно смотреть на директора.
Алмих тяжело вздохнул, видимо, сожалея, что у него в школе учатся такие идиоты, не способные понять его с первого слова, поэтому добавил второе:
– Ну? Что?
– Ничего, – отозвалась я. А что еще скажешь-то?
У директора начали розоветь уши – верный признак, что кому-то сейчас достанется. Марина Владимировна на всякий случай отодвинулась подальше от стола и заняла оборонительную позицию за стулом для посетителей, куда Алмих так и не предложил ей сесть.
– Вот видите? – Алмих указал на меня пальцем. – Видите, как она разговаривает?
– Анастасия, – вмешалась Марина Владимировна, – почему ты грубишь? Тебе Александр Михайлович поручил защитить честь школы. А ты?
Фуф, так дело просто в проекте? А я-то уже перепугалась, что нас вчера застукали.
– Да я не против, – сказала я.
Сейчас на радостях я готова была согласиться на любой проект. К тому же мне совершенно не хотелось расстраивать классную. Она была хорошая, наша Марина Владимировна… Еще во втором классе, когда только начался английский и когда она не была у нас классной, на самом первом уроке она порывисто ворвалась в кабинет – в темно-зеленой водолазке и клетчатой шотландке – и с ходу начала тараторить на английском. Никто ничего тогда не понял, но все завороженно слушали эти взлетающие вверх и опускающиеся до скрипа вниз интонации. «Англичанка», – с придыханием говорили про нее на переменах. Да, мы тогда были уверены, что она именно англичанка, которую по какому-то недоразумению зовут Мариной Владимировной. Позже, когда она рассказывала про Тауэр и Виндзор, про Генриха VIII и Вильгельма Завоевателя, мы почти так же наивно верили, что она лично знала всех этих Тюдоров и Стюартов – ведь она была в Букингемском дворце и ходила в «Глобус», где играл сам Шекспир! За неимением других англичан поблизости Марина Владимировна стала воплощением всего британского: далекого, чарующего, магического. Она сама говорила, что больна Англией, и, видно, передала свои бациллы всему классу. А во мне этот вирус помножился на врожденный и впитанный с молоком матери – мне, в общем-то, и учить ничего было не нужно, казалось, я уже родилась с английским в голове. Конечно, Марина Владимировна считала меня своей лучшей ученицей. Тем печальнее было разочаровывать ее теперь.
– Сделаю я проект, – еще раз повторила я.
– Ну вот и отлично, – сказала Марина Владимировна. – Ты оставайся, сейчас Александр Михайлович тебе подробно расскажет, что надо сделать, а я пошла на урок.
Алмих не стал ничего объяснять, а просто распечатал стопку бумаг и вручил мне. Я должна была подготовить проект о нашей школе, рассказать о ее истории, чему нас тут учат, какие направления образования, куда потом идут выпускники. В общем, ничего особенного, справлюсь. И, кстати, кто мне мешает в исторической части рассказать про Старцева?
– Проект представишь в мае, в администрации. Изволь подготовиться как следует, нам надо о себе заявить на всю область!
– А вы не подскажете, – совсем некстати спросила я, – вашего отца звали Михаил Владимирович?
– Нет, Михаил Вениаминович. А что?
Алмих удивленно смотрел на меня.
«Че тэ дэ», – подумала я словами Виталика, но вслух, разумеется, сказала не это.
– Просто попались инициалы где-то, не знала, как расшифровать.
* * *
– То-о-оня! – закричала я с порога.
– Это ты? – отозвалась бабушка из-за клубов пара.
Такой уютный и домашний голос! Он будил по утрам в детский сад, он волновался, когда я болела, он строго спрашивал о делах в школе и игриво – о женихе Димке. Он мог ругать и читать долгие мучительные нотации, но он совершенно точно любил меня. Когда же все изменилось? Когда меня стало раздражать Тонино вмешательство, громко работающий телевизор с вечными новостями, который никак нельзя было сделать потише – Тоня плохо слышит. А эти ее вечные воспоминания: «Вот мы в нашей семье уважали отца и мать, мы никогда им слова грубого не сказали!» А вламывание в комнату, где я была в безопасности? В мир за стеклянной перегородкой аквариума с сонно покачивающимися в воде вуалехвостами?
Когда Тонин голос перестал убаюкивать и лелеять, а начал резать и бить по нервам? Может, когда я принесла домой Хельму – крошечного котенка, тайского бобтейла, – он на самом деле был похож на сиамского, только без хвоста? Это мне Катя Минина отдала совершенно бесплатно, между прочим; так-то бобтейлы очень дорогие. Тоня отложила швабру, приблизила лицо, приподняла очки и долго и внимательно разглядывала Хельму.
– Уноси обратно, – сказала и стала изо всех сил тереть совершенно чистый пол.
А я стояла, прижимая к себе Хельму, и не могла понять.
А может, это началось еще раньше, когда к нам приехала в гости Тонина племянница Оля с маленькой дочкой? Тоненькая, шустрая и звонкая, она каким-то образом заняла собой всю квартиру: через полчаса после их приезда в духовке уже подрумянивалась шарлотка, полгостиной занимал огромный чемодан, а в моей комнате хозяйничала двухлетняя Саша, сгребая с полки фигурки из коллекции.
Мне было любопытно: я же не видела раньше маленьких детей так близко, а тут можно и поговорить, и поиграть. Тем более мелкое и юркое существо постоянно требовало внимания:
– То че? А то че?
Оно, правда, объяснялось на непонятном языке, нахально лезло везде и кричало, если его не пускали, но оно было такое… теплое… Я украдкой прикоснулась к Сашиной щеке, и она оказалась нежной, провела по ней пальцем, потрогала пушистую светлую кудряшку над мягким ухом. И тут Саша протянула мне зажатого в кулачке гнома и сказала:
– Патя!
– Какой же это Патя? – я была возмущена. – Это Торин. Торин Дубощит. Скажи: «То-рин».
– Патя! – повторила Саша.
– Не Патя, а Торин! Торин-Торин-Торин!
– Патя! – Саша тыкала кулачком в меня, и в ее голосе появились истеричные нотки. Она хныкала и повторяла: – Патя, Патя…
– Ну послушай, – сказала я, – давным-давно жил огромный и страшный дракон. – Я сложила ладони, изображая крылья дракона. – Он прилетел в страну гномов и дыхнул на них огнем. У-у-у-у, – я сделала страшные глаза и приблизилась к Саше. Саша перестала хныкать и замерла. А я продолжала: – Дракон хотел отобрать у гномов золото, но они храбро сражались. Вжиг-вжиг, – размахивала я руками как клинками, – хрясть-шарах, они бились мечами и дубинками. Но дракон победил. А потом Торин, – я взяла у Саши из рук гномика, – решил вернуть своему народу золото и гору. Поняла? Он взял еще других гномов и хоббита, и они пошли. – Я схватила обалдевшую Сашу на руки и стала танцевать с ней по комнате, напевая:
К вершинам седым, к перевалам крутым,
К ущельям и ямам, где пламя и дым,
В скалистые горы, в подземные норы
Уйдем за сокровищем древним своим.
Там пращуры-гномы в пещерной тени
Кузнечных костров раздували огни;
Искусны и стары, могучие чары
Знавали они и ковали они.[3]3
Песня гномов из книги Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», пер. Г. Кружкова.
[Закрыть]
– Ну, кто это?
– Патя, – уверенно сказала Саша и направилась с гномом к дивану.
Она разгребла плед и одеяло, устроив подобие гнездышка, положила туда Торина и укрыла сверху носовым платочком, после чего гордо посмотрела на меня и опять заявила:
– Патя!
И тут до меня наконец дошло:
– Патя! Ну конечно, СПАТЬ! Ты его спать уложила?
– Да! – просияла Саша от того, что ее наконец поняли, и крепко обхватила мои коленки горячими влажными ладошками.
На секунду у меня перехватило дыхание – захотелось вот так стоять с Сашкой всю жизнь, и пусть все вращается вокруг нас пестрым вихрем. Я даже успела загадать: 23 ноября, 4 часа дня; запомнить во всех подробностях: запах шарлотки с кухни, босые ноги на паркетном полу, горячие ладошки, обнимающие коленки, и пушистые светлые Сашкины волосы.
Такая фотография в памяти – щелк – и на всю жизнь.
Шарах! Дверь со всего маха налетела на угол шкафа, и в комнату ворвалась Тоня. Стремительным соколиным взглядом обозревала она обстановку, выискивая беспорядок. И конечно же, сразу его нашла: среди моих учебников по всему столу валялись фигурки, а на кровати в кульке из одеяла спал Торин.
– Сашенька, – притворно-умильно сказала она, – нельзя трогать чужие игрушки. Это Стасино!
– Нет, – возмутилась я, – мы же играли с Сашкой.
– А я говорю, нельзя!
Саша переводила испуганные глаза с меня на Тоню.
– Она маленькая, сломать может, – гнула свое Тоня, – посмотри, какие фигурки хрупкие. Мать говорила, они по тыще каждая. Тебе все равно, что мать вкалывает с утра до ночи?
– Саша – моя сестра! Мы играли…
– Сестра? – закричала Тоня. – Да много ты эту сестру видела? А Оля вообще наглая: как ей надо – приезжает, а когда не надо – ни слуху ни духу. Да еще и ребенка притащила.
– Тетя Тоня, – на пороге стояла побледневшая Оля, – что же вы мне раньше не сказали, чтобы я не приезжала? Я наглая?
– Наглая, – не мигнув отозвалась Тоня.
Все Олино оживление как испарилось, плечи поникли. Она закусила нижнюю губу и стала швырять вещи в спортивную сумку, как есть, не складывая. Потом уселась на стул, подхватила Сашку и стянула с нее домашнее платье, которое тут же полетело вслед за другими вещами. Она все делала порывисто и случайно заехала Саше ногтем по подбородку, та дернулась и заплакала, а на подбородке осталась красная полоса.
– Стась, принеси перекись, – попросила Оля еле слышно и тут же опять закусила губу. Иначе бы тоже разревелась прямо тут, перед Тоней. А это было никак нельзя.
Пока искала перекись, я слышала, как Оля что-то говорит Тоне, а та отвечает, но, когда я вернулась, в комнате было тихо, как под водой, даже Саша молча сосала палец.
А потом они уехали. Правда, я исхитрилась в коридоре сунуть в Сашкин кулачок Торина в платочке и шепнула:
– Это тебе. Патя.
Прабабушка никогда больше не вспоминала про Олю и Сашу. Первое, что она сделала, когда те уехали, – достала шарлотку из духовки и выбросила в мусорное ведро.
– Нам чужого не надо.
Я только вздохнула и ушла в свое одинокое убежище расставлять фигурки: теперь они снова будут стоять на полке, играть с ними некому.
* * *
Тоня выглянула с кухни:
– Суп на столе!
– А можно мы сначала поговорим? – спросила я нерешительно.
Глава 18
Тоня поправила очки и вытерла руки о фартук привычным движением: сначала тыльную сторону ладоней, потом внутреннюю.
– Я тебе уже сто раз рассказывала про войну: как осталась без родителей в 15 лет, как на мне был маленький брат, как старший…
– Нет, не про это, – перебила я. – Расскажи, как ты жила, когда в доме были немцы? Ты с ними вообще разговаривала?
Прабабушка нахмурилась и несколько минут молчала.
– Да они не немцы были, венгры. Часто всех фашистов под одну гребенку немцами кличут. А разговаривать приходилось. Они же командовали: принеси то, принеси это… Мы, молодые девчонки, мазались сажей и платки повязывали вот так, чтобы фашисты не зарились, – Тоня расправила полотенце, которое комкала в руках, и накрыла им голову по самые брови. – И в подвалах отсиживались. Мы с братом Николаем перебрались в подвал, как только немцы вошли… А потом и вовсе убежали и в сарае за городом прятались – это после того случая, когда Коля яблоко у фрица стащил, а они по пьяни пристрелить его не смогли: он зигзагами по двору бегал, а потом в лопухи упал. По помойкам шарились, очистки картофельные искали. Если бы меня тетка троюродная не пристроила на кухню работать, картошку чистить, – мы бы с голодухи ноги протянули. Ну, тоже у фашистов работать пришлось, конечно, но на кухне они нас не обижали.
– То-онь, а ты немецкий знаешь?
– Знала когда-то… Я в первую школу в кружок ходила, у нас-то не было немецкого. А там моя подруга Геля училась, у них и театр на немецком был. Учитель, правда, потом врагом народа оказался…
– Старцев?! – я аж подпрыгнула от неожиданности.
– Точно, Старцев, я уж и забыла. А ты откуда знаешь?
– Да так, по краеведению проходили. Слушай, а расскажи про него.
– Да что рассказывать? На кружке было интересно: мы спектакли ставили, «Гензеля и Гретель» вот. А еще он такой специальный шифр придумал: мы друг другу послания писали, а потом расшифровывали. Как шпионы. Да он потом шпионом и стал, вишь, как вышло-то.
– А что за шифр?
– Ну, писали буквы вразнобой на листе, а между ними вписывали какую-нибудь фразу. А еще у нас были карточки такие специальные с окошками: их если к этим буквам приложить, то в отверстиях получались слова. И всё на немецком. Мне очень эта игра нравилась. Потом война началась, не до кружка стало…
– А потом?
– Что «потом»? Потом наши пришли, фашистов выгнали, и мы в дом вернулись. Только… – Тоня затеребила полотенце, – бывают и наши люди хуже фашистов.
– Кто? Старцев?
– Да при чем тут Старцев?! Про него я ничего не знаю. Геля, может, знала, только я с ней уже лет двадцать не общаюсь, может, и померла уже.
– Она здесь живет?
Тоня покачала головой:
– Еще в девяностые к дочери в Воронеж переехала. Мы сначала переписывались, а потом она писать перестала. Да, вот к чему я это, про людей?
– Что и наши бывают хуже фашистов…
– А, точно! Когда немцев прогнали, мы с братом вдвоем в доме остались. Я девчонка еще была, года на три тебя старше, а Коля и вовсе пацан. Страшно, знаешь, как? А тут знакомая с севера написала: мол, жить негде, не приютишь? Ну, я и обрадовалась. Дура наивная!
Тоня замолчала, а я боялась ее спугнуть и тоже сидела тихо.
Вдруг запищал таймер на плите, и Тоня сорвалась к духовке – вытаскивать пирожки. В другой раз я ушла бы к себе, но тут вскочила:
– Тонь, дай я, – и ловко водрузила противень на плиту. – Ну?
– Да не люблю я это вспоминать, – Тоня снова уселась на табуретку. – Приехала она с дочкой, поселилась. Сначала я рада была, что в доме взрослый человек… Потом мамины вещи пропадать стали, а потом… Была у меня тетка, мамина сестра, она в аптеке работала. И вот остались у нее ампулы пенициллина, она мне принесла. «Продай, говорит, или на еду обменяй – можно будет полгода спокойно на это жить». А пенициллин тогда вообще запрещено продавать было. Ну, жиличка моя услышала наш разговор и в прокуратуру побежала. Со мной ничего, а тетку посадили на пять лет. А потом еще хуже началось… Пришли ко мне с повесткой, говорят: «Поступила на вас жалоба, явитесь в прокуратуру», – и обвинили меня в таких вещах, я и вспоминать об этом не хочу…
Я испугалась, что Тоня опять замолчит:
– В каких, ба?
– Ну, в каких-каких… Я девчонка, а у нас тут в оккупацию полный дом фашистских мужиков был. Понимаешь, в каких обвинить могут? А потом с обыском пришли, ящики все повытаскивали, нашли фотографию фашиста. Я, наверное, не заметила, когда дом после них отмывала. И в дело ее вклеили, фотографию эту. Это был ад, Стась, меня начали по судам таскать и такие вопросы задавали… А я ведь девочка была совсем, даже с мальчиками ни разу не целовалась… А донесла на меня эта гадюка, которую я жить пригласила. Это я потом поняла уже, что она хотела от нас с теткой избавиться, дом отобрать, а вещи все распродать. А тогда глупая была, ничего не понимала…
Меня словно к стулу придавило чем-то тяжелым. В ушах стучали и гудели Тонины слова. На улице, на площадке под окнами, верещали девчонки, за ними бегали мальчишки и, судя по воплям, загоняли их на горку. К этому ежедневному шуму я привыкла с детства, как привыкла к суровой Тоне, шаркающей по длинному коридору в тапочках не по размеру, привыкла к ее ворчанию, к ее вечным наставлениям. Но сейчас передо мной предстала незнакомая Тоня: простодушная девчонка, оставшаяся одна на свете, обманутая и беспомощная, которую и защитить-то было некому.
Тоня помолчала немного, потом вздохнула и улыбнулась:
– Хорошо все-таки, старшего брата с фронта отпустили из-за ранения. А то бы совсем пропала… Помню, вышла я за калитку белье на веревке поправить, вдруг смотрю: старик какой-то по улице нашей ковыляет, на солдата опирается. Что за старик, думаю? А как приближаться стал, я в нем брата узнала. С трудом, конечно. Седой совсем, раненый. Но меня увидел, разулыбался, кричит издалека: «Тоня, зови маму, папу, скажи, что я вернулся». А я стою и не знаю, что ответить. Как сказать, что ни мамы, ни папы у нас больше нет?
Я опять, как тогда с письмом, нырнула в темный колодец, мимо проносились книги на полках, банкисклянки, время стремительно менялось, щелкали перед глазами кадры кинохроники: демонстрации, воздушные шары, физкультпарады и заводские рабочие – все, о чем я когда-то в кино смотрела или читала. А потом, как Алиса, вынырнула из темноты, но оказалась не перед волшебной дверью в сказочный сад, а на улице О-жска семидесятилетней давности. Город узнавался с трудом, он был похож, скорее, на деревню. У калитки двухэтажного дома стояла остроносая девочка: брови домиком, две косички ниже лопаток. В воздухе повис сладкий сиреневый аромат, а огромный каштан у самого крыльца весь был усыпан белыми цветочными пирамидками. От сладости, разлитой в воздухе, казалось, что и пирамидки эти съедобные – точь-в-точь воздушные пирожные-безе.
Перед девочкой застыли две фигуры: молодой подтянутый рядовой поддерживал седого человека, капитана, кажется, который еле держался на ногах: одной рукой он опирался на солдата, другой схватился за забор, голова опущена. Но тут он поднял глаза, откинул челку со лба, и стало ясно, что этому «старику» не больше двадцати пяти лет: лицо у него гладкое, без морщин, глаза живые. Только сейчас он смотрел перед собой так, что казалось, весь его мир сотрясся и он пытается удержаться на твердой земле и не провалиться в пропасть, открывшуюся прямо перед ним.
– Когда? – произнес он одними губами.
– Еще в сорок первом, уже два года. – Тоня подошла ближе и перехватила брата под руку.
– А Николка?
– Жив.
– А ты как?
– Пойдем внутрь.
Они зашли в дом, в просторную деревянную столовую на первом этаже; в дубовом буфете горкой сложены тарелки. Тоня открыла дверцу, достала две рюмки, поставила перед братом и рядовым.
Капитан залпом осушил рюмку и снова поднял на Тоню взгляд:
– Как?
– Папу – миной, у нас во дворе. Он на крыльце еще постоял, крикнул мне оттуда: «Не забудь только про Николку, а то я тебя знаю, покорми!», – а через минуту рвануло. Он весь целый был, только один осколок попал. Прямо в сердце…
– А мама?
– А мама – через три месяца от тифа. У нас тут эпидемия началась, нас с Николкой тетя Оля сразу к себе забрала, так что мы с мамой даже не повидались.
– Покажи, куда вещи мамины сложила.
– А вещей тоже нет. – Тоня подвинулась ближе к брату и испуганно зашептала, залепетала всю историю про жиличку из Сибири, про тетку в тюрьме, про вызовы в прокуратуру. – Я дура, Вань, знаешь, какая ду-у-у-ура, я боялась одна в доме, а вдруг фрицы опять… – и Тоня завыла на плече брата.
Капитан Ваня обнял сестренку и взглянул на рядового:
– Быстро в часть, приведи с собой еще двоихтроих, сейчас мы ее выставим.
Я слушала откровения Тони, забывая дышать.
– По дому забегали солдаты и чуть ли не под конвоем вывели мою жиличку. Потом брат и с прокуратурой договорился, чтобы они меня больше не трогали. Его послушали, он же герой! Вот только тетку отстоять не удалось, так она и отсидела пять лет ни за что. Я тогда пообещала себе, что не буду людям так вот слепо верить, и тебе поэтому говорю, Стаська: думай побольше о себе!
Я как будто на землю вернулась: снова передо мной была моя прабабушка, со своей правдой жизни, которая никак не вписывалась в мои представления. Но теперь я знала про нее кое-что еще, и ссориться как-то не хотелось:
– Слушай, а ты вот говоришь, в Воронеже у тебя подруга жила. А адрес ты не знаешь? Мне бы про Старцева узнать. Нам по краеведению надо.
– О, гос-с-споди, да зачем он вам понадобился-то, Старцев этот?! Предатель, и предатель, что там еще про него узнавать? Ладно, сейчас поищу ее адрес, когда-то она мне писала…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.