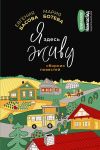Текст книги "Три повести о войне"

Автор книги: Мария Ботева
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
Осень
Улица имени СавоськинаНикому не нужна эта осень, только Глебу она нужна. Особенно октябрь, тогда начнутся его мастерклассы в «Часах», он найдет интересных противников, заработает денег, а весной купит себе новые кеды – снова белые, со звездами. Ну, Ваське еще, может быть, осень нужна, потому что он целый учебный год всюду будет рассказывать о Трофиме Савоськине. И Сашке тоже, потому что у него день рожденья, он уже научился показывать на пальцах, что ему четыре, хотя пока что ему только три. Мама наверняка тоже хочет, чтобы осень разошлась посильнее, тогда ее воспитанники в детском саду будут приносить желуди, шишки, кленовые носики и кучу других природных даров и делать из этой дребедени поделки. Она все время говорит, что с детьми надо заниматься, приучать их мастерить руками, тогда и голова у них будет работать как надо. Папа надеется, что осенью люди вернутся со своих дач и у них снова начнут ломаться пылесосы и телевизоры, компьютеры и швейные машинки. И тогда он станет больше их чинить, у него появится больше работы, больше денег.
– И ты себе наконец-то купишь приличный пиджак! – говорит ему мама.
– Пиджак, ну уж, – морщится папа, – сто лет никто не носит пиджаки. Лучше кофту. С пуговицами! Как была у меня, когда я еще ходил в девках.
– В девках! – кричит на него мама, а сама улыбается. – В девках! Будто девок у тебя много было!
И она смотрит на папу так, будто только что обыграла его в шахматы. И он на нее так же смотрит, так что совсем непонятно, кто кого тут обыграл. Бывает такое, что я смотрю на своих родителей и ничегошеньки не понимаю про них. Странно, конечно, я же знаю их больше двенадцати лет.
Получается, что осень нужна всем, ну и я, наверно, тоже рада, что что-то меняется, и мне нравится, что меняется постепенно. Дни становятся короче и прохладнее, скоро все пожелтеет и покраснеет, мы вот-вот выкопаем картошку. Потом пойдут дожди, потом замерзнут лужи, пойдет снег. И так далее. Так вот, хорошо, что это происходит постепенно. Гораздо было бы хуже, если утром лето, а вечером уже зима глубокая. Очень неприятно.
Через неделю после того, как мы выгоняли бульдозеры из сада дяди Толи, тетя Зина снова приехала. В этот раз она задумалась, не взять ли в самом деле Ваську в городскую администрацию. Было видно, как эта мысль бродит у нее в голове. А братец Василий бродит за тетей Зиной, пробует заглянуть в глаза.
– Да сгинь ты отсюда, бога ради! – в конце концов закричала тетя Зина, и он очень убедительным галопом скрылся в своей с Глебом комнате. – Не было бы ссадин у тебя этих, взяли бы.
Васька выглянул из комнаты. Говорит:
– Ну вы хотя бы справитесь там без меня?
– Куда денемся, справимся. Вот ведь отец был заполошный, и после смерти никому никакого покою от него!
– Тетя Зина! Он же герой!
– Герой, герой, кто спорит. Герой, конечно.
– Он флаг на Рейхстаге поставил! И воевал! И орден получил, и медаль! И вообще! А вы!
– Ну конечно, Василёк, не волнуйся. Так и было.
– Вы не верили ему, что ли? Как остальные?
– Верила, Васенька, конечно, верила. Давай после поговорим. Некогда.
– Ну вот. Так и было.
Васька сопит, но держится, не ревет, хотя я вижу, что это ему трудно. Странно, что у него все его торжественные слова о Трофиме куда-то попрятались. Обычно он любому с ходу мог рассказать о нашем прадеде двоюродном, объяснить, в чем его героизм, перечислить награды, пообещать, что скоро все про него будут в учебниках читать. А теперь ничего толком сказать не может, только «герой» да «герой».
Васька весь день был какой-то рассеянный. Я к нему на третьей перемене зашла, он сидит, учебник читает, математику. Не бегает, ни с кем не разговаривает. Обычно на этаж младших классов зайдешь в перемену – только его видно и слышно.
– Васька, – говорю ему, – чего ты распереживался? Ничего страшного ведь.
А он пробурчал, что ему некогда, он к математике готовится, хочет пятерку. И в самом деле пришел с пятеркой домой. По математике. Первой в этом учебном году.
– А я думала, ты все за лето позабыл, – сказала ему мама. – У нас вот какая новость с тетей Зиной. Сказать?
– Говори, уже начала все равно.
Мы все пришли из школы, а мама с тетей Зиной – из администрации, мы в подъезде все встретились.
– Мы в субботу поедем в Калужницу! – сказала мама очень торжественно. – Открывать улицу!
– Как это? – спросил Глеб. А я сказала:
– Снова в Калужницу?
– Света, не перебивай, – сказала мама, как будто я первая ее перебила, а Глеб ни при чем. – Улицу имени Трофима Савоськина! Приедет губернатор, военные…
– Снова стрелять будут?
– Света! – громко сказала мама, помолчала немного, говорит: – Будут! Если надо, будут стрелять! Они же военные! И Трофим был военным! Герой, как ты знаешь.
Я думала, Васька обрадуется, что он снова будет перед всеми выступать, что все так торжественно, и улицу назовут именем Трофима, и памятную табличку откроют. И губернатор приедет, и в газетах об этом напишут. А он сидел и молчал, пока мама рассказывала, ни словечка от него не услышали. Только сидел, слушал и вздыхал.
– Чего молчишь, Васька? Хорошо же это?
– У меня синяк, – ответил он, – я не поеду. Пусть вон Глеб рассказывает. Или ты сама.
– Синяк пройдет, его уже не видно почти. Замажем специальным кремом. Да ты что, ты не рад?
– А с нашим садом что?
– С нашим садом ничего не ясно. Пока решили его не трогать. Думают. Может быть, тут в самом деле будет парк. Трофима Савоськина. Городской сад. Рекреация.
– Мама, – вдруг сказал Васька, – ты извини, конечно, я тебя перебиваю. Но я должен выйти. Мне надо освежиться.
Никогда мы не слыхали такого от Васьки. Мало того что извинился, обычно мы все просто перебиваем, да и всё. Освежиться – такого тоже никто не ожидал. Надо же.
– Конечно, Василёк, дорогой, конечно, освежись, – бормотала мама, а Васька уже обувался и открывал дверь в подъезд. Ушел, больше никому ничего не сказал, только Тишке, чтобы бежал за ним.
После этого наше внезапное собрание как-то само собой кончилось. Все разошлись по комнатам. Молча. Я отправилась в садик за Сашкой. Тетя Зина со мной.
Потом все вместе решили пойти на родину. Ну как решили, просто вдруг оказалось, что мы идем к старому дому. Васька был там. Он сидел на земле, прислонился спиной к самой старой яблоне – китайке. Маленькие ароматные яблочки висели на дереве, лежали на земле. Иногда какое-нибудь из них срывалось и падало, задевая листья. Листья шуршали, потом был слышен глухой стук от удара о землю. Одно яблоко чуть не попало на Ваську, а он даже не шевельнулся. Тишка вскочил и радостно побежал нам навстречу. Представляю, как ему скучно, если они так и просидели тут все это время.
Мы с Сашкой принесли из дома корзину и стали собирать в нее яблоки, дома насушим. Или варенье мама сварит. Правда, непонятно уже, куда эти банки ставить. Раньше хоть подполье было, а теперь что? На балконе зимой замерзнут, в квартире тепло, да и поставить некуда – все пустые места под нашими кроватями уже заняты другим вареньем. Тетя Зина села рядом с Васькой и сказала:
– Конечно, ты прав, я с тобой не собираюсь спорить. Трофим Савоськин был герой. Он воевал, ходил в разведку. Сбежал из дома на фронт. Мог бы остаться, его никто не гнал. Он наврал немного с возрастом, тогда только взяли. Храбрый был. Это всё так.
Она говорила тихо, но все равно я хорошо слышала, хоть и не прислушивалась, а собирала яблоки и таскала за собой корзину.
– Может быть, ты считаешь, что герои – счастливые люди. А он не был счастлив. И все, кто рядом с ним, – мы с мамой, его сестра Катерина, это ваша родная прабабушка – жили с ним несчастливо. У него же было дополнительное испытание. И ему было тяжело. И всем остальным.
– Какое? – Васька спросил, а сам даже не посмотрел на тетю Зину.
– Вот это самое. Когда тебе никто не верит.
– Но почему, почему? Потому что он пил?
– Нет. Я не знаю. Сначала просто не верили. Потом – потому что пил. Может быть, он пил, потому что ему не верили. Все как-то очень непросто.
– А почему? Но как? Он же герой! Он же знамя!..
У Васьки сегодня определенно не хватало слов. Но в этот раз он хоть перестал смотреть в сторону. Зато тетя Зина отвернулась к дому. Но все равно ее было слышно хорошо, даже с пяти шагов, вот что удивительно.
– Когда он умер, я думала, быстро его забуду. Ты знаешь, он такой был… Беспокойный. Особенно когда выпьет. Да и так – тоже. Придет к кому-нибудь в огород, вырвет из земли луковицу, дальше идет. Или наломает веток смородины, ягоды неохота было срывать, он вместе с ветками. И никто ему слова не мог сказать. Он бы этим же разворотом – в зубы. Такой был… Обозленный. Ну и дома я старалась держаться подальше.
Она замолчала, а мы уже собрали все яблоки и присели рядом. Сашка положил мне голову на колени, я его гладила. Васька смотрел то на нас, то на тетю Зину.
– Ну? – не вытерпел он.
– Он с войны же не сразу пришел. Его как героя повезли в Москву, оттуда – к Сталину на дачу. Там сказали, что надо молчать, не говорить никому о том, что это он повесил знамя.
– Почему? – спросил Васька.
– Он в самом деле там… Он в самом деле там к кому-то приставал? – спросила я.
– Нет, вот уж это нет. Женщин не обижал. На нас с мамой мог кричать, но пальцем не тронул. Замахивался несколько раз, но останавливался, ни разу не ударил. Орал страшно. Страшно. В трех домах слышали соседи. Но если узнавал про такое, кто женщин обижал, мог пойти разбираться, всех защищал. От этого вашего Богдана он бы места не оставил живого.
Вот как, оказывается, тетя Зина знает про Богдана. Мне прямо жарко стало, когда я это поняла.
– Но его обвинили в этом. Понимаешь? Посадили. Поэтому он вернулся через несколько лет после войны.
– Через четыре, – сказал Васька.
– Четыре, да? Значит, четыре. Ему сказали, что он должен молчать двадцать лет. А в это время все газеты написали, что там были другие герои.
– Егоров и Кантария, – снова Васька сказал, речь стала возвращаться к нему.
– Вот. Они. А он оказался как будто ни при чем. Может быть, он из-за этого стал пить. Потом, через двадцать лет, кому-то сказал, ему никто не верил. Тому сказал, этому. Никто не верит.
– Но он же не врал! – крикнул Васька. Сашка подскочил даже, а Тишка порычал немного.
– Вот представь. Все вокруг говорят, что Егоров и Кантария поставили знамя. Есть фотографии. Все газеты пишут, по радио говорят. А ты живешь рядом, так же, как все, работаешь на заводе. И ничего не говоришь. И это продолжается двадцать лет. Целая жизнь. Все привыкли. А потом вдруг оказывается, что это не так. Поверишь ты?
– Трофиму бы поверил, наверно.
– Если бы получилось. Трофим пьет, дерется. И вдруг – герой! Поверил бы?
– Поверил, – сказал Васька, но уже не очень уверенно.
– Хорошо. Ты бы поверил, а твои одноклассники могли бы не поверить. Так?
– Ну.
– Так все и вышло. Никто не верил, а Трофим становился все злее. Никто к нам не ходил, мама много работала, нарочно, чтобы поменьше его видеть. Я у подруг была после школы, приходила только ночевать. И это тоже его злило. Он же видел, что нам его тяжело любить.
Мы молчали. Сашка лежал и водил рукой по яблоневым листьям.
– Осень? – спросил он. Я снова погладила его по голове.
– Когда он умер, я его каждый день вспоминала. Проснусь ночью – тихо, никто не кричит. Вскочу проверить, дышит ли отец. Такое случалось, когда он еще был жив. Не слышно, дышит или нет. И после смерти я ночью пугалась: что с ним? Потом вспоминала, что он умер и давно на кладбище. Каждый день вспоминала. Потом стала думать: что-то я давно про отца не думаю. И понимаю, что это я так вспоминаю. Очень долго, много лет.
Быстро темнело. Если так пойдет дальше, то мы все ноги переломаем по дороге домой. Но никто не думал вставать с земли, никто не собирался уходить. Мы сидели, и тетя Зина вспоминала своего папу, Трофима Савоськина. И в этих ее воспоминаниях он был обыкновенным человеком, совсем не героем, не в форме, а в старом сером пиджаке, в кепке, ходил, выпятив грудь, свистел сквозь пальцы, матерился. Потом он немного успокоился и помолодел, смотрел на совсем маленькую дочку с нежностью, катал на плечах, делал на ложке конфеты из жженого сахара. Ловил рыбу из проруби, приносил домой грибы из леса, а однажды – цветы из соседского сада. Наконец-то я поняла, какого Трофима я люблю. Вот такого – простого, как папа, дядя Игорь или дядя Толя. Такого, каким может когда-то стать Глеб, Васька, Сашка.
Потом тетя Зина замолчала, и мы поняли, что сегодня больше мы вряд ли что-то услышим про нашего прадеда. Васька включил фонарик и направил его вверх. Никогда я не могла догадаться, что ранней осенью так здорово смотреть на маленькие яблоки китайки в свете фонаря.
Сад имени т.с.У меня болит правая рука, вся кисть. Особенно там, где костяшки торчат, если сжимаешь кулак. У меня торчат, но вчера косточка среднего пальца как-то подозрительно лежала. Мы с мамой съездили в больницу, мне там ее обратно поставили. Но все равно больно до сих пор. И еще не скоро пройдет, так врач сказал. Потому что драться не надо – добавил. А мама ответила, что мы сами разберемся, драться или нет. И мы поехали домой. Я сначала ей говорить не хотела, но рука очень уж болела. А мама – ничего, кажется, хотела поругать, по крайней мере у нее такой был вид, но не стала.
Еще у меня болит плечо или спина, не знаю, как правильно. И спина, и плечо, так, наверно. Врач сказал, это потому, что мне пришлось высоко тянуться, чтобы нанести удар. Богдан-то выше меня. Так это называется правильно – нанести удар. Всего один раз двинула, а какие последствия; не знала, что так бывает.
Не знаю, не могу понять, жалею ли я о том, что ударила его со всей силы. Своей руки мне точно не жалко. Ну, сейчас не очень, посмотрим, что будет потом. А Богдана иногда становится жалко – я здорово, наверно, врезала ему по челюсти. Наверняка, раз у меня вся рука болит уже второй день. Не думала, что могу взять и ударить человека при встрече. Да еще с такой злостью. Очень странное чувство, и говорить об этом совсем не хочется. Но Васька, конечно, меня десятый раз, наверно, спрашивает, как это было, да где мы с Богданом встретились, да упал ли он. Или хотя бы пошатнулся.
– Нет, – говорю, – не упал. Но пошатнулся. На девчонку.
– А она?
– А она встала потом между нами, чтобы мы не дрались. И мы не стали.
– А ты?
– Ну, я ему сказала, чтобы катился быстрее. В темпе вальса.
– Так и сказала?
– Ну да.
– А он?
– Девчонка эта хотела меня за волосы схватить, но он не дал. А я ей сказала, что он гад. Потому что приставал ко мне.
– Гад! – соглашается Васька, хотя не очень понимает, что это значит, думает, просто дрался со мной. – Вот я его встречу!
– А она сначала сказала, чтобы я заткнулась. А потом его все равно спросила: правда, что ли? Он не ответил, но она его все равно сама ударила.
– И она?
– Только не кулаком, а так. Ладонью.
Вообще, наверно, стоит Богдана пожалеть. За три минуты с двух сторон прилетело. Но мне вчера его нисколько не было жалко, я только злилась, удивительно, откуда столько взялось злости. Никогда не думала, что я такая. Может, и не стоило его бить, летом ему от Глеба досталось, а теперь – от меня. Но я не успела об этом подумать заранее, просто у меня сама рука поднялась, когда я его с той девчонкой увидела. Я как-то сразу вспомнила, что прошлой осенью, год назад, мы в секции подрались, и что он мне юбку задрал, и как мы с Глебом перестали ходить на шахматы. А тут – идет, улыбается. И еще я подумала, что он точно так же может поступить и со своей подружкой. Очень быстро это все у меня в голове сложилось, может быть, всего за секунду. Или даже быстрее. Глеб проводил свой первый мастер-класс этой осенью, я сидела там, даже с кем-то поиграла, а потом пошла на улицу, у меня от духоты заболела голова, и я вышла. Дверь открываю, а там – Богдан. Он удивиться не успел, как я к нему подскочила и дала в челюсть. Кажется, это была челюсть, мне толком и разобраться не удалось.
Так все и вышло. Неожиданно.
Васька, конечно, рассказал всем в своем классе, что у него сестра девятикласснику саданула, пришел такой радостный сегодня из школы. Сияет прямо. Забыл, похоже, что завтра наш старый дом должны сносить. Но я ему напомнила. Он сразу скис.
Мы решили попрощаться с ним как следует. У подъезда встретили Глеба с Димкой, они решили идти с нами, переодеваться даже не стали. Правда, через пять минут Димке позвонила мама, и он убежал домой. По-моему, это к лучшему, что убежал. Это же наш дом, и мы сами тут разберемся. Хорошо, не пришлось ему это говорить, вчера, когда мама так врачу сказала, я подумала, что это не очень-то приятно звучит. Хоть и не поспоришь – с некоторыми вещами надо разбираться самим, без посторонних.
Мы с Васькой сидели на крыльце, Тишка лежал рядом, а Глеб сходил в дровяник, притащил две лопаты и несколько ящиков. Посмотрел на нас и сказал:
– Пойдем.
Что он придумал?
– Ты какое дерево любишь? – спросил меня Глеб.
– Все люблю.
– Какое?
– Рябину.
– Понятно. А ты?
– Сирень.
– Угу. Так, Сашка – жасмин. Мама – смородину, папа – черноплодку. А я – вот, – и он начал выкапывать маленький ствол китайки.
Хорошо, что мы нашли у всех наших любимых деревьев и кустов такие же саженцы. Братья выкапывали их осторожно, чтобы не повредить корни, и пересаживали в ящики. Я помогала: правой рукой держала ствол, а левой подсыпала землю. К вечеру мы перетаскали все ящики, то есть, конечно, это Глеб с Васькой таскали. А я приклеила на них бумажки, где криво, левой рукой, написала про каждое дерево, где оно росло и как называется. Глеб приколотил фанерку к бруску, брусок воткнул в один из ящиков, получилась небольшая табличка на подставке. На ней я написала синим фломастером: «Сад имени т. с.».
– Надо было «т» и «с» большими делать, – сказал Васька.
– Все правильно, это не Трофим Савоськин. А это – сад имени того сада, – объяснил Глеб. – Так ведь, Свет?
Конечно, так и было. Я это придумала, а Глеб понял без объяснений. А Васька заулыбался, значит, согласен.
Ночью мы еще раз побывали в своем саду, обошли с фонариками весь дом, забрались на чердак, посмотрели сверху на старый колодец. Завтра тут все изменится. Мы нарочно не пойдем домой из школы, нас будут ждать тетя Рая и дядя Игорь. Они привезут нас домой, когда будет темно, и тогда мы еще какое-то время не увидим, что нашего старого дома больше нет.
С самого утра его начнут разбирать. Может быть, снова с бульдозерами. Мама сказала, что деревья постараются не затаптывать. Сад имени Трофима Савоськина тут все-таки утвердили, так что растения уберут только старые или те, которые будут мешать их технике. А остальные оставят. Но все равно мы правильно сделали, что выкопали немного. Весной их можно будет посадить тут, на их родине.
Мы развели костер, пожарили хлеб на палочках. Дядя Толя увидел огонь из окна, вышел сонный, сказал:
– Все равно уже ничего не сделаешь, чего душу-то травить.
Но постоял рядом, потравил немного. И ушел. А мы остались еще, пока совсем не замерзли. Ночи уже холодные, иней на траве держится с позднего вечера до полудня, изо рта идет белый пар, мама по утрам следит, чтобы мы не забыли дома шапки. Надевать не заставляет, но настаивает, чтобы хотя бы положили их в сумки.
Послесловие автора
Послесловие – такая странная штука. Зачем его читать? Автор что, сразу не мог сказать все, что хочет? У него же была целая книга!
Поверьте, автору так же странно писать послесловие, как читателю – читать его. Я пишу его только с одной целью – рассказать о Григории Булатове.
На самом деле я придумала имя Трофим Савоськин. Но вся история с флагом и героем, который первым прорвался на Рейхстаг, была. Звали героя Григорий Булатов.
Во время Великой Отечественной войны Григорий Петрович служил в разведывательном взводе. 30 апреля 1945 года он участвовал в штурме Рейхстага. Вместе с Виктором Правоторовым он установил красное штурмовое полотнище своего полка в окне второго этажа. Но командир взвода лейтенант Семён Сорокин посчитал, что знамя видно плохо. Тогда Григорий Булатов закрепил красный флаг на конной скульптурной композиции на фронтоне над главным входом. Это был первый советский флаг на крыше Рейхстага, и он провисел там девять часов.
В пол-одиннадцатого вечера флаги над Рейхстагом установили другие группы разведчиков. Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили официальное, не самодельное знамя 1 мая в третьем часу ночи. Днем 1 мая над Рейхстагом развевалось больше сорока флажков и флагов. Фашисты подожгли Рейхстаг и посбивали все, что было красного цвета, на Рейхстаге. Тот флаг, который водрузили Егоров и Кантария, уцелел. 2 мая они перенесли его на купол Рейхстага.
Первое время о Григории Булатове говорили как о герое. За этот подвиг его должны были наградить звездой Героя Советского Союза. Но через несколько дней знаменосцами Победы стали называть Алексея Береста, Михаила Егорова и Мелитона Кантария. Так родился один из мифов советского периода.
А Григория Булатова наградили Орденом Красного Знамени и заставили молчать о своем подвиге двадцать лет. Через двадцать лет никто не верил бывшему разведчику, который уже крепко выпивал. В городе Слободском, где он жил, Булатова прозвали Гришка-рейхстаг – за то, что пытался рассказать свою историю.
В 1973 году Григория Петровича Булатова нашли повешенным. Ему было только сорок семь лет.
Как бы сложилась его жизнь, если бы об этом подвиге знали все, если бы не смеялись над ним, а принимали как героя? Для чего было нужно, чтобы жизнь Григория Булатова сломалась? Не знаю, сможем ли мы ответить на эти вопросы. Но давайте хотя бы помнить о том, что такой человек был. О том, что он был первым.
Конечно, мимо этой истории не пройдешь. Про Григория Булатова написано уже немало, и если кто-то захочет узнать о нем – обязательно это сделает. Почему же я написала эту книгу? Мне захотелось подумать, как чувствуют себя люди, которые узнают, что их родственник – герой. Да еще какой!
И последнее. Работать над книгой мне помогли Людмила Григорьевна Пырегова, дочь Григория Булатова, и Наталья Валерьевна Лихачёва, заведующая Центром патриотического воспитания им. Григория Булатова МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина». Спасибо им!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.