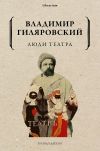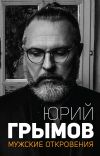Текст книги "Изобретение театра"

Автор книги: Марк Розовский
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Никогда раньше человечество не нуждалось так в новой культуре Возрождения, как сейчас. Но нынешний Ренессанс должен быть особый – у него меньше радости и энтузиазма, его активность и высота в единичных изъявлениях.
Говорили, что когда Высоцкий играл Гамлета, он выступал не только от своего актерского «я», но еще и «от имени поколения».
Вот нам надо попытаться встать в этакую позу. О нет, я не призываю вас к пресловутой «гражданственности», но исполняя «Ромео и Джульетту», мы сами должны помнить о том, что происходит сегодня на нашей улице и особенно – не на нашей.
Мне хотелось бы сделать «Ромео и Джульетту» спектаклем, наткнувшимся на наше время – чтобы Шекспир был услышан… Этакий Шекспир во время чумы.
Кстати, задумаемся: действие «Ромео и Джульетты» – в XIV веке, а пьеса написана в 1595 году. Следовательно, Шекспир УЖЕ ТОГДА писал, как бы мы теперь сказали, «историческую пьесу». Ну, представим себе, скажем, Вампилова, написавшего пьесу из жизни два столетия назад – в XVIII веке. Это значит, что «костюмность» Шекспира весьма условна, да и места действия – Верона и Мантуя – чисто театральная выдумка. Почему, простите, у Пастернака эти итальянцы говорят друг другу «сэр»? В других переводах бывают «сеньоры», но ведь не в этом же дело. В чем же?..
В театральной игре как сути происходящего. В том, что наша декорация не будет иметь точных опознавательных знаков времени, зато она правомерно подскажет зрительскому воображению ассоциацию с арками и мостами Италии, создаст визуальный образ совершенно ирреального пространства, читаемого как явное, абсолютно не отвлеченное, генетически связанное с дворцом и с площадью.
Таким образом, буквально «площадное», улично-балаганное свойство будущего представления в основном и составит поэтику игры, в которой актерам предстоит рассвободиться вплоть до импровизаций, не нарушающих текстовой массив Шекспира, а как бы продолжающих текст в жесте и мизансцене. Вознаграждением нам будет спокойное отношение публики, которое не сумеет (или не успеет) отличить наши дополнения от первоосновы. Когда в театре победа, – нет обвинений в отступлениях. И тут, как ни парадоксально, на этом пути мы обнаружим гораздо большую верность Шекспиру, нежели можно было о нас подумать.
Заметим, в персонажной системе «Ромео и Джульетты» отсутствуют всякие ведьмы, духи, призраки, эльфы, фавны и прочие феи и гоблины… Их полно в других пьесах Шекспира, который пытался совместить неизжитое в его время языческое народное сознание с уже победившим, проникшим во все щелки христианством, которое предлагало более «цивилизованную» метафизику, заменяя драконов, великанов, русалок, оживших мертвецов – весь этот вполне современный бред триллеров – на устойчивые образы святых и ангелов. Европа приспособила культуру архаики для своих духовных нужд, – элемент фантазии вошел в новое мышление общества, которому стали необходимы поэты, украшающие реальность своими видениями. Шекспир, в сущности, писал сказки, но это сказки для театра, то есть изначально автору хотелось представить воочию выдуманную жизнь, дать современнику визуальную забаву.
Конечно, кроме фольклорно-языческой традиции на Шекспира влияла и античность с ее ошеломительным густонаселенным фантазмом, однако Шекспир скорее пользуется отголосками античности, не приспособляя ее образную систему к своему мироощущению. Наш автор – прежде всего поэт, колдующий действие с помощью слова, – ход простроенного сюжета ему так же важен, как словесная вязь. Нам интересен орнамент, но еще более интересно развитие событий, драматургия истории.
В «Ромео и Джульетте» действуют ЛЮДИ и только люди. Между тем эта пьеса воспринимается как сказка, как миф – столь сильна в ней железная архитектоника вымысла, ставшего бестселлером на все времена. Однако назвать «Ромео и Джульетту» только «сказкой» было бы негодным упрощением. «Ромео и Джульетта» – лучшая в мире пьеса о любви. Боже, прости это банальное определение. Но лучше быть банальным, но точным, чем оригиналить без всякого попадания.
Тем более что формула «о любви» невероятно загадочна, она содержит совершенно нерешаемый ребус, хотя бы потому, что «любовь» всегда единична и непохожа в своей бесчисленной вариативности на какой-либо стереотип.
Это абсолютно многоформное проявление как животных, так и человеческих чувств. Любовь – как музыка: нот всего семь, а мелодий (в том числе дисгармонических) миллиард. Десять, сто миллиардов… Никто не сосчитает…
И между тем в «Ромео и Джульетте» достигнуто впечатление, будто это лично моя история.
Фокус в том, что «я» никогда не был тем Ромео, который действует в спектакле, но я буду им, если приду в театр обыкновенным зрителем. Шекспир каким-то необъяснимым образом добился магнетического сопереживания своим героям, у этого уникального опыта есть только подтверждения (разной силы воздействия, разумеется, разной степени талантливой интерпретации).
Чтобы распознать меру любовной чувственности Шекспира нам, конечно, надо перечитать все его сонеты – там изощреннейшая красота слога сопряжена с тем, что считается стыдом, отклонением плоти, и вместе с тем возбуждает во мне такую чувственность, которая разве что снится… Хорошо бы каждому нашему актеру (актрисе) выучить хотя бы один сонет. Самому выбрать и потом прочитать… Это хорошая подсобная работа, и она, убежден, будет очень полезна всем участникам нашего представления, ибо введет нас в миры интимные, полузапретные, но живые, как сама страсть. Шекспир был, конечно же, свободнее нас, но удивительного в этом нет ничего: поэт тем и поэт, что сам творит свою свободу, сам осуществляет себя, теряя разум, погруженный в обыденное, низвергая и воспаряя в ад и рай своих пороков и наслаждений.
Кстати, о пороках… Не было бы их, не было бы у нас ни Шекспира, ни Достоевского, ни Генри Миллера… Драма возникает на волне человеческих падений, судимых Богом, то есть высшим знатоком, что есть зло, что добро. Смотря спектакль, мы приобщаемся к этому занятно, к многоходовой ассоциации нашего подчас ошибочного или неясного сознания с этим ВЫСШИМ. Трагедия вырастает из постижения идеала, безупречная нравственная норма которого была недостижима до Шекспира, во времена Шекспира и, к сожалению, в наши дни. Балансируя между дегуманизмом и торжеством пороков в прошлые, настоящие и будущие времена, драма остается всегда современной, ибо ее поэтика оказывается годна как вечный, непреходящий пример человеческой недоразвитости. Попранный дух служит укором и назиданием любым поколениям. Несомненно одно: у Шекспира это назидание художественное, у других поэтов и драматургов оно менее чувственно, менее философично, менее… Да что там говорить, просто менее талантливо.
Вот почему в театре получают удовольствие прежде всего люди запутавшиеся, люди, НЕ ЗНАЮЩИЕ ни Христа, ни Истины. Театр полезен более всего для преступников. Но поскольку каждому человеку приходилось совершать преступления во сне или в подсознании, поскольку порок сидит глубоко в каждом из нас и в лучшем случае не пускаем наружу, поскольку человеческое «я» подвержено искушениям и редко противостоит им, театр удовлетворяет так называемую «жажду прекрасного», в легкой эффектной форме представляет житейские конфликты, дабы обеспечить их обобщение, их образную мощь.
Вот в чем преуспел Шекспир!.. Вот где ему нет равных!.. Считается, что жанр «трагедии» был промежутком между «эрой эпоса» и «эрой романа», особенно утвердив себя в XVII веке. Тут хорошо припомнить Мейерхольда, который, когда потерял театр, на вопрос, что он будет теперь делать, гениально ответил: «Буду писать роман „Гамлет“!..» Шутки тут нет. Каждая пьеса Шекспира (или почти каждая: не знаю, я не шекспировед!) имела первооснову, которую наш Автор как бы инсценировал. Он творил для театра то, что ранее для театра не предназначалось. Это значит, что мы всегда имеем дело с айсбергом, где пьеса Шекспира только надводная часть. Представим себе, что мы ставим инсценировку романа «Ромео и Джульетта» – нам сразу будет легче анализировать, мы будем чувствовать себя гораздо более свободно при этом анализе. Нам понадобятся домыслы, но все они будут обоснованы, так сказать, опричинены, наш труд сразу возымеет красоту и ценность ОТКРЫВАНИЯ того, что не торчит из текста, зато связано с подтекстной поэзией. Эта методология работы над спектаклем станет чрезвычайно плодотворной, если мы полюбим наш перевод. Вообще существует по крайней мере три великолепных перевода «Ромео» на русский язык. Мне нравится Лозинский (весь), Щепкина-Куперник (местами) – там есть изумительные звучания. Хрестоматийные строки
«Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте»,
несомненно, лучше звучат по-русски, чем в первоисточнике, эти золотые буквы ведь надо было когда-то придумать, составить вместе… Блеск, шедевр безупречного искусства. Но мы берем пастернаковский перевод – не потому, что Борис Леонидович – нобелевское имя, а как раз потому, что в его переводе искусства не меньше, но он не ласкает пока слух хрестоматийностью, от которой в силу затасканности может произойти глухота восприятия. Ведь банальное не только ласкает, оно еще и убаюкивает. Кроме того, Пастернак лучше всех, как ни странно, чувствует сочность разговорного языка, о чисто поэтической части смешно говорить, неудобно давать оценки… Думается, что Пастернаку с его классичностью будет наиболее соответствовать и Петр Ильич Чайковский, чью музыку мы берем для нашего спектакля также совершенно сознательно: это не музыка, это больше, чем музыка… В ней любовная услада переходит в бурю страстей, слышны клинки и стоны на похоронах… Там рок судьбы обозначен как нечто романтическое, угрожающее нормальному человеку. В этой музыке, может быть, нет одного-единственного не шекспировского компонента – юмора. Она сплошь серьезна… Что ж, значит нам, артистам, придется существовать довольно часто в контрапункте с этой серьезностью, но так же и соответствовать ей. Говоря о «соответствии» я не пугаю вас Шекспиром. Я только зову вас в пространства гармонии. Я хочу, чтобы мы все прониклись жаждой смысла и чтобы нас не повело в идиотическое переосмысление каждого слова обязательно наперекор всему и вся. Когда-то Козинцев в холодном Петербурге хотел ставить пантомиму по «Гамлету», где убийство отца должно было состояться с помощью тока высокого напряжения, исходившего от телефонной трубки!..
Но Козинцеву, во-первых, тогда было 18 лет, и он организовывал в Питере Фабрику эксцентрического актера – сокращенно ФЭКС, поэтому ему, будущему знаменитому постановщику Шекспира – это было простительно.
Нам такие подходы никто не простит… Да и выдумывать подобные штуки очень легко. Как вы знаете, я их могу производить «по тыще в день»… Ну хорошо, не «по тыще», но уж по десятку – точно…
Нет, как говорил один вождь, имевший, между прочим, по трагизму шекспировский финал жизни, «мы пойдем другим путем»… Нам надо распознать эту пьесу во всех подробностях. Как, впрочем, любую другую пьесу. Нам должно быть «в кайф» открывать текстовую канитель, распутывать ее нитки и ниточки, узелки и завитушки… Это как наркотик, хотя я не знаю, что это такое, но слышал, будто наслаждение несусветное…
Вот, скажем, сцены со слугами… Они же – все! – написаны прозой. То есть «бары» говорят возвышенно, а слуги – как мы. Это – прием. Но ритм стихов – один, а прозы – другой, он тоже есть…
– Не на наш ли счет вы грызете ноготь?
– Грызу ноготь, сэр.
– Не на наш ли счет вы грызете ноготь, сэр?..
И далее:
– Нет, я грызу ноготь не на наш счет, сэр. А грызу, говорю, ноготь, сэр.
– Вы набиваетесь на драку, сэр.
– Я, сэр? Нет, сэр.
Тут все дышит ритмом. Все – музыка. Это легко играть, потому что автором все сделано для актера, все преподнесено и положено в рот… Но именно поэтому это играть и неимоверно трудно. Эту музыку надо сделать своей, а не авторской. Какие, к черту, сэры в Вероне, в итальянской провинции, да еще в среде слуг?.. Среди «мужичья», как секундой позже говорит Тибальт… Но уберите «сэров» из текста, все сразу исчезнет!.. юмор исчезнет, конфликт исчезнет… Какие еще Абрамы в Италии?.. И как грызть ногти – сплевывая или не сплевывая?.. Если сплевывая, то на кого? На лежащего или стоящего?.. Конечно, лучше, если на лежащего, не так ли?.. В театральном смысле мизансценически лучше… А это значит, что «лежащий» может ответить на оскорбление, подставив «ножку» обидчику… Вот так, из ничего, из дурацких слов, как бы случайных, как бы малозначащих вырастает мизансцена в действие…
Я привел один пример, а их мы будем иметь преогромное множество.
Вот, к примеру, загадка. Драматург не написал сцену, где бы во время бала произошло знакомство будущих влюбленных. То есть в стене нет главного кирпича. Отсутствует эпизод, с которого стартует неистовая любовь. Что это?.. Просчет молодого, недостаточно опытного драмодела?.. Или – сделано нарочно, чтобы мы домысливали происходящее… Ведь первый контакт возникает как игра одетого монахом Ромео, который лезет с поцелуем и получает за свое нагловатое поведение пощечину. Нам предстоит «замотивировать» дыру. В сцене бала нам надо будет придумать пантомимический эпизод – самое логичное – ввести его в танец, и тогда танец станет драматургически необходимым действием, а не декоративным упражнением для показа ног и костюмов – эпизод, в котором мы ЗА ШЕКСПИРА пробуем показать героев, столкнувшихся с глазу на глаз, и теперь любовь, да-да, любовь с первого взгляда начнется и будет стремительно разворачиваться. Может быть, я самоуверен, но давайте обращать внимание на каждое слово, и мы вдруг окажемся первооткрывателями того, на что никто до нас не обращал внимания. Или обращал, но не придавал такого значения…
К примеру, что говорит брат Джованни в ответ на вопрос брата Лоренцо?..
Когда я был у брата, нашу дверь
Замкнули сторожа из карантина.
Решив, что мы из дома, где чума,
И не пускали, наложив печати.
Я в Мантую никак не мог попасть.
Следовательно, гуляющая, между героями «Ромео и Джульетты» чума явилась объективной причиной обстоятельств, приведших к трагедии. Да ведь это колоссальный подсказ для решения спектакля.
Нужно ли, тем не менее ИГРАТЬ ЧУМУ во все время представления?..
Если бы я был «ФЭКСом» 18-ти лет – непременно бы это сделал!..
Однако сегодня прямолинейность и бесперспективность этого «хода» мне очевидны. Вот это было бы вульгарным превращением ХОДА на место ГЛАВНОГО, хотя чисто зрелищные театральные эффекты «игра в чуму» нам безусловно дала бы. Нельзя на это соблазняться, ибо такое решение представляется «стебным», увлечет на дороги, с которых уже не сползти, помешает истории быть самодостаточной, а она, несомненно, такой является… Таким образом, иногда отказ, от зовущей к себе «новаторской» режиссуры, дается непросто, тут необходимы и мужество и культура.
Два образа (кроме, конечно, главных героев) мне представляются по крайней мере неясными по прочтении пьесы – это брат Лоренцо и Меркуцио.
Сначала о брате Лоренцо. Это, конечно, важнейшее лицо в персонажной системе. Удивительно, что в фильме Дзеффирелли это лицо почти отсутствует. Но то, что не вписалось в кино, для театра – ценность. Брата Лоренцо надо искать как Фальстафа – от него лучеиспускание исходит, он жизнелюбивее всех на свете, потому и помогает молодым, что собирает целительные травки, у него витальность страшная и этим он не монах, а скорее антимонах, берущий на себя вину за все случившееся… Прообразом был, вероятно, Святой Валентин, тот самый, чей день и сегодня отмечают влюбленные, и не только католики. Этот образ можно сыграть только если имеешь чувство юмора необыкновенное, когда чувствуешь – в природе свет и ты этим светом наполнен… Ромео тянется к нему как к Учителю, но не как к резонеру, он спасти может потому, что придумает как спасти – в этом его мудрость и живое участие в чужой жизни. Брат Лоренцо мудр, но сам – дитя. Сочность этого образа определяется безбожным выводом, к которому приходит наш священнослужитель:
Природа слабодушна и рыдает,
Но разум тверд, и разум побеждает.
А Меркуцио? Вот уж кто поистине неразумен! И кто по-настоящему умен. Тайна этого образа до сих пор не разгадана – и в этом его сила. Меркуцио – друг не хуже мушкетеров, но на поверхности его цинизма игра всерьез, не на жизнь, а на смерть, это один из первых в мировой литературе чудаков-антигероев, которые в решающие моменты жизни проявляют чудеса нравственности. У Меркуцио нет идеалов, кроме идеала верности – и это возвышает его падшую сущность до уровня юродивого, то есть святого, погруженного в игру. Непонятность (или непонятость) Меркуцио в несоответствии его речей и поступков, – мы ждем от него предательства, а он оказывается лучшим другом Ромео, хотя принадлежит к клану Князя, который «над схваткой» домов Монтекки и Капулетти. Впрочем, «ждем предательства» – это слишком сильно сказано, Меркуцио предположительно поэт, а не графоман, если воспринять его «сон» о королеве Маб – одно из высших достижений Шекспира-поэта и одновременно как бы «вставной номер» в поэтике трагедии. Суть образа в страхе Меркуцио «чтоб не истлеть живьем». У этой философии есть одна страсть – страсть поиска причины гибели, соединенная с интеллектом как способом понимания мира, его комплексной природы, взращенной в бурных проявлениях зла и добра. Меркуцио непознаваем, потому что то, что он говорит, бесконечно далеко от его сокровенного «я», жаждущего самоуничтожения в борьбе за справедливость, но не по-революционерски, а по-рыцарски. Меркуцио должен играть всегда лучший Актер Театра, дабы обеспечить нераскрываемую тайну этого образа, чья сердечность доказана самой Смертью, поджидающей и Джульетту и Ромео… Шекспир живописует в Меркуцио более всего самого себя – тут поэт приходит в несоответствие с Жизнью и жертвует собой, произнося главную авторскую мысль, ставшую ныне великим афоризмом:
– Чума на оба ваши дома!
Чума?.. Опять чума?
Зову я смерть.
Но почему?
Все мерзостно вокруг…
Сонет № 66 (к ужасу нашему, тут не хватает дьяволу третьей шестерки) зеркалит с образом Меркуцио – одинокого юноши, чувствительного к злодейству и имеющего дух ему противостоять.
Соль в том, что гибель Меркуцио нужна для потрясения нашего и Ромео, даже больше – для Ромео, – драматургия пьесы делается в этом месте с особой силой убедительной, ведь смерть Меркуцио готовит как нельзя жутче смерть самого Ромео. Жертвенность одного подталкивает к жертве другого… В том и состоит мастерство Шекспира-драматурга, что он в чисто поэтических мирах находит глубоко психологические мотивировки, любую свою выдумку обосновывает характерами, проявления которых всегда возникают не сами по себе, а в связи с действием, в связи с самыми неожиданными на поверхностный взгляд поступками. От героя ждешь того, что он не делает. Но, к счастью, делает то, что от него совсем не ждешь. Вот почему так прекрасны строки, произносимые в прологе:
Помилостивей к слабостям пера —
Грехи поэта выправит Игра.
В персонажной системе пьесы есть лица, отсутствующие на сцене, например, целый список гостей на балу в доме Капулетти. Вернее, они могут там находиться, но театрам, в том числе и нашему, вряд ли под силу создать соответствующую массовку. Однако там упоминается «прелестная племянница Розалина» в ряду других «виднейших красавиц Вероны». Это значит, что первая «зазноба» Ромео так же, как Джульетта, принадлежит к семейству Капулетти!.. Пьеса, таким образом, могла бы называться «Ромео и Розалина»!..
Но она ведь так не называется!..
Нам предстоит понять, почему Шекспир хитроумно конструирует свою драматургию, оставляя за пределами сцены ту, кто поначалу раззадоривает первые мужские желания мальчишки, приводит его в состояние полной боевой готовности к любви настоящей, а не только, как говорят нынче, к сексу. Шекспир совершенно сознательно убирает – вместе с Розалиной – со сцены, так сказать, историю ПРЕДЛЮБВИ, которая развивалась, между прочим, в тех же условиях непримиримой вражды «двух равно уважаемых семей» Вероны. В самом деле, разве линия «Ромео и Розалина» не могла стать в основе пьесы?.. Конечно, могла бы!.. Но это была бы ДРУГАЯ история и ДРУГАЯ пьеса. Хотя, может быть, и не хуже нашей. Подобные наблюдения – не скажу открытия – делают нашу работу интереснее, ибо из руды и шлаков достают драгоценные камешки, пока не обработанные, но чреватые блеском. И еще одна проблема будущего спектакля – бои. Передо мной стоит проблема, как показать на сцене войну семей, когда каждый день мы видим по телевизору войну современную, причем видим выборочно, так сказать, не всю войну, а лишь ее эпизоды и результаты. Как правило, в этих эпизодах отсутствует страсть. Мы видим чаще всего вялых, усталых солдат, в глазах которых страх смерти и никакого героизма. Трупы, валяющиеся у забора, тоже выглядят совершенно «не героично». Война в натуре своей скучна и совсем вне пафоса. Смерть на современной войне обыденна и страшна как раз этой своей обыденностью. Ожидание боя – часами, днями, неделями, месяцами… Сам бой состоит из соревнования сторон: кто раньше накроет прицелом, тот и победил. Лужа крови – не более чем лужа.
В театре не то. Здесь все приподнято. Здесь все по-рыцарски. Смерть – апофеозная часть игры. Она заведомо картинна, даже тогда, когда режиссер лишает ее патетики, он все равно как бы говорит: смотрите, я не настаиваю на поэтизации этого момента, я СПЕЦИАЛЬНО снимаю отличимость акта Смерти. В театре смерть всегда событие, переворачивающее движение сюжета, влияющее, часто кардинально, на все и вся. Смерть у Шекспира – знак несовместимости человека и обстоятельств жизни, в которые он погружен. Бой, драка, силовая ошибка персонажей означает кульминативную красоту драматургии, предназначенную для сопереживания, сочувствия… Поэтому бои и драки должны волновать зрителя. Тут мало наблюдать. Эти сцены надо сделать так, чтобы мы поверили: кровь – настоящая, смерть – это серьезно.
Для этого необходимо не только совершенное владение шпагой и своим телом. Самым сложным должно стать не технологическое мастерство, а умение сохранить характер в битве, не потерять в звоне клинков психологию взаимоотношений. Азарта и ярости будет предостаточно, но кроме всего этого потребуется чисто актерский профессионализм исполнения роли в момент обмена ударами. Вы справитесь с этими сценами, когда забудете о технологии и станете решать в бою действенную задачу. Этим будет проверяться исполнительский класс команды, ибо сегодня убить ПРОСТО ТАК легче, чем осмыслив свое поведение в смене предлагаемых обстоятельств. В игре пролитая кровь станет причиной не созерцания, а потрясения.
Огненноокий гнев, я твой отныне!
Умолкни, доброта!..
Бесноватый Тибальт, храбрец Меркуцио – два трупа в конце нашего первого акта, затем труп Париса и мертвые тела Джульетты и Ромео – «какой для ненавистников урок»!..
Шекспир множит смерти только для того, чтобы доказать бесценность жизни – высшего блага, посланного нам родителями как результат их Любви. Недаром говорится:
Бог есть Любовь.
В пьесе, которую мы ставим, эта истина доказана как дважды два.
Вот почему мы будем утолять людской голод, ставя эту пьесу. Голод на нежность, на страсть, на самопожертвование… Голод на нормальное человеческое изъявление плоти… Голод на верность и чистоту.
Вот две строки из последнего (№ 154) шекспировского сонета:
Любовь нагрела воду, – но вода
Любви не охлаждала никогда.
Согласимся с этим и… пойдем за водой!.. Не бойтесь, нас ждет во всех случаях хорошее приключение!.. Ведь вспомним: Шекспир творил для СВОИХ друзей, для своих актеров, работников «Глобуса». Эта труппа выстроила для себя театральное помещение и только в 1603 году сделалась королевской. Мне кажется, что с этого момента команда Шекспира была удостоена дотации.
Господа артисты театра «У Никитских ворот»!.. Да вы вдумайтесь: у нас ведь то же самое!..
Может быть, поэтому надо играть «Ромео и Джульетту» как нормальную современную пьесу. Повторю возглас, однажды прозвучавший:
Шекспир, помоги нам!
Давайте этот плакат переиначим:
Шекспир, мы тебе тоже поможем!
Шекспир, с сегодняшнего дня мы принимаем тебя в Театр «У Никитских ворот».
Враг Шекспира – архаика. Но нельзя быть новатором по собственному заказу. Нельзя ставить «Ромео и Джульетту» БЕЗ АВТОРА, только на самоутверждении! История постановки пьес Шекспира как нельзя лучше подтверждает бесконечную вариативность театра – каждый спектакль суть особая галлюцинация, воплощенная в явь. Шекспир при этом как, может быть, никакой другой автор требует режиссерской идеи, художественно-постановочного решения в духе «тотального театра» – то ли в силу своего поэтизма, то ли из-за невозможности однообразных трактовок. Иметь идею – значит уже сблизиться с Шекспиром, к которому раньше, казалось, и подступиться нельзя. Вот почему, например, Крэг лучше «воплощал» Шекспира в своих макетах, эскизах и гравюрах, нежели, собственно, на сцене. С другой стороны, иные шекспировские постановки (Брук, Холл, Охлопков etc.) стали ярче, когда про них написали с три короба критики… Но проблема не только в «идее» – режиссеру, берущемуся за постановку Шекспировской пьесы, надо быть «дураком, рассказывающим историю», то есть жизнь. «В ней много шума и ярости», как сказал Макбет, но «нет лишь смысла»… Следовательно, поиск смысла косвенно ставит нас в положение «не знающих и не понимающих», но стремящихся знать и понять. Необъяснимое в этом случае делается чрезвычайно важной частью работы, которая носит характер ПОСТИЖЕНИЯ. Лично я готов к тому, что наш спектакль провалится. Однако я не боюсь этого, ибо само сочинение этого спектакля сделает нас счастливыми. Собственное ничтожество не должно нас удручать – ведь с нами рядом будет стоять титан. Отсюда есть надежда и на успех. И успех этот будет нам карой за желание выполнить Шекспира в единственно «правильном» виде, то есть в нашем спектакле.
Я хочу сказать, что хочу быть таким «дураком».
Да и все мы наверняка захотим… Что-что, а это у нас получится, можно не сомневаться! И тогда…
Наше новаторство должно произойти само собой, благодаря въедливому постижению миров этой пьесы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.